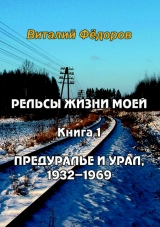
Текст книги "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969"
Автор книги: Виталий Федоров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 61 страниц)
Глава 15. ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
Зима 1945–1946 гг не принесла на улучшения как в питании, так и в «обмундировании». Обуты мы все были в лапти, которые промокали от любой сырости, хотя многие пытались к их подошвам приколачивать деревянными гвоздями кожаные латки. Это придавало подошве некоторую прочность, износостойкость и небольшое утепление. А весной, в сырое время года прикрепляли к подошве лаптей специальные «каблуки» четырёх-пяти сантиметров высотой, но не как у дамских туфель – под пяткой, а ещё и под носком. Два таких «каблука» прикреплялись к лаптю лыком через вырез.
Дядя Семён Суслов знал наши беды с обувью и как-то письмом попросил, чтобы мы собрали дублёной кожи животных – пусть даже кусочки – и принесли ему. Он был мастер на все руки! Мы с мамой собрали всё, что у нас было, и кое-что взяли у родственников. В весенние каникулы я отправился в Балезнино дня на три. Встретили меня хорошо. Дядя Семён сразу взялся за работу. Дни я проводил с двоюродными сёстрами и братьями. В лапту на этот раз не играли, так как на улице ещё не весь снег растаял и была слякоть.
На второй день я пошёл в гости к тёте Марусе. В этот раз она меня угостила красной рыбой – кетой. Я у них переночевал, а утром мы с двоюродным братом Женей отправились к Сусловым. От дома тёти Маруси до Сусловых довольно далеко, но дорога была относительно сухая, к тому же в этом направлении вела железнодорожная ветка – тупик в лесхоз. По ней больше ходили пешеходы, нежели поезда. Во всяком случае я ни разу не встречал там поезда. С Женей мы решили двинуться в путь не пешком, а проехать на детском трёхколёсном велосипеде! Нас не смущало, что велосипедик был мал уже и Женьке, не говоря уже обо мне. Он крутил педали, а я пытался подъехать, стоя на задней оси. Велосипед не вынес такого обращения, потерял равновесие, и мы упали. К счастью, велик не сломался. Мы поднялись и, смеясь, пошли пешком, неся своего «коня» на руках. Мы добрались до места, разглядывая пейзаж по сторонам – сплошные штабеля брёвен. Женя денёк погостил у Сусловых и, забрав своё транспортное средство, ушёл домой. На велосипеде этом позже каталась сестра Жени – Галя.
Дядя Семён в «мужском» разговоре со мной предложил мне несколько папиросок, сказав:
– Пойдёшь в армию, всё равно курить будешь!
– Наверное, – согласился я. Мне уже был знаком вкус табака, ведь я баловался ещё в десятилетнем возрасте. Но папиросы были для ребят нашей деревни чем-то необыкновенным. Даже пепел папироски съедали, завернув в листок подорожника – какая глупость! Но так было. В последние года два я не курил, но от папирос отказываться не стал.
Время было вечернее. К нам подошла Алевтина и предложила мне пойти с ней в кино. Я с радостью согласился. Около кинотеатра её ожидал прилично одетый молодой человек интеллигентной наружности. Аля меня с ним познакомила. Его звали Виктором. Он уже купил билеты, а о «третьем лишнем» не догадывался. Пришлось ему вторично подходить к кассе. Моё место оказалось отдельно от них, но я был рад любому. Я уселся на своё место и увидел и услышал то, чего никогда ещё в жизни не доводилось – звуковое, настоящее кино! До этого в деревне я пару раз видел только немые фильмы. Рукоятку киноаппарата там вращали вручную желающие, а киномеханик иногда сам давал к фильму комментарии. Кино, на которое я попал в Балезино, было индийским и называлось «Маленький погонщик слонов». Я был в восторге!
Мои спутники после окончания фильма подошли ко мне и предложили ещё один билет на другой сеанс. Я согласился и даже обрадовался, что ещё одну киноленту посмотрю. Увы, фильм оказался тот же самый. Это меня удивило и чуточку огорчило. И всё равно я смотрел с интересом и досидел до конца. Зато хорошо, «на многие лета», запомнил сюжет.
Этот сеанс был последним, и люди выходили из кинотеатра и сразу расходились по домам. Было уже около полуночи. А моих «спонсоров» и след простыл. Я решил их не ждать (что тут ждать, одному возле кинотеатра?) и отправился домой к Сусловым. Шёл по железнодорожному полотну, мимо штабелей древесины. Вдруг вспомнил о папиросах в кармане. Лучшего места и времени покурить не придумаешь! Сел на одно из брёвен и закурил. Сижу, пускаю дым, понемногу балдею и слышу чьи-то шаги. Оказалось, это сестра Аля шагает одна. Я и папиросу не затушил, увидев её. Она же удивилась и обрадовалась. Удивилась, что я курю. А обрадовалась – меня нашла. Мы же с ней вдвоём ушли в кино и должны были вместе вернуться. Аля стала допытываться:
– Откуда у тебя папиросы?
– Мне их дал дядя Семён, – наивно ответил я.
– А ты знаешь, что это вредно мальчикам?
– Нет, почему, все мужчины курят.
– Но ты ещё далеко не мужчина.
– Мне уже тринадцать лет, – с гордостью заявил я.
– Ой, как много! Может, и жениться уже собрался?
– Нет, – ответил я, покраснев. К счастью, было темно, и она не заметила моего смущения.
– Ладно, завтра разберёмся.
Так мы с ней дошли до дома, переговариваясь. И, не зажигая света (все уже спали), улеглись каждый в свою постель.
Наутро Аля свела нас с дядей Семёном на очную ставку. Радовало, что она проходила без свидетелей. Не хватало ещё беспокоить из-за меня тётю Анфису. Дядя Семён «во всём признался» и был прощён, а мне было немного стыдно за два своих проступка: за то, что курил, и что выдал дядю Семёна. Человек в семнадцать лет бывает бескомпромиссным и считает вправе судить других. Вот такой и была моя кузина Алевтина. Когда она отошла, оставив нас вдвоём, дядя Семён шумно вздохнул и произнёс: «Повзрослела дочь!..» Но было непонятно, радуется он этому или сожалеет. А я после этого случая не курил лет шесть.
В этот же день дядя Семён закончил шить сапоги для меня и моих сестёр, и после полудня я поблагодарил за гостеприимство тётю Анфису и, особенно, дядю Семёна за сапоги. Свои я уже обул, они были пропитаны дёгтем, чтобы не промокали. Я тепло распрощался со всем семейством Сусловых и с вещмешком (в котором находились две пары сапог) за плечами пошёл домой по Потёмкинскому тракту. От одной деревни до другой, не менее пяти деревень по пути. Просёлочной дороги было лишь километра три с половиной около нашей деревни, и всё равно я нахватал грязи на сапоги. А хотелось выпендриться, пройдя в новой обуви почти через всю деревню.
Дома меня встретили с радостью. Сапоги мерили сестрёнки: обували, снимали и снова обували, а потом пошли на улицу, наверное, показывать подружкам. Мама только улыбалась, радуясь, что дети обуты. Женя тоже хотел сапоги и пробовал походить в Фаиных, но они ему были слишком велики.
* * *
Весной 1946 года снеготаяние было скорое, быстро потеплело, как говорили, «дружная весна». Поэтому вода поднялась в реке и понесла огромные льдины. Они и разрушили плотину, по которой мы ходили в школу, именно в том месте, где едва не утонул Витя. Река в этом месте делала поворот. Прямо ей идти мешала плотина, но ледяной торос разрушил её. Селяне лишились «кормилицы» – мельницы. Она хоть и не пострадала, стояла на месте, но движущая сила – вода – до неё не доходила. Было жутковато смотреть на ранее глубокое место, а теперь русло без воды. Оно мне даже во сне снилось.
Раньше каждый, кто имел с десяток или более килограммов зерна, мог прийти на мельницу и бесплатно превратить его в муку, обеспечив семью хлебом на полмесяца-месяц. Зерно выращивали даже на своих огородах. Муку любят кушать хомяки, они, я видел, прятались на верхнем этаже мельницы. Но были ещё «хомячки двуногие» – школьники, и я в их числе. Когда мельница работала, из рожка в ларь сыпалась мука. Мы, пацаны, забегали в помещение мельницы, горстями хватали муку и сразу отправляли её в рот. Мельник дядя Петя, отец «атаманши», иногда выходил из избушки, что стояла напротив, и незлобиво журил нас. Понимал, что мы идём из школы голодные. Надо представить наши мордочки, как они выглядели, перемазанные мукой!
Из-за разрушения плотины в деревне началась нехватка хлеба. Даже те, у кого было зерно, не могли его смолоть. Но временно вышли из затруднительного положения. Договорились с мельником неблизкой (километров 15 от Кваки) деревни смолоть воз зерна. Это 300–350 кг. За помол платили десятину – 10 процентов от веса зерна. Если в вашем мешочке было 20 кг зерна, то перед помолом отсыпаешь мельнику 2 кило. Зерно собрали у всех, имеющих его и желающих смолоть, сгрузили на одну телегу. На каждом мешочке прикрепили бирку с весом и именем хозяина или хозяйки.
Почему я так подробно об этом пишу? Да потому что меня послали на эту мельницу. Мы ехали с одной женщиной, возможно, она и договорилась насчёт помола. В телегу я запряг быка-тихохода (кого дали) Партизана. Я был за кучера, а женщина показывала дорогу. После весенней распутицы дорога ещё толком не просохла и представляла собой глубокие, грязные колеи, особенно в лесистой местности. Мы добирались более трёх часов и прибыли лишь к полудню. Затем дожидались очереди и отсыпали «арендную плату» из каждого мешочка, а их было около двадцати. Мололи зерно из каждой тары тоже отдельно. Так и провозились до потёмок; домой отправились затемно. Меня приятно удивил Партизан. Он быстро, уверенно и точно шёл обратно, несмотря на плохую дорогу и тёмное время суток. А ведь груз у него был немалый: тяжеленная телега, около трёхсот килограммов муки и два человека на возу. И тащила это «одна бычиная сила».
В Кваке, на конном дворе, нас ждала целая толпа народа, хотя уже была полночь. Они все ждали муку, которую мы привезли.
Долго так продолжаться не могло, и на колхозном собрании постановили: «Восстановить плотину!» Работать должны были и стар и млад, конечно, до определённого возраста. Школьникам продлили весенние каникулы. Все мы в возрасте 12 лет и старше работали на восстановлении плотины. Весенние полевые работы ещё не начинались, и все работники использовались на восстановлении плотины. Материалом служил ближайший лес, земля в низовье плотины и камни, привезённые издалека – километра три, а то и более. Не такая у нас была гористая местность, чтобы набрать камня, сколько и какого хочешь. Привезти тоже не просто: нехватка тягловой и рабочей силы. Камень подвозили регулярно, его готовили для перекрытия русла. Плотину восстанавливали, используя вперемежку свежесрубленные хвойные деревья: ель, пихту, что росли поблизости, глину добывали из котлована. Мы с мамой копали землю и носили её на носилках. Позднее меня перевели на перевозку камня.
Через неделю напряжённого труда плотина была почти восстановлена, оставалось перекрыть узкий проход нового русла. Его нужно было засыпать камнями, которые мы привезли заранее. Они были «складированы» по обе стороны русла. Более двух десятков человек одновременно кинулись на груды камней и стали их сбрасывать в воду. Большинство кидало руками, некоторые использовали лопаты, кое-кто сталкивал камни деревянными чурками. Через четыре часа безостановочной работы русло было перекрыто и вода пошла по старому руслу. Но ещё было нужно поднять плотину до нужного уровня над насыпанными камнями. Поэтому рубили лес и носили землю на носилках ещё в течение двух дней. После окончательного восстановления плотины прошла ещё неделя, прежде чем вода в пруду набралась до нужной для работы мельницы отметки. Вода в низовье реки не поступала и осталась лишь в глубоких местах.
Ниже мельницы находился довольно широкий и глубокий омут с водоворотом, где водились, по поверью, черти. Там люди боялись купаться, возможно, бывали и несчастные случаи. Но кроме чертей там водилась и рыбы внушительных размеров: щуки, сомы и другие. Сомы принялись буянить. Наша отремонтированная плотина, частично сделанная из смолистых деревьев, выделяла смолу в омут, его поверхность покрылась тонкой маслянистой плёнкой, и кислород из воздуха не попадал в воду. Рыба начала задыхаться, и пыталась дышать, высунув часть головы из воды. Тут-то мы и увидели, что в нашей реке много рыбы. Но ловить её было некогда, да и снастей ни у кого не было. Не видел я ни одного рыболова с удочкой на этой реке. А чертям ни черта не делалось – они даже не показывались днём, а ночью творили какую-то чертовщину, от которой вода становилась ещё мутнее.
Через неделю вода в пруду поднялась выше рабочего колеса мельницы и её запустили в работу. Люди снова получили возможность бесплатно молоть зерно в своей деревне, а рыбы – свежую воду, обогащённую кислородом.
* * *
В прошлом году был хороший урожай зерновых. Но убрать его весь не смогли. Совсем не было уборочной техники, злаки срезали вручную серпами. Рабочих рук тоже не хватало, а тут ещё зима поспешила, и неубранные поля оказались под снегом. Весной 1946 года кто-то хотел воспользоваться зерном, вытаявшим из-под снега, но власти строго-настрого запретили его собирать, пугая народ, что оно, пролежав под снегом зиму, стало ядовитым. Ослушавшимся грозили карами. А кара была обычной в то время, десять лет лагерей, несмотря на возраст, пол и семейное положение.
Лето 46-го выдалось засушливым. Сильно пострадали зерновые, да и в огородах мало что выросло. Картошки и то накопали меньше, чем обычно. Поливать было некогда, основное время занимала работа в колхозе. Наша река за огородами пересохла, а из соседского колодца глубиною около десяти метров воды не наподнимаешься. В обычные же годы поливать приходилось лишь огурцы, которые росли на навозных грядках.
А тут появилась ещё одна напасть. Крупная зелёная гусеница в несметных количествах объедала все листья насаждений. Особенно понравилась ей наша раскидистая черёмуха, что росла около угла дома. Несколько крупных ветвей располагались у нас почти на крыше. С этой черёмухи мы обычно собирали около десяти литров ягод. Её сушили, толкли или мололи, а зимой пекли пироги или шаньги. Гусеницы буквально заполонили ветви и жадно поедали цветы, завязи и листья. И вдруг на нашей черёмухе над самым окном дома появилась кукушка – лесная вещунья – да начала так громко куковать, что становилось страшно, аж мурашки по коже. Так продолжалось много дней. К ней прилетал даже «кук» – мужская особь кукушки, но он куковать не умел, а лишь произносил звук «кну, кну», но тоже громко. Похоже было, что к нам их привлекли многочисленные гусеницы, которых они, возможно, поедали. Но нам почему-то казалось, что эти птицы накукуют беду. Так оно и случилось. На следующий год разразился голод!
Гусеницы не исчезли, пока на нашей черёмухе не сожрали последний зелёный листик и кукушки не перестали к нам прилетать. К осени пошли дожди и черёмуха начала зеленеть мелкими листочками, которые вскоре опали.
* * *
Осенью мне исполнилось 14 лет – возраст перехода мальчика в юноши по местным возрастным меркам послевоенного периода. Каждую осень молодёжь, отдельно от старших, накануне Покрова устраивала праздник. На него приглашали сверстников из одной из соседних деревень, или наоборот, шли в гости с ответным визитом. Это была давняя традиция. В эту осень наши ребята и девчата были приглашены в соседнюю деревню километрах в шести-восьми от нас. Юношей не хватало, и меня и нескольких моих сверстников пригласили поучаствовать в этом «походе». Каждый желающий должен был внести небольшой взнос, что мы и сделали, став полноправными участниками праздника.
Одеться все старались получше. Я, например, надел тёмно-синий китель, который остался на память от папы. Рукава оказались длинными, и их пришлось подвернуть. На ногах сапоги, которые сшил дядя Семён. Собрались мы под вечер у конторы – клуба. И оравой человек в двадцать двинулись пешком в неизвестную мне деревню.
«Ведущими» были девушки на выданье 17–20 лет; среди них выделялась моя кузина Юлия. Погода была осенняя, дорога была грязная, стало темнеть. И тут к месту пришлась песня, начатая девушками; мы дружно её подхватили. Пели «Туманы мои, растуманы» про партизан, уходивших в поход на врага. Но мы-то шли в гости, и нам было весело, не то что партизанам. А с песней про смуглянку-молдаванку мы вошли в деревню. Хозяева нас встретили ещё на улице и повели в дом, где всё было готово для встречи гостей. После процедуры знакомства нас всех усадили за накрытые столы. Угощение было вкусным и сытным. Выпивка традиционно русская – самогон. Но нам, дебютантам, налили по сто граммов и не более, чтобы никому не было «нехорошо».
После застолья начались песни, пляски и игры. Из музыкальных инструментов были балалайка и патефон, а позже появилась и гармонь. Было интересно и весело. Мы пели, играли и танцевали, но после полуночи нас, «малышей», стал одолевать сон, и всю нашу «команду» отправили на полати. Мы разулись, но раздеваться не стали и завалились спать. А более взрослые ребята и девчата продолжали праздновать и веселиться.
Наутро нас разбудили. После умывания мы все вновь были приглашены за стол. Так как никто из нас на здоровье не жаловался, нам ещё налили горячительного. Позавтракав, мы сердечно попрощались с «хозяевами» и пригласили к нам в гости на следующий год. Затем отправились домой и к обеду уже вернулись обратно. Это было первое моё такое путешествие, оно же оказалось и последним.
* * *
Этой осенью я стал учиться в седьмом классе. Он был выпускным и в конце учебного года выдавали «Свидетельство об окончании неполной средней школы». В классе снова появился учитель немецкого, и снова нужно было учить этот ненавистный язык. Нужно же было хоть как-то заканчивать семилетку.
Поскольку летом была засуха, то осенью по итогам года на трудодень не выдали ни грамма зерна, и люди остались без хлеба. А денег в колхозе вообще не платили. Маме хлебные карточки перестали выдавать ещё в конце 1942-го, когда закончилась эпидемия тифа. Мы получали пособие за погибшего на фронте отца – 125 рублей. Но на них практически невозможно было купить ни грамма хлеба, он выдавался только по карточкам. Карточки получали же работники промышленной сферы, горожане, чиновники всех мастей и их иждивенцы. В свободной продаже хлеба вообще не было. Интересно, что работники совхозов за свою работу получали и деньги, и карточки, а колхозники – тоже работники сельского хозяйства – не имели ни того, ни другого. Но совхозов было очень мало; за всю мою жизнь мне встретился лишь один.
Питались мы в основном картошкой. Зимой наша тёлочка стала коровой и начала давать молоко. Появился и телёночек, но его пришлось пустить на мясо. Так мы дожили до весны. Люди были в отчаянье, рубили, дробили кости овец и телят и мололи их на мельнице, благо она всё перемалывала. Мололи и солому, и молодые ветки липы, всё это превращали в муку. Из неё пекли лепёшки-обманки, и их ели. Как следствие, у многих начались запоры. Мы тоже кости нашего телёночка перемололи и пекли лепёшки.
Глава 16. В ПЕРВАНОВУ
Мама, насмотревшись всяких страстей (она по-прежнему помогала всем односельчанам, чем могла), решила уехать из Кваки. Как-то она разговорилась с женщиной, которая ещё до войны жила в деревне Перванова Талицкого района Свердловской области. Она описала местность, жителей и даже вспомнила некоторые фамилии местных жителей: Коневы, Комаровы, Черепановы. Причина к перемене места жительства была стара как мир – «поиск лучшей доли».
Появились и ещё две семьи, желающие поехать в дальние края. Первая – молодая пара двадцатилетних супругов, Виктор и Полина Фёдоровы. Детей у них ещё не было. Виктор 18-летним пошёл на фронт, был ранен в ногу и после госпиталя его отпустили домой. К счастью, тут закончилась война и его в армию больше не взяли. Он имел две боевых награды. Полина была девушкой из другой деревни и о ней я ничего не знал. Вторая семья – Ворончихины: он Роман, она Дарья и трое их детей. Старший, Иван, был моим сверстником, и учился со мной в одном классе. Что интересно – все три мальчика были косоглазыми, хотя у родителей этого дефекта не наблюдалось. Роман вернулся с фронта с покалеченной кистью руки, но со временем стал работать наравне со всеми.
На совете «тройки» (трёх семей) было решено, что необходимо съездить на место, посмотреть, получить гарантию трудоустройства и жильё от руководства колхоза. Откомандировали меня и Виктора. Он был симпатичным, высоким парнем, но для фронтовика – скромный и непробивной.
Мне пришлось бросить школу на самом финише учебного года, перед выпускными экзаменами. Ко мне приходили одноклассники, просили от имени классного руководителя вернуться в школу. Я отказался, мотивировав это большим пропуском уроков и плохими знаниями. Перед самыми экзаменами приходил Серафим с запиской от директора школы, в которой она меня просила прийти на экзамены. Уверяла, что я мальчик способный и экзамены сдам. Но вместо этого я отправился на «смотрины» нового места жительства в Свердловскую область.
Начали собираться в путь-дорогу, а она предстояла дальняя, только поездом 820 км, а остальное пешим ходом. Мама мне напекла лепёшек из костной муки с крапивой и другими травами. Дала денег 300 рублей. С утра пораньше мы с Виктором пошли пешком на станцию Балезино и к обеду были на месте. Поели лепёшек, запивая морсом. Было решено ехать на подножках вагонов, так как в кассе нам билетов не досталось.
Документов у меня никаких не было. Одет я был в зипун, на голове фуражка, за плечами котомка. Ни дать ни взять – бездомный бродяжка. Мне никогда ещё самостоятельно не приходилось ездить на поезде, тем более «зайцем».
На станции остановился поезд дальнего следования. Вагоны были старого образца. Подножки-ступеньки, служащие для подъёма в вагон и выхода из поезда, были выдвинуты наружу, а поручни выступали за габариты стенки вагона, что сулило безбилетникам относительно комфортную езду, если не брать в расчёт ветер, пыль при движении и дым из трубы паровоза. Но вначале нужно было зацепиться за поручни и вступить на подножку, а для этого надо было дождаться, чтобы все пассажиры вошли в вагон и проводник закрыл дверь. Поезд уже трогается, когда вся безбилетная шантрапа кидается к подножкам вагонов, и мы с Виктором в их числе. Начинается борьба за место на подножке в то время как поезд набирает ход. Самый мой первый опыт на ст. Балезино оказался одним из нескольких неудачных посадок. Виктор встал на подножку вагона, взявшись за поручень, но мне там места не осталось, его успели занять другие «зайцы». Я решил дождаться следующего вагона, а поезд-то разгонялся, был риск отстать от поезда и от товарища. И я в отчаянье вцепился в поручень вагона, на бегу вскочив одной ногой на подножку. Там уже было три человека: двое уже сидели рядом на подножке, третий стоял, а тут ещё и я прицепился. Дядька, сидящий передо мной, был в фуражке, и моя рука задевала её. Перехватиться же не позволяло моё полувисячее положение. А мужик тем временем пригрозил: «Если собьёшь фуражку, я тебя столкну!» Цена жизни человека тогда могла оказаться в одну поношенную фуражку.
Поезд прошёл без остановок до станции Верещагино. Эти 120 километров – полтора-два часа – я провисел на подножке, боясь шевельнуться. По сути, это было моим первым испытанием на выживание. Но поезд остановился, все «зайцы» бросились врассыпную и принялись бродить по перрону. Я встретился с товарищем, и мы с ним поговорили на тему того, как ехать дальше. Решили этим же поездом и этим же способом. Вторая посадка оказалась более удачной. Я ехал сидя на подножке, держась за поручень. Так мы добрались до Молотова (до 1940 и после 1957 года – Пермь). В тот же день снова на том же поезде и так же на подножках мы уехали в сторону Свердловска (до 1924 и после 1991 года – Екатеринбург).
Вечером «зайцев» стало меньше, но к ночи некоторые из них превратились в «волков». Они забирались на крыши вагонов, откуда проникали в тамбуры и даже вагоны, где могли свободно обокрасть пассажиров. Они имели при себе ключи от дверей вагонов – обыкновенные трёхгранники внутри трубки. В этот раз мы с Виктором ехали вместе на одной подножке. Вдруг на ходу открылась дверь вагона, перед которой мы сидели. Мужчина лет 25–30 пригласил нас подняться в тамбур. Мы с радостью согласились. Думали, согреемся, хоть ветер не дует. На Урале в мае, да ещё ночью – холодно. Увы, нам недолго пришлось побыть в тамбуре, из вагона вышла проводница и попросила нас «освободить помещение». Мы все вместе вышли из тамбура на небольшую площадку между двумя вагонами. Не успели мы познакомиться с нашим новым товарищем, как открылась дверь тамбура соседнего вагона и к нам на площадку шагнул какой-то тип, предложив нам с Виктором зайти в тамбур. Мы согласились, не ожидая никакого подвоха. Дверь нашу он закрыл на ключ и мы оказались в ловушке. Наш же товарищ остался на площадке. Одет он был прилично: чёрное драповое пальто, хорошее кепи, выглядел он интеллигентно, не то что мы, казавшиеся бродягами. Виктор, возможно, специально оделся в поношенную крестьянскую одежду, чтобы на него не обратили внимания «разбойники с большой дороги» – в прямом смысле.
Нам смутно, через грязное дверное стекло, были видны лишь силуэты людей, находящихся на площадке. Вначале их было двое: наш товарищ и «благодетель», закрывший нас в тамбуре. Но тут к ним с крыши вагона по лесенке спустился третий. Стало ясно – это грабители, решившие вдвоём ограбить нашего попутчика. Один из грабителей держал его за здоровую руку, отведя её назад; на другой руке у него не было кисти целиком. Второй бандит проверял его карманы, расстегнув пальто жертвы. Ни разговора, ни угроз нам слышно не было. Оружия тоже никакого мы не заметили. Тем временем грабители поднялись на крышу вагона.
Но история на этом не закончилась. С крыши вагона спустился ещё один бандит и, угрожая ножом, потребовал от нашего попутчика снять и отдать пальто. От такой наглости тот был в отчаянье, он понял, что от него просто так не отстанут. Когда же до грабителя дошло, что жертва не собирается снимать пальто, он приблизился к нему вплотную и тут же получил сильнейший удар сапогом в пах. Под ногами у налётчика не было устойчивой опоры, лишь прыгающая на шарнирах площадка, и он упал между вагонами и, вероятно, погиб под колёсами. Когда поезд прибыл в Свердловск, проводники открыли двери вагонов и мы вышли на перрон, где сразу встретили нашего попутчика. Он был сильно взволнован и рассказал нам более подробно всё, что произошло. Грабители прижали к его горлу нож и забрали 250 рублей, которые были у него в кармане, и продукты: хлеб и сало. Также рассказал о второй попытке его ограбления, о чём я рассказал выше. Мы наконец-то смогли познакомиться. Его звали Николаем, ему 25 лет, бывший фронтовик. Тут вдруг Николай снова заволновался и сказал: «Это они, посмотрите назад!» Мы оглянулись и увидели двоих идущих недалеко от нас мужчин. Было ранее утро, только начало светать, на перроне было совсем мало людей. В поезде все пассажиры спали. Милиционеров видно не было, да Николай и не рискнул бы заявлять в милицию, потому что его могли обвинить в гибели человека.
Этим поездом мы больше не поехали. Взяли билеты на пригородный поезд до станции Поклевская[2]2
Ст. Поклевская – ныне станция Талица. (Прим. ред.)
[Закрыть], что в 220 км от Свердловска. Николай с нами не поехал, а мы, отдохнув на вокзале, отправились дальше уже в вагоне. Но и тут мне отдохнуть не удалось. Народу было много, в вагоне душно. Меня укачало и начало тошнить. На одной из остановок меня вырвало, благо, что не в вагоне, а на перроне небольшой станции (а то были бы неприятности). Я снова сел на подножку вагона и несколько перегонов ехал на «свежем воздухе».
Доехав до Поклевской и спросив у кого-то дорогу, мы с Виктором пошли пешком в деревню Перванова. Оказалось, что мы проехали лишних пять километров и нужно идти обратно по шпалам или по пешеходной дороге за кюветом. Прошло всего чуть более суток, как мы уехали из Балезино, но природа здесь разительно отличалась от нашей. Что приятно удивило – это зелёная трава, распустившиеся деревья и тепло. В Удмуртии из травы лишь кое-где пробивалась крапива (и её тут же срезали в пищу), и там было ещё холодно. Я шагал по шпалам и с интересом обозревал окрестности, поскольку в этой части земли (я это чувствовал) мне предстояло жить. Да и по этой дороге впоследствии мне приходилось ходить много десятков раз. Это одна из главных железнодорожных магистралей страны: «Москва – Владивосток». По обеим сторонам дороги посадка из красивых деревьев и кустарников.
* * *
Километра через четыре пути мы увидели на возвышенности несколько красивых домов, покрашенных в разные цвета, и множество крикливых детишек. Это оказался детский дом. Справа от него был сосновый бор, а между ними прочный деревянный мост над железной дорогой. Мы с Виктором прошли под этим мостом, как по туннелю, так как тут ещё во время строительства железной дороги была прорыта глубокая траншея длиной 15–20 метров. А ещё через полсотни шагов мы оказались на железнодорожном мосту через небольшую реку. Несущие конструкции моста находились внизу, а сверху были лишь небольшие перила и пешеходные мостки по обеим сторонам, да ещё по диагонали две будки для охранников, которые нас сразу и остановили. Мы немного смутились и пожалели, что не удалось полюбоваться красотой реки и окружающего пейзажа. Охранники спросили, куда и зачем мы направляемся. Мы, как смогли, объяснили. Видимо, что-то в нас убедило охранников, что мы не диверсанты, и они нас любезно проводили через мост. Через полкилометра мы дошагали до переезда. Справа от нас были добротные дома, стоявшие от железной дороги в сотне метров. Мы свернули к ним, полагая, что это и есть Перванова. Встречная женщина подтвердила, что мы не ошиблись и объяснила, как найти контору колхоза. Она оказалась на этой же улице – в центре. Крепкий дом с высоким крыльцом, с сенями и большой прихожей. Войдя в правление, мы увидели двух мужчин, сидящих за одним столом. Мы поздоровались. Они предложили нам сесть на скамейку. Один из них спросил:
– Что вы хотите?
– Мы хотели бы поступить к вам на работу, – сказали мы. Они многозначительно переглянулись.
– Тогда давайте будем знакомиться, – предложил тот же мужчина и сам представился: – Конев Николай Михайлович, председатель колхоза.
Был он мужчиной средних лет приятной наружности, степенный. Второй собеседник представился нам как Зотий Иванович Комаров, бухгалтер. Был он лет пятидесяти, с проседью в волосах, аккуратной причёской и усами, с обаятельной и доброжелательной улыбкой. Каждый из нас назвал свою фамилию и имя. Председатель спросил:
– А вы не братья?
– Нет, – ответили мы. – Однофамильцы.
Тут я рассказал о своей семье, объяснив, что нас на самом деле пять человек. Виктор добавил, что они приедут вдвоём с женой. Также мы рассказали о семье Ворончихиных, которые тоже хотят приехать. Ответ председателя был таков:








