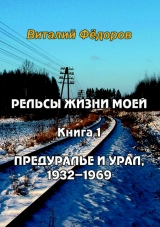
Текст книги "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969"
Автор книги: Виталий Федоров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 61 страниц)
Глава 64. ПОГРАНИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ
Теперь немного расскажу о наших небритых «гостях», живших на заставе. Многие опытные солдаты догадывались, что те готовились перейти границу через участок нашей заставы. Я лишний раз убедился в этом, когда встретился с ними в компании начальника заставы на границе.
Ночью, на которую был намечен переход границы, на этот участок не было послано наряда, поэтому никто из солдат не знал, что два наших «гостя» ушли на турецкую территорию. До границы их сопровождали начальник заставы и старшина.
А следующей ночью наш пограничный наряд задержал двух человек, одетых в крестьянскую одежду, и привёл их на заставу в наручниках. Этими нарушителями оказались «гости» нашей заставы, которые не смогли выполнить задание советской разведки. По всей вероятности, они раскрыли себя ещё при подготовке к переходу, поскольку почти демонстративно ходили вдоль границы. Туркам нетрудно было догадаться, что здесь что-то назревает. Турецкие пограничники сообщили в ближайшее полицейское управление, а те, в свою очередь, в ближайшие населённые пункты. За поимку русских шпионов обещали большое денежное вознаграждение.
Наши разведчики шли в глубь территории Турции, не подозревая, что на них уже открыта охота. В одном из приграничных населённых пунктов к ним обратился прохожий, как бы из любопытства спрашивая, кто они и куда идут. Они изложили ему заранее заготовленную легенду. Но тут к ним стали подходить и другие крепкие мужчины – местные жители. Собрались и просто любопытные. Скоро наших окружила толпа, вот-вот их могли схватить. У разведчиков были крепкие нервы, они ничем не выдали своего волнения, сказав, что им пора идти, мол, скоро стемнеет, и хотелось бы пораньше добраться до места.
Им как бы поверили, но решили сделать «услугу», дав в провожатые троих человек. На пути к местечку, куда якобы шли разведчики, располагался населённый пункт, где был полицейский участок. Было понятно, что турки заставят «путешественников» зайти туда. Поэтому примерно на половине пути, в лесистой местности один из наших повернул в сторонку.
– Куда пошёл?! – заорали турки.
– Да по нужде, сейчас вернусь.
Однако турки не поверили, и один из них пошёл вместе с ним. Как бы не убежал, а то не видать вознаграждения! Разведчик завёл своего стража подальше, чем того требовали обстоятельства. Снимая брюки, выхватил пистолет и сразу выстрелил турку в ногу. Тот упал, оглашая лес громкими криками. Два других охранника в недоумении обернулись на выстрел. Этого времени хватило, чтобы второй разведчик достал свой пистолет. Когда турки обернулись к нему, он сказал:
– Я не шучу. Если хотите остаться в живых, идите к своему раненому товарищу и несите его домой.
Разведчик, ранивший стража, не стал попадаться на глаза тем двоим, а скрытно приблизился к своему товарищу. Когда они встретились, то сразу решили как можно скорее бежать обратно в СССР. Полиция в это время ещё не знала о поимке двух подозрительных «турецких крестьян». Лишь через несколько часов, когда в селение вернулись двое, принёсшие на руках раненого, была поднята тревога. Наши тем временем бежали в сторону границы, обходя населённые пункты.
Турецкая полиция организовала погоню и сообщила на пограничные посты, что двое вооружённых преступников, возможно, идут к границе для перехода на советскую сторону. К счастью для разведчиков, на нашем участке (протяжённостью почти в десять километров) у турок был лишь один пограничный пост, на котором несли службу двенадцать человек. При всём своём желании закрыть границу «наглухо» они не могли, разве что бы им посчастливилось случайно натолкнуться на беглецов.
Разведчики дождались темноты и ночью перешли границу, где и попались уже нашему пограничному наряду. При задержании на них надели наручники и обезоружили, несмотря на то, что «нарушители» старались доказать, что они русские и жили на нашей заставе. Один даже стал призывать к совести, за что получил чувствительный подзатыльник. И пришлось ему замолчать.
Наутро турки с розыскной собакой подошли к тому самому месту, где пересекли границу наши разведчики-неудачники. И ушли – несолоно хлебавши. А нашему пограничному наряду, задержавшему наших же разведчиков, на боевом расчёте объявили благодарность за правильные и умелые действия при задержании «нарушителей».
* * *
Через два года после окончания Великой Отечественной войны оставшихся живыми и здоровыми солдат и сержантов, отслуживших менее трёх лет и по возрасту подходивших под призыв, не демобилизовали из армии, а оставили на действительной военной службе. Их направляли в разные военные округа, откуда распределяли в воинские части для пополнения личного состава. Наш пограничный отряд тогда тоже пополнился участниками войны.
Один из них, закончивший войну в Берлине, попал дослуживать на заставу нашего отряда. Однажды он со своим напарником дозором шёл вдоль границы. По другой стороне встречным курсом проходил турецкий пограничный наряд. Один турок вдруг спустил штаны и, чуть наклонившись, показал на свою голую задницу. Его товарищ захохотал. Наш воин не выдержал такого хамства, вскинул автомат и дал короткую автоматную очередь по сверкающим ягодицам нахала. Турок повалился на землю, обливаясь кровью, а его смешливый напарник моментально задал стрекача.
Скоро турки забрали своего раненого наглеца, который получил пару дырок в мягкое место. Насколько нам известно, он выжил. Никакого международного скандала не случилось, всё сошло за небольшой пограничный конфликт. Видимо, этот турок насмотрелся немецких фильмов начала войны, когда наши солдаты стоически переносили хамство немцев.
Как ни удивительно, наше руководство не наказало воина. После этого все решили, что раз в инструкциях не запрещено стрелять по голым задницам, значит, можно.
* * *
А на заставе у нас произошло ЧП. Нам дали молодого, необученного коня. Он сбрасывал любого кавалериста, пытавшегося его оседлать. Не удержались больше минуты ни Чернов, ни Дьяков. Тогда в седло на этого дикаря сел старослужащий Михайлов, которому оставалось служить меньше трёх месяцев. Как этот конь ни мотал, ни пытался сбросить с себя седока, тот удержался в седле. Тогда конь рванул в дикую скачку. Но разве можно скакать бездумно, закусив удила, не слушая всадника, по гористой местности, даже если ты лошадь? Единственным стремлением животного было во что бы то ни стало избавиться от седока.
В своём стремлении конь переусердствовал, налетел на камень и сломал себе ногу, упав набок. Михайлов не пострадал, поскольку успел в момент падения избавиться от стремени и, оттолкнувшись от седла, спрыгнуть наземь. Почти весь личный состав заставы следил за этой драмой, в том числе и старший лейтенант Кириллов.
Конь всё же поднялся на три ноги. Сломанную конечность он держал чуть приподнятой, не пытаясь опираться на неё. Так Михайлов и привёл его во внутренний двор. Начальник заставы подошёл к коню шага на три, достал пистолет и выстрелил ему в голову. Конь не упал, а только стал мотать головой, из которой лилась кровь. Второй выстрел тоже не убил коня, хотя он и опустил голову вниз. Лишь после третьего выстрела конь рухнул наземь. Бунтарство против человека стоило ему жизни.
Эту жуткую картину я видел от начала и до конца. Мне было жаль коня. Моя жизнь с одиннадцати до шестнадцати лет была связана с лошадьми, которых я обожал. Почему же коня не стали лечить, а жестоко убили? Дело в том, при переломах ног у лошадей, вылечить их практически невозможно. Долго стоять на трёх ногах лошадь не может, а лёжа не может ни есть, ни, извините за подробность, выдавать съеденное. При этом нарушается и кровообращение, а сами кости срастаются очень долго и плохо.
Уже утром следующего дня никаких следов драмы не осталось. Мясо коня пошло на корм служебным собакам.
Я почти шесть лет работал на лошадях, часто ездил верхом, но ни разу не ездил в седле. И тут Чернов предложил мне наверстать упущенное. Галопом получалось нормально, но когда конь переходил на рысь, я никак не мог попасть в ритм его бега и распознать момент, когда надо чуть приподниматься в стременах, а когда опускаться в седло.
* * *
После неудачной вылазки наших разведчиков в Турцию, они сразу ушли с нашей заставы. Тем временем турки организовали скрытый наблюдательный пункт у пограничного столба №203. На этой вершине было большое нагромождение камней, где и скрывались наблюдатели. Иногда мы замечали поблескивание объектива бинокля.
Однажды мы с напарником несли службу на НП во вторую смену. Уже вечерело, когда мы заметили, что двое турок поднимаются к этому самому пограничному столбу. Потом на некоторое время они пропали из виду. Затем один из них спустился вниз, в сторону поста. Второго же видно не было. «Залёг в камнях», – подумал я.
Со стороны нашей заставы в это же время к нам приближался человек. Я направил на него бинокль. Это был солдат с оружием и вещмешком за плечами. Когда он приблизился к нам, мы узнали связиста Медведева. Как выяснилось, исполняющий обязанности начальника заставы лейтенант Ежов дал ему задание проложить скрытую проводку для подключения сигнального прибора, с которым придёт ночной наряд. Мы должны были ему помогать. Но как мы могли выполнять работу, когда за нами наблюдал турецкий пограничник? Ситуация была схожа со случаем в 1950 году, который я описывал раньше. Отличие заключалось лишь в том, что сейчас наблюдатель (по нашему мнению) был один и действовал скрытно, а тогда их было трое и они не прятались.
Я позвонил на заставу. Меня соединили с лейтенантом Ежовым. Я объяснил ситуацию.
– Поднять наблюдателя! – последовал приказ начальника.
– Слушаюсь, товарищ лейтенант!
Легко сказать – «поднять»… Он ведь находился на своей территории. Пришлось мне поломать голову над проблемой. В конце концов решил вместе с ребятами пойти на турка в «психическую атаку». Итак, мы втроём двинулись вперёд, на невидимого противника, который находился от нас метрах в двухстах-двухстах пятидесяти. Мы шагали параллельно границе, примерно в десятке шагов от невидимой черты. Когда прошли более половины разделявшей нас дистанции, я сознательно, размахивая руками, показал, что мы берём его в кольцо. Я шёл почти по турецкой территории. Мои ребята двигались параллельно мне, шагах в двадцати. Наконец, «супротивник» не выдержал нашей атаки и поднялся во весь свой янычарский рост в двух десятках метров от нас. Он держал в руках оружие, но нам не угрожал, стоял почти по стойке «смирно». Мы остановились перед ним и ждали, что он предпримет дальше.
Видимо, он понял, что разоблачён как тайный наблюдатель и решил вернуться восвояси. Нехотя повернулся и пошёл вниз. Мы подождали ещё немного – не вернётся ли? – и пошли работать. Работали мы втроём, но при этом я старался не забывать и о наблюдении за границей. С прокладкой проводки мы управились до наступления полной темноты. На этом время наряда закончилось, и мы вернулись на заставу.
Глава 65. ГОСПИТАЛЬ
Однажды после дневного наряда я вдруг почувствовал сильную боль в животе. Меня буквально скрутило, и продолжалось это около получаса. Потом, вроде, всё успокоилось. Об этом случае я сказал Вите Соловьёву. Он предположил, что у меня, возможно, был приступ аппендицита. Я про такое заболевание раньше не слышал.
Недели через две приступ повторился, причём был продолжительнее первого раза в два. Об этом случае узнали старшина и начальник заставы и решили направить меня в находящуюся при комендатуре санчасть, под наблюдение врача-лейтенанта. Я его запомнил ещё в первый год службы на Кюмбете, когда он приезжал к нам на профилактическую вакцинацию всего личного состава. После укола он мне тогда сказал: «Ты с такой кожей проживёшь сто лет!» А вот Юра Плеханов – парень крупный, сильный, на вид здоровенный, кровь с молоком – во время инъекции весь побледнел и потерял сознание. Врачу пришлось делать второй укол уже другого лекарства, похлопать Юру по щекам, чтобы пришёл в сознание. С Юрой тогда всё обошлось нормально.
Мне в этот раз пришлось обитать в санчасти одному. В палате было четыре койки, но кроме меня больных не было. График у меня был свободный, я лишь подстраивался к работе столовой. Никакого лечения или процедур лейтенантом предписано не было. Вероятно, в случае нового приступа он бы меня просто быстро отправил в госпиталь. Но болей больше не было, я чувствовал себя практически здоровым.
Общался с Ваней Упоровым, когда он был свободен. Однажды мы с ним смотрели официальный матч по волейболу между командами третьей комендатуры и штаба части. Лидером и капитаном команды комендатуры был капитан Косоногов, Ванин начальник, а капитаном команды штаба – футбольный вратарь сборной части. Игра нас так захватила, что мы бурно реагировали на каждое очко, выигранное нашими «комендатурскими» волейболистами. Правда, хоть и с трудом, но выиграли «штабисты».
Так прошла неделя. За это время мне неожиданно присвоили звание ефрейтора. И попросили явиться в штаб части для фотографирования под развёрнутым Знаменем части. На этот раз фотографировал профессионал. Знамя вынесли на улицу, и света было достаточно. На следующее утро я получил фотографию в двух экземплярах. Она мне понравилась. Однако удивила подпись командира части: «Полковник Сурмава». Как так? Ведь он же был снят с должности командира и был заместителем у подполковника Ильина! У меня возник резонный вопрос, куда же девался Ильин, который давал мне недавно отпуск? Я поинтересовался у старослужащих штабистов, и они мне ответили, что подполковник поступил в Военный институт МВД СССР[7]7
Военный институт МВД СССР – ныне Пограничная академия ФСБ России (Прим. ред.)
[Закрыть] и уехал учиться в Москву. Временно его замещал полковник Сурмава.
* * *
Из штаба части меня направили обратно на заставу, где я стал ходить в наряд наравне со всеми. Но как-то, уже в сентябре, меня назначили дежурным по заставе в ночную смену. Дежурные несли службу по двенадцать часов. И вдруг ночью, в середине моей смены у меня снова начался сильнейший приступ. Я практически свалился на койку, стонал, метался, обливаясь потом. Мои служебные обязанности никто не выполнял. Утром, довольно рано, пришёл начальник заставы, а его никто не встретил и не доложил, как принято. Он обратился к связисту:
– Где дежурный по заставе?
– Лежит в постели, болен.
Начальник подошёл к моей койке.
– Что случилось с тобой, Фёдоров?
Морщась от боли и тяжело дыша, я ответил:
– Около полуночи начались сильные боли и не прекращаются до сих пор.
Он вызвал старшину и приказал готовить повозку, чтобы довезти меня до одиннадцатой заставы, куда могла добраться неотложка. У нас уже выпал снег. Его было не так много, и ещё можно было проехать на телеге (к слову, в Грузии не знают, что такое сани). Быстро запрягли лошадь и погрузили меня в телегу. Плохо помню десятикилометровый путь на тряской телеге по каменистой дороге. Казалось, мне было всё хуже и хуже.
На одиннадцатой заставе меня перегрузили в «скорую» и повезли в госпиталь в Ахалцихе. В машине трясло не так сильно, и по дороге мне полегчало. Боль, кажется, прошла. Со мной рядом сидел санитар и, заметив, что я перестал стонать, спросил:
– Что, отпустило?
– Ага, перестало, вроде бы.
– Но ты это, всё равно говори, что болит. Иначе отправят обратно, а с вашей заставы в следующий раз могут и не довезти. Был случай, когда с дальней заставы одного не успели, с таким же приступом… Умер по дороге в госпиталь.
Когда мы доехали до госпиталя, санитар – крупный малый – взвалил меня на спину и по пути в приёмную напомнил ещё раз, чтобы я не подавал виду, что боли прошли. Он затащил меня в приёмный покой и уложил на кушетку. Вышел врач. Как он меня ни крутил, в какое место ни нажимал, даже ноги поднимал, я всё равно стонал: «Ой, больно!» Врач вынес вердикт: «На операцию». Мой сердобольный санитар лишь тогда со мной простился. Пожелал скорейшего выздоровления, я же в ответ промямлил: «Спасибо».
Мне говорили, что при третьем приступе аппендикс обычно лопается и отравляет весь организм. А у меня приступ длился аж двенадцать часов.
В моей палате было ещё пятеро больных, все – солдаты из разных родов войск. Пограничником здесь я был единственным. Мне сказали, чтобы я два дня до операции не ел. Ночь прошла нормально. А утром те, кто мог ходить, пошли в столовую, я же отправился в библиотеку и взял там книгу (если не ошибаюсь, это была книга Ильи Амурского «Матрос Железняков»).
Ещё в это утро я решил бросить курить. Я баловался табаком в основном после принятия пищи, а тут два дня есть запретили. Забегая вперёд, скажу, что после этого решения я больше пяти лет не курил.
Книга меня отвлекала от мыслей о еде. Я так ей увлёкся, наверное, не только потому что она была очень уж интересной, просто надо иметь в виду, что уже два года, как я вообще книг в руки не брал.
* * *
Перед операцией, ещё в палате, мне сделали укол. Эта инъекция ввела меня в такое благодушное настроение, что мне всё стало нипочём. Я спокойно пошёл на операцию, лёг, куда показали. Мне сделали ещё пять болезненных уколов в нижнюю правую часть живота. Хирург-грузин говорил почти без акцента:
– Тебя привязывать к операционному столу или нет?
– Привязывайте, да покрепче, – усмехнулся я. – А то я не знаю, как себя поведу, когда резать начнёте.
Меня привязали. Внизу живота тем временем всё как будто одеревенело. Глаза мои закрыли простынёй. Я чувствовал, что со мной что-то творят, мне послышался небольшой треск, а после этого как будто из моего живота что-то достали. При этом никакой боли я не чувствовал. Минут через двадцать с меня убрали простынку. Хирург поинтересовался:
– Показать, что я у тебя отрезал?
– Нет, не надо, – отказался я.
Меня перенесли в палату. На шов положили клеёнчатый мешочек с песком. Постепенно «заморозка» – анестезия прошла. На её место пришла довольно сильная боль. Как назло, захотелось справить малую нужду. Что делать в этом случае, я не знал. Терпел, сколько мог, а потом убрал со шва мешочек с песком и сполз с койки. Под ней оказалась эмалированная чашка, куда я и облегчился, стоя на коленях. Снова заполз в постель, положил песок обратно на шов и так пролежал до утра.
Утром, после трёхдневного голодания, наконец-то мне принесли немного покушать. Хирург на обходе проверил шов и сказал, что всё идёт нормально.
Был конец сентября, а погода была ненастная. Шёл снег с дождём. Через два дня я захотел в туалет, который находился на улице. Встал и пошёл. Было холодновато, поскольку из одежды на нас была только нательная рубашка да кальсоны, даже халатов не было. Мой поход на улицу увидел солдат-молдаванин, которому тоже удалили аппендицит в тот же день, что и мне. Следом за мной он тоже отправился в туалет. А на другой день у него резко поднялась температура, сразу же засуетились медсёстры, вызвали хирурга. В конце концов, врач ведь тоже отвечает за свою работу, вдруг во время операции занёс какую-то инфекцию. Поэтому он и устроил молдаванину настоящий допрос. Солдату пришлось признаться, что он ходил на улицу. Хирург удовлетворился этим ответом и ещё добавил, мол, вон пограничник на улицу не ходил – и здоров. Нашему больному по нескольку раз в день ставили уколы, а я продолжать втихаря ходить по надобности на улицу.
В госпитале я в основном проводил время, лёжа на койке за чтением книг. Прочитал ещё «Танкер „Дербент“» Юрия Крымова и какую-то фантастику об аппарате, движущемся под землёй и управлявшемся находящимися внутри него людьми. Может, что-то ещё читал, но остальное не запомнилось.
Прошло девять дней после операции. Нас с молдаванином выписали из госпиталя вместе, в один день. Каждый из нас пошёл в свою часть.
Глава 66. ПИСАРЬ
Из госпиталя я пришёл прямиком в штаб части. Направлялся в комнату приезжих, когда – вот судьба! – встретил своего начальника заставы, который меня провожал в госпиталь одиннадцать дней назад. Он был уже в звании капитана и при новеньких погонах. Мы с ним по-военному поприветствовали друг друга, а потом поздоровались за руку. Я его поздравил с присвоением нового звания, а он меня – с выздоровлением.
– Готов нести службу на заставе, товарищ капитан! – доложил я.
– Да погоди ты с заставой, – отмахнулся он. – Я теперь начальник штаба учебного батальона. Мне вот писарь как раз нужен. Пойдёшь ко мне в штаб?
– Я согласен. Спасибо, – ответил я, не раздумывая.
– Пойдём сразу в штаб. Там есть койка, на которой ты будешь спать. А я сообщу в отдел кадров, чтобы тебя не «потеряли».
Вот так случайная встреча изменила мою судьбу минимум на три месяца. Это время я не буду ходить в ночные наряды в мороз и пургу. Писарь из меня, надо признать, никудышный, так как за прошедшие семь лет после школы кроме писем (да ещё одного летнего сезона учётчиком в тракторной бригаде) я ничего и не писал.
* * *
В штабе батальона я находился в течение полутора суток. Как выяснилось, одной из обязанностей писаря штаба учебного батальона было поддерживать благоприятную температуру в помещении, то есть топить печь. Она была большой, круглой, высотой аж до потолка, вделанная в кирпичную перегородку и обитая железом. Покрашена она была в чёрный цвет. Одна половина печи выступала в один кабинет, другая – в другой. Эта печь, по-моему, называлась голландкой.
Дальний кабинет занимал командир батальона со своим заместителем, а в первом (проходном) находилось рабочее место начальника штаба и писаря.
Топить нужно было дровами, которые приходилось носить со склада. Это оказалось довольно далеко. В первый же день я отправился за дровами. Набрал столько, сколько, по моему мнению, было необходимо, но почувствовал боль в правом боку. Пришлось половину оставить. Мой начальник увидел меня и понял, что рано мне носить тяжести. Я и сам не ожидал такой подляны от своего организма. Второй раз я принёс ещё меньше дров. Начальник штаба вздохнул и сказал:
– Придётся нам с тобой распрощаться, Фёдоров. Завтра подыщу тебе замену. Но ты не переживай, пойдёшь писарем в учебную роту, там не нужно будет поднимать и носить тяжести.
* * *
На другой день я был уже писарем второй роты. Жил я и работал в общей казарме. В дальнем углу перед окном находилась моя койка и письменный стол. Поначалу приходилось писать много. Нужно было выписать всем ста двадцати новобранцам служебные книжки. А писать приходилось в присутствии каждого в отдельности, плюс ещё успевать заносить некоторые анкетные данные в журнал. Выводил буквы я старательно, поэтому получалось медленно. Одно радовало, что почерк у меня был неплохой. Так меня научила первая моя учительница. Писать приходилось вечерами, поскольку днём ребята были на занятиях.
Постепенно я сдружился со старшиной роты, сержантом, родом из Подмосковья. Он мне доверил ходить на почту за письмами и посылками. Я брал двоих солдат из роты и шёл на почту. Посылок обычно было немного.
Письма мы раскладывали на моём столе, а посылки несли в каптёрку, и там в присутствии адресата их вскрывал старшина. Иногда нас чем-нибудь угощали. А однажды в посылке обнаружилась бутылка крепкого спиртного. Старшина заявил:
– В армии спиртное не положено!
– Я не просил, – начал оправдываться хозяин посылки. Потом пожал плечами: – Что хотите, то и делайте.
Мы пошли на компромисс, распив бутылку на троих.
* * *
Как-то утром к нам в казарму зашёл дежурный офицер части. Рота была на физзарядке. А я спал, поскольку считал, что команда «Рота, подъём!» ко мне не относится. Дежурный, подойдя к моей койке, спросил у командиров, находящихся в казарме:
– А это кто?
– Писарь.
Этим словом всё было сказано. Я слышал этот разговор, но глаз не открывал, и меня никто не тронул. Обычно я поднимался, когда уже нужно было готовиться к завтраку.
7 ноября, в День Великой Октябрьской социалистической революции мне поваляться в постели не удалось. Всю нашу роту подняли для участия в параде в городе Ахалцихе. После завтрака мы переоделись в парадную форму и вышли на построение. Нас передвигали, переставляли в разные места колонны, как будто кто-то играл в громадный тетрис. Когда, наконец, по мнению командиров, удалось добиться какой-то стройности, начались тренировки по строевой подготовке на плацу. Я вспомнил, как два года назад сам здесь же постигал азы армейской шагистики.
Тренировка длилась полтора часа с двумя перерывами. А затем мы пошли строем в центр Ахалцихе, где была сооружена трибуна, на которой находились руководители города, района и командиры воинских частей, дислоцированных поблизости.
Вначале прошла демонстрация трудящихся, за ними двинулись воинские части. Открывали парад пограничники во главе с бравым подполковником (заместителем командира части) со знаменем части. За ним следовали музыкальный оркестр и две роты солдат, в авангарде которых шли командиры. Первую роту составляли «ветераны парадов», которым два раза в году приходилось участвовать в подобных торжественных смотрах. Это была маневровая группа, авторота и другие подразделения, дислоцирующиеся при штабе части. Второй ротой была наша учебная, в которой правофланговым маршировал я и два моих коллеги из других учебных рот. Мы прошли чётко, без единого сбоя, хотя срок службы у солдат нашей роты был чуть более месяца.
После парада мы всей ротой сфотографировались у полуразрушенной стены крепости. Это фото у меня сохранилось. Запомнился ещё один эпизод времён моей писарской деятельности в роте. Мне, как отслужившему два года, прибавили денежное довольствие с тридцати до пятидесяти рублей. Старшина, узнав про это, подмигнул мне:
– Надо бы «обмыть» это событие!
– Хм, я не против. Только вот как и где?
– Это я беру на себя, – сказал он.
Учебных обязанностей у старшины роты не было, он занимался сугубо хозяйственными делами. Поэтому днём, как и я, иногда был свободен. На следующий день он принёс две увольнительные, для себя и для меня.
* * *
День был хороший, солнечный, с лёгким морозцем. Мы погуляли по городу, зашли в кафе, сели за стол. Заказали по сто грамм водочки и лёгкую закуску. Старшина вдруг обратил внимание на мою шапку:
– Что это она у тебя такая истрёпанная?
– Да я же на Кюмбете служу, а там она почти круглый год на голове! По крайней мере, десять месяцев в году точно.
– Мы тебе достанем новую шапку, – пообещал он.
Два часа мы провели в городе. А вечером в клубе показывали художественный фильм. Свободных мест было мало, и мне пришлось сесть рядом с офицером. Я остерегался «дыхнуть» в его сторону, чтобы он не заметил запаха спиртного, но он не обратил на меня никакого внимания.
* * *
На другой день, когда солдаты ушли в столовую, мы со старшиной остались вдвоём в казарме. Даже дневального не было. А на постелях, аккуратно заправленных, лежали в один ряд новенькие шапки с пятиконечными звёздочками. Старшина предложил:
– Примеряй любую, которая понравится и подойдёт. Будет твоей.
– Мне неудобно брать чужое, – возразил я.
– Да какое чужое-то! Здесь ничего чужого, всё общее! Ну что стоишь? Приказываю примерить и мне доложить! – улыбаясь, скомандовал он.
Я примерил две шапки. Одна из них оказалась как раз по моей голове. Он её забрал в свою каптёрку, которая находилась на улице через дорожку. А обратно принёс «древнюю», почти потемневшую шапку и положил её на место новой.
– Ты пока на учебном ходи в своей шапке. А эту получишь в конце учебного.
– Слушаюсь, товарищ сержант! – отчеканил я, нарочно пристукнув каблуками и приложив руку к шапке. Он засмеялся, и мы с ним пошли в столовую.
Когда мы вернулись, наша махинация была уже раскрыта. И молодой солдат сразу обратился к старшине:
– Товарищ сержант! У меня шапку украли.
– А что у тебя в руках? – строго спросил старшина.
– Шапка, но не моя. Эта очень старая.
– Значит, не украли, а подменили, – резонно заметил сержант. – Ты можешь узнать свою шапку из тех, что здесь лежат? Может, ты какую-нибудь отметку на ней делал?
– Никак нет, не делал.
– Тогда ты её вряд ли найдёшь. Я постараюсь найти тебе шапку получше, но новой не обещаю.
Через день он действительно принёс довольно приличную шапку – нашлась в каптёрке у другого ротного старшины. На этом молодой солдат успокоился, конфликт был исчерпан. Но в казарме после этого постоянно стал дежурить дневальный.
* * *
Новый, 1954-й год я встречал в компании старшины, который получил у начальства на нас двоих увольнительные в город. В Ахалцихе проживали грузины, армяне и курды, а вот русских, кроме семей офицеров и сверхсрочников, не было. Поэтому наши попытки познакомиться с девушками были безуспешными.
Мы зашли в знакомое нам кафе. Выпили за Новый год, вторую подняли «за то, чтобы в этом году нам оказаться дома». Немного погуляли по городу и вернулись в часть.
Со своим начальником заставы капитаном Кирилловым я иногда встречался по служебным делам в его штабе: приносил списки, получал для роты планы учебных занятий. Иногда выполнял поручения командира роты. Кириллов всегда интересовался моим здоровьем, самочувствием, и вообще тем, как мне служится в роте. Я отвечал бодро: «Всё хорошо!». Так оно и было.
* * *
После середины января наш учебный батальон временно прекратил своё существование – до осени. Ребят распределили по заставам и другим подразделениям части. А мне сказали, что я останусь при штабе и стану писарем квартирно-эксплуатационного отдела (КЭО).
С нового года началось сокращение некоторых должностей сержантского состава, имеющих высокое денежное довольствие. Так, мой предшественник, прослуживший больше меня на полгода, был старшим сержантом и имел ставку старшины – 300 рублей. Это писарь КЭО, который в основном выписывал накладные на получение дров и угля для отопления квартир офицеров и сверхсрочников, живущих в городе, а также принимал заявления от офицеров на получение квартир или улучшение жилищных условий. Ещё писарь имел адреса всех живущих в городе офицеров, которых иногда надо было вызывать во внеурочное время, даже ночью, поскольку телефоны были лишь у старших офицеров. Но такие случаи были очень редкими. За две недели моего пребывания в КЭО такого не было ни разу. Моего предшественника перевели старшиной на одну из застав, где у него сохранялось прежнее денежное довольствие. А мне дали ефрейторский оклад, 75 рублей.
На передачу дел старшему сержанту дали три дня. За это время он должен был ввести меня в курс дела. Сам он был хорош собой, любил и умел пошутить. У нас в отделе истопником и уборщицей работала вольнонаёмная молодая женщина (может, девушка). Возможно, она была русской, во всяком случае, по-русски говорила безо всякого акцента. Хотя она была темноволосой, но и среди русских хватает брюнеток, не так ли? В общем, бывший писарь решил напоследок надо мной подшутить. В отделе был начальник, его заместитель и двое посетителей, когда он указал на меня и сказал:








