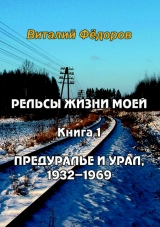
Текст книги "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969"
Автор книги: Виталий Федоров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 61 страниц)
Глава 144. НИКОЛКИНА МЛАДШАЯ ГРУППА
В этом году нашему Николке исполнилось три года. Он уже ходил не в ясельную группу, и мы теперь смогли перевести его в другой детский садик, который находился совсем близко от нашего дома. Из наших окон даже были видны дети, гуляющие на участке, и слышен их галдёж. Рядом с садиком прямо к нашему дому была проложена асфальтированная дорога. На первом этаже, прямо под нами, находился магазин хлебобулочных изделий, к которому раз-два в сутки подъезжала по этой дороге машина с хлебом. Сквозного проезда по дороге не было, и кроме этой машины (ну и редких автомобилей, обслуживающих детский сад) никакого транспорта по ней не ходило. Поэтому мы с женой решили, что со следующего лета Николка будет ходить в садик самостоятельно, а мы будем провожать его из окна.
Коленька довольно рано – в два года и семь месяцев – начал выдавать нам свои умозаключения, чем часто нас веселил. Многие из его высказываний я записывал в тетрадь, но она со временем затерялась. Однако кое-какие его перлы запомнились на всю жизнь. Вот некоторые из них.
* * *
– Папа, зачем у радио антенна?
– Чтобы радио говорило.
– А без антенны оно будет только петь?
* * *
Зимой увидел лошадь, запряжённую в сани, из ноздрей которой валил пар. Воскликнул:
– Смотрите, лошадка курит!
* * *
Коленька спрашивает:
– Папа, кто такие интеллигенты?
– Такие, как мама.
– Дерутся, что ли?
Посмеявшись, я всё-таки подошёл к Рае с вопросом, правда ли то, что говорит ребёнок? Она тоже развеселилась, но признала, что бывает – может поддать лёгкий подзатыльник.
* * *
– Когда я вырасту большой, и у меня будет расти борода, я буду её подстригать, и тогда буду всегда молодым.
* * *
Услышал однажды по радио песню «Ведь мы ребята семидесятой широты». Удивился:
– Разве бывают такие широкие ребята, семидесятой широты?
* * *
Жаль, что тетрадь потерялась, иначе мог бы посвятить «юмору в коротких штанишках» целую главу. Кстати, наш диалог про антенну и радио я отослал в газету «Уральский рабочий». Его там напечатали в рубрике «От двух до пяти», а мне даже прислали небольшой гонорарчик[54]54
Уже в начале восьмидесятых стараниями редактора этой книги диалог про радио был опубликован и в журнале «Крокодил». Оттуда тоже прислали гонорар – что-то около двух-трёх рублей (Прим. ред.)
[Закрыть].
Николка любил засыпать со мной. На ночь я рассказывал ему сказку, по которой был снят мультфильм «Лесные путешественники» про бельчонка Белоносого, за которым охотилась куница. Она всегда и всюду гонялась за ним, но он был ловок и не попадал в её лапы. В одном из эпизодов Белоносого спасли бобры, переплавив его на кусочке дерева через реку. Куница плавать не умела и осталась «с носом». Я старался по возможности разнообразить сюжет, выдумывая новые эпизоды. Но всегда сказка заканчивалась хорошо, и Николка сразу засыпал. Исключение составляли вечера, когда по телевизору показывали хоккей или фигурное катание – тогда он мог сидеть и смотреть соревнования до полуночи.
Однажды, уже в июне 1967 года, я сидел дома и заканчивал работу над курсовым проектом. На следующий день я должен был оформлять студенческий отпуск. Рая ушла на работу, поручив мне отвести ребёнка в садик. Однако он вдруг заупрямился, и даже в каком-то отчаянии закричал:
– Не пойду, не хочу!
Вообще-то он был послушным мальчиком, не своевольным и не избалованным, поэтому я не мог понять, что на него нашло. Решив, что это обычный детский каприз, и что если я ему уступлю сегодня, то он и на следующий раз решит провернуть подобный номер, я не стал допытываться о причине. Повысил голос и повторил:
– Пошли в садик!
У него на глазах выступили слёзы и он снова заладил:
– Не хочу!
И тут я его ударил, после чего он сдержал в себе рыдания и обречённо согласился идти.
А вечером мы узнали причину «каприза» Николки. Оказывается, накануне в его группе произошёл несчастный случай с девочкой, с которой он дружил, и это его потрясло.
Воспитательница вывела группу на прогулку и позволила детям самостоятельно играть и развлекаться. Сама же на некоторое время отошла по какой-то надобности. На участке была установлена металлическая горка, дети катались с неё. По всей вероятности, Марина поскользнулась на гладкой поверхности, упала и кубарем покатилась, но не прямо вниз, а в сторону и под перила. Голова её попала между стойкой перил и жёлобом горки, и она повисла на шее. Пока детки догадались сообщить взрослым, а те поняли их лепет и поверили – было уже поздно, девочка умерла.
В день трагедии Коленька ничего нам не сказал. Может, их предупредили, чтобы они ничего не рассказывали, а может, просто чем-то отвлёкся и забыл. Когда мы узнали о произошедшем, то спросили сына, пытался ли он помочь бедной девочке.
– Пытался, – ответил он. – Но было туго.
Воспитательницу отдали под суд за халатность, приведшую к столь печальным последствиям. Она получила семь лет общего режима.
А у нас сохранилась фотография их группы, сделанная до этих трагических событий. На ней запечатлена и эта воспитательница, и ещё живая девочка Марина. Когда мы показали эту фотографию сыну и спросили его, кто здесь Марина, он указал, не колеблясь.
Мне же до сих пор стыдно за свой поступок по отношению к малышу.
Глава 145. «ГОРЬКО!» И «ШАЙБУ!»
Новый 1967 год мы не отмечали, поскольку мне по графику выпало идти на работу. Мы менялись в час ночи, а из дома я вышел без малого полночь. Я как раз проходил по дворцовой площади мимо наряженной новогодней ёлки, когда услышал сигналы точного времени по радио. Пожал сам себе руки, поднял их над головой и поздравил сам себя с Новым годом.
В марте нас пригласили на свадьбу моего брата Евгения и Эльвиры. Закончив путешествовать по городам и весям нашей страны, Женя в свои двадцать шесть лет решил остепениться. Эльвиру он знал давно, ещё со школьной поры. Она была дочерью Ивана Андреевича Третьякова, учителя из Горбуново. Если помните, я рассказывал о том, как мы были у него в гостях, когда мама ещё жила в Горбуново.
Свадьбу решили сыграть в Северске у сестры Фаины. У них была трёхкомнатная квартира. В одной из комнат накрыли столы, там же стоял телевизор. Другая была освобождена под танцзал, а третья предназначалась для детей: Фаиных дочерей Лены и Ирины и нашего Николки. Присматривала за ними бабушка Даша.
Народу было немного. Со стороны Эльвиры вообще не было никого, несмотря на то, что она имела много братьев и сестёр. От нас же не было лишь Веры. Кроме родственников, приглашена была знакомая Фаи по работе, которая, в свою очередь, пригласила молодого мужчину. Итого, если считать детей, получилась дюжина гостей.
Торжество началось с тостов, пожеланий, и, как обычно, хорового скандирования «Горько!». Но тут в свадебное торжество вмешался… хоккей. В этот же день и час начался матч чемпионата мира СССР – Швеция. Кто-то предложил смотреть хоккей и выпивать по рюмочке за каждую заброшенную нашей командой шайбу. Сидящие за столом не возражали. Первый период закончился со счётом 3:0 в пользу сборной СССР. В перерывах хоккейного матча после успешного отмечания голов гости выходили на танцы. Во втором периоде наши продолжали забивать, и вскоре женская половина отказалась продолжать хоккейный марафон. После пятой шайбы в ворота шведов я тоже решил «попридержать коней» и стал лишь слегка пригублять. Игру мы досмотрели до конца, но последние шайбы уже не отмечали, иначе можно было упиться. Как-никак, матч закончился со счётом 9:1 в нашу пользу. К слову, в тот год наша сборная завоевала золотые медали чемпионата мира.
После хоккея все пошли в танцзал. Я танцевал с Раей и Тамарой – так звали Фаину гостью. Она была раскованной и общительной, не то что молодой человек, который её сопровождал – он не нашёл дружеского общения ни с мужской, ни с женской половиной нашего общества. Да и пригласившая его Тамара не обращала на него особого внимания, а танцевала то со мной, то с Володей. Тогда он пошёл в зал, налил две рюмки водки и подошёл ко мне:
– Давай, выпей со мной, – и протянул одну рюмку. А потом со значением добавил: – Я начальник колбасного цеха.
– Извини, но я не хочу больше пить, – отказался я. И правда, я чувствовал, что ещё одна рюмка была бы лишней. Мужчина же обиделся и вскоре ушёл.
После окончания торжества молодожёны ушли на съёмную квартиру. Мне же Фая с Раей предложили проводить до дома Тамару. Я согласился. Мы шли по заснеженной улице, полуобняв друг друга. Когда добрались до её дома, мне захотелось на прощание её поцеловать, но она не позволила. Я не настаивал, сказал «до свидания» и ушёл.
На следующий день торжество продолжилось в том же составе, не было лишь колбасных дел мастера. И тут Тамара за столом при всех объявила, что я ночью покушался на её алые губы. Возможно, она хотела посмотреть, как среагирует на это Рая, полюбоваться на семейную сцену с выяснением отношений. Рая же отнеслась к этому заявлению спокойно, посмеялась вместе со всеми. Я не отпирался, но всё прошло, как и не было.
После обеда мы поехали домой. Наш Николка как в гостях, так и в дороге вёл себя прекрасно.
Глава 146. ЖЕЗЛОВЫ
Мы с Анатолием Жезловым учились в одном институте, я отставал от него лишь на полкурса. Мы вместе ездили на сессию, вместе жили в общежитии, но экзамены сдавали разные.
После окончания летней сессии мы решили устроить совместный семейный отдых. Поехали на пруд купаться и загорать. Мы взяли с собой Николку, у него же с женой детей ещё не было, хотя дело было не за горами – Вера была в «интересном положении», где-то на седьмом-восьмом месяце беременности, с солидным животиком. Несмотря на это, она вела себя очень активно, купалась, бегала, а когда мы стали играть в волейбол, она тоже встала в круг. Мы попытались её отговорить, но куда там! Стала играть со всеми на равных.
После отдыха на пляже мы пригласили Жезловых зайти к нам. Собрали на стол, «что бог послал». Осмотрев нашу обитель, Вера немного удивилась:
– У вас даже дивана нет! Да и зеркало вам бы не помешало. Хотите, я могу вам помочь?
Как выяснилось, Вера работала в универмаге заведующей мебельным отделом. Она рассказала, что у них на складе имеется товар, который считается бракованным.
– Но вы сколько будете искать брак, его так и не найдёте, – уверила она нас. – В свободную продажу эти товары не поступают, мы их продаём только знакомым, поскольку они уценены больше, чем на пятьдесят процентов. Приходите завтра в магазин. Мы сходим на склад и что-нибудь вам подберём.
На другой день мы пошли вдвоём в магазин к Вере. Она провела нас на склад, где мы выбрали себе диван с зелёной обивкой и трюмо. И правда, никакого брака в своих покупках мы не обнаружили. К слову, прослужили они нам сорок один год.
* * *
Через пару месяцев Вера родила двойню – двух девочек. Радость была омрачена плохой новостью – ноги у новорождённых оказались искривлёнными. Врачи сказали, что у одной девочки, скорее всего, ножки со временем выпрямятся, а другой, наверное, придётся делать операцию, возможно, и не одну.
Пока она ещё не ходила, ей на обе ноги в область бедра надели кольца и подтянули ноги одну к другой. Мне об этом рассказывал Анатолий.
Мы с Раей винили себя в том, что могли быть косвенно виноваты в несчастье Жезловых. Как-никак, это мы принесли мяч, устроили игру в волейбол, и не слишком настойчиво отговаривали Веру от игры. Хотя, конечно, вполне возможно, что совсем не это привело к такому дефекту здоровья девочек.
Вера же по-прежнему относилась к нам хорошо, даже приводила в пример своему Толе – как мы дружно и хорошо живём.
Глава 147. НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ
На участке третьей фабрики по вывозу пыли я проработал целый год. В начале июля меня пригласил в свой кабинет начальник службы тяги Борзунов.
– Я тебе предлагаю должность машиниста-инструктора, – с ходу сказал он.
– Пока не могу ответить. С завтрашнего дня иду в отпуск, давайте, за это время подумаю и приму решение.
– Хорошо, пусть будет так. Я надеюсь, что оно будет положительным.
Я прикидывал и так и этак. Больше всего меня смущало, что машинисту-инструктору на раскомандировке необходимо проводить беседу (хотя бы пятиминутную) со всей сменой. А это ни много ни мало более пятидесяти человек – машинистов и помощников. Я был не мастак говорить перед аудиторией, стеснялся, когда меня слушало столько народу. Но в отпуске я поразмышлял и пришёл к выводу, что жизнь заставит научиться всему, в том числе и выступать перед публикой. В общем, после отпуска, 5 августа 1967 года я дал своё согласие.
Начальник направил меня в смену Иванова, у которого я начинал машинистом электровоза ещё девять лет назад. Он ещё тогда показался мне непорядочным человеком. Один пример его отношения к людям я хорошо помнил.
В первый же месяц моей работы в цехе нашу смену направили в колхоз на уборку картофеля. Во время обеденного перерыва мы всей сменой расположились на красивой лесной опушке, сверкавшей на солнце изумрудно-золотистыми листьями. Я ещё не успел сойтись ни с кем из смены, чтобы присоединиться к чьему-то обеденному «столу» и поделиться своей нехитрой трапезой, которая состояла из двух кусочков хлеба и бутылки какао с молоком (Нижнетагильский рецепт). С нами были движенцы – дежурные по станциям и стрелочницы.
Я сидел в одиночестве. Вдруг ко мне подошла симпатичная девушка лет за двадцать.
– Что один скучаешь?
– Мне так нравится. Но если вы присядете, можем устроить общий стол.
– Хорошо, я сажусь.
У неё в сумке оказалось полотенце, которое она расстелила на травке, разложила на нём несколько разных пирожков. Я тоже выложил свой холостяцкий аскетичный обед. Она похвалилась, что пирожки готовила сама, угостила меня. Пирожок был вкусный, о чём я сразу ей сообщил. В свою очередь я налил в её стаканчик своего холодненького какао. Она оценила (наверное, больше из вежливости). После обеда я предложил ей прогуляться по лесу, она согласилась.
Мы пошли, ни на кого не обращая внимания. Но за нами, оказывается, следили. Мы прошли лишь метров пятьдесят и остановились у поваленного дерева. Успели лишь назвать друг другу свои имена (её звали Людой), когда услышали треск сухих веток под ногами идущего к нам человека. Это оказался Иванов – он шёл прямо к нам, гаденько осклабившись и показывая свои крупные кривоватые зубы.
– Вот решил я погулять по лесу, как и вы, – не стирая ухмылку с лица, сообщил он.
– Обязательно было нужно за нами идти? – спросил я, а сам подумал: «Испортил песню, дурак!»[55]55
«Эх… испортил песню… дурак!» – фраза из пьесы Горького «На дне». Так Сатин отреагировал на неожиданное известие о самоубийстве Актёра. (Прим. ред.)
[Закрыть].
– Пошли работать, – сказал Иванов.
Мы вернулись на стан. Там, конечно, работать ещё никто не собирался. А мне больше в этот день пообщаться с Людой не довелось. Да и на работе она мне не встречалась. Впрочем, если помните, в то время у меня и не было особого желания заводить дружбу с девушками. Так она и промелькнула, как «мимолётное виденье». Но поступок Иванова мне запомнился.
Потом было время, когда мы переходили на широкую колею, а он ещё долго держал меня на узкой. К счастью, потом уже я работал в других сменах. И вот новая встреча через пять лет.
Раньше инструктором в смене Иванова был пожилой мужчина пенсионного возраста – Семён Дементьевич, страстный рыболов. В выходные они с Ивановым и ещё одним машинистом часто ездили на рыбалку на Белоярское водохранилище на реке Пышма. Вода из реки поступает для охлаждения реакторов Белоярской атомной электростанции, а сбрасывают её преимущественно в это водохранилище позади станции. В зимнее время эта горячая вода образовывала широкую полынью, к которой устремлялась рыба. Вот около этой полыньи они обычно и рыбачили. Семён Дементьевич был маленьким, худеньким мужичком. Он всё время стремился разместиться поближе к открытой воде. Но однажды его лёд не удержал – он провалился и утонул. Пытались ли его спасти Иванов сотоварищи, я не знал, как и вообще никаких подробностей произошедшего.
Вместо погибшего инструктором сначала назначили Молочкова, который был опытным и толковым машинистом. Но он не имел специального образования и особого желания работать инструктором. В результате «сосватали» меня. В трёх оставшихся сменах инструкторами работали наши выпускники Свердловской школы машинистов: Никитин, Южаков и Карпец.
На первой смене меня представили в качестве машиниста-инструктора. После того, как смену распустили по своим рабочим местам, Молочков меня напутствовал: «Твоё дело – техника, а по локомотивам людей распределяет начальник смены». Должностной инструкции никакой не было, но я сам подумал, что должность инструктора подразумевает не только необходимость следить за состоянием техники и по сигналу машинистов помогать устранять неисправности, но и проводить занятия с личным составом смены по правильному управлению локомотивом и тормозами, изучать электрические схемы и так далее.
Примерно за месяц я уже освоился в своей новой должности. Но с Ивановым у нас взаимопонимания так и не возникло. Он как будто выполнял свою работу, а я свою. Сблизиться никто из нас не стремился. Когда Иванов ушёл на месяц в отпуск, замены ему не дали, и мне пришлось выполнять обязанности и инструктора, и начальника смены. За месяц его отсутствия я даже ни разу не подумал, что кого-то на своём рабочем месте не хватает, решал без каких-либо затруднений текущие проблемы. Даже начальник службы тяги не вмешивался в мою работу, хотя, конечно, мы с ним о ней разговаривали.
Наша раскомандировка теперь была в черте города, в бывшем здании городской администрации. Там имелся большой зал со сценой и трибуной, за которой мне приходилось выступать. Один кабинет занимал начальник службы тяги, а в другом оборудовали учебный класс, где инструктора проводили занятия с личным составом смен.
Я приходил на работу за полчаса до начала смены, брал в кабинете начальника журнал, садился за стол, который стоял на сцене рядом с трибуной. За десять минут до начала смены узнавал у диспетчера места пребывания поездов и сообщал бригадирам. Пришедшие на работу подходили ко мне, назывались по фамилии и локомотиву, на котором работали. Большинство людей я, конечно, знал, но бывали и новички из других смен, пожелавшие в свой выходной по просьбе руководства поработать.
Однажды на раскомандировке я заметил, что один из машинистов – Григорьев – явно нетрезв. А ему, как и всем остальным, через десять-пятнадцать минут надо было отправляться на работу в ночную смену. Не знаю, как бы поступил Иванов (кстати, они с Григорьевым были приятелями), а я поступил по-своему.
– Григорьев, сегодня я не допускаю тебя до работы. Можешь идти домой, а утром я доложу начальнику цеха.
– Почему?
– Да потому что ты пьян. Ещё уедешь загорать на Южный рудник. На Северный не поедешь, там холодно.
Кто понял шутку, засмеялся. Григорьев спорить не стал. Мне удалось заменить его другим машинистом, у которого локомотив был на ремонте.
Оставшийся месяц мы проработали спокойно, больше никаких происшествий не было, план перевыполнили. Мне даже понравилось работать без начальника смены. А в октябре мне дали премию с записью в трудовой книжке: «За работу в III квартале премировать в сумме 20 руб.». К слову, на эту сумму можно было купить сто булок белого или сто пятьдесят – серого хлеба, или сто литров молока (у нас в семье ни один день без этих продуктов не обходился).
Глава 148. ДМИТРИЙ КОСЕНКО
Ещё весной 1967 года в наш цех поступили два новых тепловоза ТЭМ1[56]56
ТЭМ1 – «Тепловоз с электрической передачей, маневровый, тип 1». Советский крупносерийный шестиосный маневровый тепловоз. Выпускался в 1958–1968 годах. (Прим. авт.)
[Закрыть]. Поскольку ранее у нас таких локомотивов не было, пригласили из Свердловска двух машинистов. Одного звали Дмитрий Косенко, а другого – Николай Андреев. Им сразу выделили благоустроенные квартиры и поручили вести курсы машинистов тепловоза. На курсы записывали желающих машинистов электровозов и их помощников. Я несколько раз, больше ради любопытства, сходил на эти курсы. Но оказалось, преподаватели записали меня в журнал. Когда я уже работал инструктором и заходил к ним на курсы, Косенко и Андреев почему-то решили, что меня прислала администрация, дабы контролировать учебный процесс. Я развеял их подозрения.
На курсах я ближе познакомился с Дмитрием. К осени на тепловозах должны были работать по четыре машиниста, а пока днём работали лишь двое приглашённых. В начале сентября учёба закончилась. Большинство отучившихся получили «права» машинистов тепловоза. Правда, это были права «местного разлива», от Минстройматериалов. С этими документами нельзя было работать в системе других министерств и ведомств.
Однажды я зашёл к начальнику тяги, и он вручил мне свидетельство на право управления тепловозом.
– Вот, Косенко принёс, просил передать. Тебе всё равно придётся обкатывать технику и принимать практические экзамены у двух машинистов своей смены.
– Надо же. Я, конечно, не собирался становиться тепловозником. Но спасибо, может, пригодятся когда-нибудь.
* * *
7 ноября, в День Великой Октябрьской социалистической революции нас после демонстрации пригласила в гости чета Косенко. Жену Дмитрия мы уже знали, она работала в магазине хлебобулочных изделий в нашем доме, и мы видели её почти каждый день.
Косенко жили в районе тридцатой школы – в довольно спокойном месте, рядом с лесом. Когда мы пришли к ним, Дмитрий представил нам своих детей. Их у него оказалось аж четверо – сын и три дочери в возрасте от двадцати до десяти лет. Мы пришли вместе с Николкой (обычно мы всегда брали его с собой в гости, он вёл себя хорошо и никому не мешал).
Дмитрий был человеком общительным, компанейским. Среднего роста, коренаст, с тёмными вьющимися волосами. Круглое симпатичное улыбчивое лицо. У нас сохранилась фотография их дружной семьи. Кроме нас, Косенко пригласили своих соседей. А их соседом оказался мой однокашник по школе машинистов Виктор Кутаев. Это был лысенький мужчина, участник Великой Отечественной войны. Он был большим любителем поговорить, мог часами болтать обо всём на свете и ни о чём конкретно. Один шутник из нашей учебной группы, помнится, сказал ему: «Твоим языком только марки клеить на конверты на почте, и то будет больше пользы». Но Витя не оскорбился, он вообще был простецким мужиком.
Вот в такой компании мы и отмечали праздник. Дима был настоящим весельчаком: играл на гармошке плясовые и танцевальные мелодии, красиво пел. У Раи с ним получился хороший дуэт, но и остальные ему тоже подпевали. А младшая дочка Косенко, Лариса, показала нам сольный танец, который всем понравился. В остальное же время она играла с нашим Николкой. Старшие ребята Косенко – сын и дочь – ушли гулять, а средняя дочка, красавица Таня, оставалась с нами и помогала своей маме. Хозяйку звали Шурой. Она была женщина степенная, немногословная, чем разительно отличалась от своего мужа. У неё было овальное лицо, высокий лоб, тёмные завитые волосы. Фигура была стройной, рост – довольно высоким, одинаковым с мужем. Шура производила впечатление интеллигентной женщины.
Мы хорошо и весело провели время у Косенко и пригласили их к нам на встречу Нового 1968 года.
* * *
Да простит меня читатель за излишнее увлечение техническими подробностями, но всё-таки приведу здесь некоторые характеристики поступивших к нам тепловозов ТЭМ1. Кузов их располагался на двух трёхосных тележках, нагрузка на каждую ось – 20 тонн. Общий вес локомотива 120 тонн. Двигатель внутреннего сгорания (дизельный) работал на солярке. Его мощность – 1000 лошадиных сил. На конце коленчатого вала жёстко установлен главный генератор, который вырабатывал электроэнергию для питания шести тяговых электродвигателей, которые через зубчатую передачу вращали колёсные пары так же, как и на электровозе. Вспомогательное оборудование получало вращение через карданную или ременную передачу. Кабина одна, располагалась в задней части, пульт управления тоже был в единственном числе. Доступ в электроаппаратную осуществлялся прямо из кабины машиниста, дверь располагалась посредине.
У нас эти локомотивы использовались на маневровых работах, в основном на прокладке новых передвижных путей в карьере и на отвале. К тепловозам почти постоянно был прицеплен железнодорожный кран и две платформы.
Один из тепловозов (на котором старшим был Андреев) «взбунтовался» – стал сходить с рельс в кривых, причём даже на главных постоянных путях. Он не мог вписаться в поворот, продолжая движение по прямой. Его поднимали на рельсы, но в тот же или следующий день он снова оказывался несколькими колёсами на шпалах. Дошло до того, что к нему прицепили аварийный крытый вагон, в котором находились подъёмные средства. Промучившись так недели две, вызвали представителя завода, который, поездив денёк, догадался, в чём причина сходов.
Как выяснилось, одна из четырёх опор кузова на тележке заклинивала из-за отсутствия смазки. Трубка, подающая смазку, оказалась засорена металлической стружкой ещё на заводе. Пришлось поднимать кузов краном и шлифовать трущиеся поверхности. После ремонта машина стала работать без перебоев.








