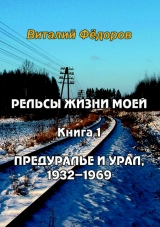
Текст книги "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969"
Автор книги: Виталий Федоров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 61 страниц)
Глава 88. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
После заселения в новое общежитие я написал домой свой новый адрес. И вскоре получил письмо якобы от мамы. «Якобы» – потому что оно явно было написано рукой Лены. «Мама говорит – ты мне больше не сын», – писала она. «Вот те раз!» – не поверил я. Если уж она и могла сказать подобные слова (в чём я сильно сомневался), то явно сгоряча, когда узнала, что я развожусь с Леной и бросаю её в «интересном положении». Я особо не расстроился, просто не верил тому, что мама может от меня отказаться.
Решил найти сестру Веру. Я знал, что она поступила в Свердловский пединститут на географический факультет. В институте узнал адрес её общежития. Оно оказалось недалеко от нашего (пятнадцать-двадцать минут пешего хода), вблизи Уральского политехнического института. Пригласил на совместную прогулку Юру Лебедева и Васю Рязанского. Они с радостью согласились пройтись по городу.
Мы нашли общежитие Веры. Она была у себя в комнате и очень обрадовалась, что я к ней пришёл. Познакомила с девчатами, с которыми вместе жила, а я представил своих друзей-товарищей. Юра был компанейским парнем, умел вести непринуждённый разговор, любил пошутить, поэтому скоро вся компания освоилась, и гости уже не чувствовали себя в тягость. Я хотел поговорить с Верой наедине, поскольку не афишировал своё семейное положение. Даже ребята не были в курсе моих семейных дел. Я попросил Веру выйти со мной в коридор, где и рассказал ей о письме Лены. Сестра тоже не восприняла всерьёз якобы мамину угрозу. Но я всё-таки пообещал Вере, что съезжу в деревню после Нового года.
На прощание я сообщил сестре телефон и адрес своего общежития. К нам всегда можно было позвонить – дежурные из обслуживающего персонала вызовут. Гостей тоже всегда пропускали, лишь спросив, к кому направляется посетитель.
* * *
Только в феврале я настроился съездить на выходной домой. Пришёл на вокзал уже вечером. На одной из платформ стоял поезд Москва – Владивосток. Я зашёл в вагон, не покупая билета. Проводница только мельком взглянула на мою железнодорожную форму и про билет даже не заикнулась. Я сел на свободное место и прикрыл глаза, не обращая внимания на полустанки, мимо которых проезжал. Так я и сидел, пока поезд не остановился на большой станции. Я выглянул в окно и обомлел. Каменск-Уральский? Боже мой, куда я попал?! Это же в ста километрах от Свердловска, но ещё дальше от Поклевской, чем я был раньше.
– А не подскажете, какие дальше большие станции? – спросил я у пассажиров. Они удивлённо посмотрели на странного железнодорожника, не знающего дорогу (уж не шпион ли?), но ответили:
– Шадринск, Курган.
Я быстро выскочил из вагона. Мне ничего не оставалось, как вернуться обратно в Свердловск. Зато теперь я знал, что до Владивостока поезда идут не только через Поклевскую, но и через Курган, а соединялись эти две ветки в Омске.
Я сел на первый попавшийся поезд до Свердловска. Перед подъездом к городу услышал громкие голоса – по вагону шёл ревизор. Я перешёл в другой вагон. Поезд тем временем остановился на пригородной станции Шарташ, откуда в город ходили трамваи. Чтобы не искушать судьбу, я сошёл с поезда и пересел на трамвай.
Так бестолково сорвалась моя поездка домой, точнее, в дом, который я так и не смог признать своим. Лишь из-за того что там жила мама, мне приходилось там бывать. А поездку пришлось отложить до лучших времён.
Скоро я получил письмо от Лены, в котором она сообщала, что родила дочку, назвала её Галиной. В Талицкий роддом её отвозил Иван Гаврилович, привёз обратно в Горбуново он же. Я решил, что в ближайший выходной поеду обязательно.
Билета в этот раз я тоже не покупал. Хотя я был одет в форму железнодорожника, которым в некотором роде и являлся, но вообще-то билет был покупать обязан. Нам полагалось в год только два бесплатных билета, один по всему Советскому Союзу (выбирай сам, когда и куда ехать), и ещё один по своей Свердловской дороге.
На вокзале я взглянул на расписание. Поезд дальнего следования, идущий через мою станцию, как раз стоял на платформе. Я осмотрелся, выбирая, в какой вагон мог бы сесть без помех. И тут заметил второкурсника, идущего к этому поезду с явной целью уехать на нём. Мы с ним близко друг друга не знали, но не раз встречались в школе, общежитии и столовой. Я подошёл к нему. Мы поздоровались и коротко поговорили. Оказалось, что ему нужно было ехать до Богдановича – это почти половина моего пути. Я ему высказал свои опасения насчёт безбилетного проезда, на что он мне ответил:
– Не переживай, пойдём со мной.
Я присоединился к нему. Мы подошли к вагону. Проводница стояла у открытой двери и спросила:
– Вы куда, молодые люди?
– У нас проездной четвёртой категории, – уверенно заявил мой спутник.
– Тогда проходите, – разрешила она.
Мы зашли в вагон и сели рядом на свободные места. Я поинтересовался:
– Что это за проездной четвёртой категории?
– Такой билет выдают тем работникам железной дороги, которым часто по служебным обязанностям приходится ездить на любых поездах. До учёбы в школе машинистов я работал на вокзале в Богдановиче в железнодорожной милиции и имел такой билет. Он у меня и сейчас с собой, правда, просроченный.
До Поклевской я доехал благополучно. В Горбуново пришёл уже в двенадцатом часу ночи. Все спали. Я постучал в дверь и с волнением ждал, когда откроют дверь. Открыл Иван Гаврилович. Я с ним поздоровался за руку и вошёл в дом. Мама встала, когда услышала, что приехал я. Она позволила себя обнять, поздоровалась как обычно: «Здравствуй, здравствуй, сынок!». Это могло означать только то, что у нас с ней нет никаких разногласий. Я ещё не успел раздеться, как они оба стали восхищаться моей новой железнодорожной формой.
Как бывало всегда, мама дала мне покушать, а Иван Гаврилович принёс нам по кружке бражки. Я ел, мама смотрела на меня, и у неё вдруг на глаза навернулись слёзы. «Наверное, меня маленького вспомнила», – подумал я.
– Мама, не плачь, а то я есть не смогу, – попросил я.
– Ладно, ладно, ешь, не буду больше. – Она утёрла фартуком мокрые глаза.
– Я вам обоим много хлопот доставил, – повинился я. – Вы уж меня простите.
– Бог простит.
Я поел, поблагодарил маму и завалился на полати рядом с Женькой.
Утром все встали почти одновременно. Малышка подала голос, требуя к себе внимания. Она спала в кроватке, рядом с койкой Лены в одном из углов большой комнаты, перегороженной ширмой. Мама с отчимом в это время управлялись с многочисленной живностью во дворе. Я сидел на кухне и слышал, как встала Лена и стала перепелёнывать и кормить малышку. Дверь в комнату была приоткрыта, и мне было кое-что видно. Подумалось, что по крайней мере с материнскими обязанностями она вполне справляется.
Когда она положила Галинку в кроватку, я попросил разрешения войти в комнату. Лена вздрогнула от неожиданности. Похоже, она ночью не слышала моего прихода. Резко повернулась в мою сторону, посмотрела удивлённым взглядом и произнесла над дочкой: «Папа приехал!». Эти два слова в мой адрес мне довелось услышать впервые. Я подошёл к кроватке и взглянул на это маленькое создание, которое ничем не отличалось от тех двухнедельных младенцев, которых я видел раньше.
– Как она себя ведёт? – спросил я.
– Довольно спокойная. Много спит.
– Волосики тёмные у неё.
– Как и у тебя. А ты ко мне вернёшься? – неожиданно она сменила тему.
– Нет, между нами всё кончено, – ни секунды не колеблясь, ответил я.
– А ребёнка тебе не жалко?
– Жалко, очень жалко! Но я буду помогать по возможности.
– У тебя в Свердловске уже кто-то есть? – Она, конечно, имела в виду девушку.
– Нет никого.
На том и закончился наш утренний разговор. После завтрака мы с Женькой пошли прогуляться на лыжах в небольшой лесок за деревню. Покатались мы полтора часа, а когда вернулись, то увидели, что у нас гость. Я его знал. Это был Иван Андреевич Третьяков, старший коллега Лены по школе. Я сообразил, что он зашёл к нам не случайно. Иван Андреевич был человеком тактичным, главой большого семейства. У него было семеро детей и большой опыт «миротворца», на роль которого он, видимо, и согласился прийти к нам без моего ведома.
Время клонилось к обеду. Вскоре начали собирать на стол. Появился полноценный обед, выпивка и закуска. После того, как выпили по первой, Иван Андреевич начал разговор со мной с вопросов: «Как доехал, трудно ли жить в Свердловске, как учёба?». Я старался отвечать обстоятельно.
После второй рюмки Иван Андреевич не стал говорить примиряющие речи, зная, что мы с Леной не ссорились, а напрямую спросил:
– Вернёшься ты в свою семью к жене и дочке, а если вернёшься, то когда?
– Никогда! Женитьба была самой большой моей ошибкой в жизни, – ответил я, поднялся на ноги за столом и продекламировал вслух четверостишие Есенина:
Ведь и себя я не сберег
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.
За столом – немая пауза. Все перестали жевать и воззрились на меня. Пришлось мне продолжать. Я перед всеми извинился за причинённые напрасные хлопоты, а также поблагодарил за участие в моей непутёвой судьбе. При всех пообещал, что как будет возможность, я стану помогать Лене растить ребёнка.
Иван Андреевич простился со всеми и пошёл домой. А я начал готовиться в обратный путь. На прощание зашёл в «детскую», посмотрел на Галинку (она мирно спала) и сказал Лене:
– У меня в чемодане имеются облигации Госзайма. Ты возьми их себе. Они могут выиграть или же погаситься. В газетах довольно часто печатают тиражи выигрышей и погашения.
Я простился со всеми, попросил меня не провожать и отправился на станцию. Хотелось приехать в Свердловск вечером, чтобы было время выспаться и не клевать носом завтра на занятиях. Я купил в кассе билет, занял в вагоне полочку, и после всех треволнений даже с часок поспал.
Итогом поездки я был вполне удовлетворён. Повидал малышку, с мамой не было никаких разногласий, да и Лена поняла необратимость нашей разлуки навсегда.
Глава 89. ФИЗКУЛЬТ, УРА!
Хотя ни в общежитии, ни в нашем учебном заведении не было спортзала, я стремился не терять спортивной формы, чтобы чувствовать себя уверенно в любых ситуациях. Утром я просыпался раньше всех и выходил на физзарядку в коридор, а иногда на лестничную клетку в конце коридора. Лестница вела в подвал и могла служить дополнительным выходом, но по ней почти никто не ходил, а на площадках всегда было чисто. Я выполнял почти все армейские упражнения, для которых не нужны были специальные спортивные снаряды, а некоторые придумывал сам. Отжимался от пола до семидесяти раз. Иногда спускался в подвал. Там были проложены многочисленные трубы, и их я использовал как перекладину.
Вспомнил любительские соревнования в конце службы в армии – перетягивание на пальцах. Правила простые и, хотя я о них уже упоминал, повторюсь. Соперники сцеплялись указательными или средними пальцами более сильной руки и тянули каждый на себя со всей силы. Другой рукой можно было держаться за что-нибудь – стол, койку, скамейку. Тот, у кого палец разгибался, считался проигравшим. Состязаться можно стоя, сидя – разве что лёжа не доводилось. Пишу об этом подробно лишь в надежде, что кто-нибудь из моих читателей решит заняться этим состязанием, хотя бы ради развлечения, как и я.
Вначале я провёл соревнование в своей комнате. Все пожелали попробовать силу своих пальцев. Мне удалось всех перетянуть «на свою сторону». Даже Коковин, с его-то физическими данными, был вынужден сдаться.
Слух обо мне прошёл по всему курсу. Соперников я не искал, они сами приходили ко мне и предлагали «потягаться». Я никому не отказывал. Стали соревноваться и в других комнатах. Чемпиона комнаты приводили ко мне и смотрели всё наше состязание. Так у меня появились друзья-соперники. Одним из них был Иван Вершинин, другим – Пётр Морозов, третьим – Скуригин. Они были готовы тягаться (особенно Вершинин и Скуригин) в любое время и в любом месте: на улице, в общежитии, в школе на переменах. Но им меня победить не удалось, хотя они отчаянно сопротивлялись. Мне ребята как-то рассказали, что Скуригин специально тренирует пальцы на трубе в подвале, куда он ходит ежедневно и подтягивается там на пальцах. Он был небольшого роста, коренаст и очень упорен в достижении намеченных целей, но всё-таки за время учёбы меня победить так и не смог.
Мы с Коковиным обратились к спортивному организатору нашего учебного заведения, второкурснику Токаеву с просьбой дать нам какой-нибудь спортинвентарь. Володя намекнул на боксёрские перчатки. Токаев принёс нам две перчатки и пару тренировочных лап. Хотя нам хотелось две пары перчаток, но и этому мы были рады. Все в комнате стали их одевать, примерять, пробовать…
Первыми на тренировку вышли мы с Володей. Я одел тренировочные лапы, Володя – перчатки. Через пару минут мы поменялись, а потом отдали перчатки и лапы другим. Так в нашем общежитии образовалась «боксёрская комната». На наши тренировки приходили смотреть ребята из других комнат нашего этажа.
Через десять дней мы решили устроить блицтурнир. Придумали правила – по одному раунду в течение трёх минут, если бой не будет остановлен раньше ввиду явного преимущества или – не дай бог! – травмы одного из соперников. Мы составили календарь боёв. Каждый вечер должно было проходить по два поединка. Все шестеро проживающих в нашей комнате изъявили желание участвовать в состязании. У нас по-прежнему было только две перчатки, поэтому вместо второй перчатки приходилось приспосабливать тренировочную лапу, благо она выполнена из такого же материала, что и перчатка. Правда, лапа более жёсткая и неудобная, но зато защищаться ею хорошо. Так что у каждого бойца был «щит и меч».
Судьёй был один из тех, кто в этот день не участвовал в бою. Мы установили свои жёсткие правила. В случае их нарушения судья давал виновнику предупреждение, а в случае повторения объявлял поражение. Наши правила были гуманны. Чтобы после поединка лица соперников не выглядели, как отбивные котлеты, при первом же появлении крови бой останавливался и пострадавший объявлялся победителем. Так случилось у меня в бою с Васей Рязанским. Во время боя у него из левого уха потекла кровь. У меня на правой руке была надета лапа, вероятно, ею я и умудрился заехать ему по уху. Я получил досрочное поражение.
На наши бои собиралось довольно много зрителей, многие смотрели из коридора через открытую дверь. Болельщики бурно реагировали на нашу игру и приходили каждый вечер, чтобы посмотреть, как мы – неумехи с одной перчаткой – колошматим друг друга.
Когда наш турнир закончился, мы сделали длительный перерыв. А потом однажды решили подшутить над нашими зрителями. Начали громко топать ногами и выкрикивать: «Давай, бей, бей точней!». На шум приходили болельщики, но увидев, что тревога была ложной, уходили разочарованными. После двух ложных боксёрских боёв они перестали к нам приходить. Из оставшихся ребят только мы с Володей иногда продолжали тренировки, выходя в коридор или на лестничную площадку.
Проводились у нас и официальные соревнования на стадионе «Локомотив». Ещё перед снегопадом наш курс в полном составе вывели на соревнования по бегу на дистанции полтора километра. В каждом забеге участвовало по десять человек. Результаты фиксировали по секундомеру второкурсники во главе с председателем спорткомитета.
Первое место занял архангелогородец Николай Мелюхнов. Второе – Виктор Коровин. Третье осталось за мной. Последним был Александр Панюжев, который вообще спортивные соревнования не воспринимал как серьёзное занятие и временами вместо бега передвигался лёгонькой трусцой, а то и шагом. Однако он добросовестно преодолел всю дистанцию под улюлюканье своих товарищей; похоже, это ему даже нравилось, поскольку, миновав финишную линию, он широко улыбался.
Зимой организовали лыжные соревнования в лесу за городом. Лыжи нашлись на весь наш курс, наверное, одолжил стадион «Локомотив». В лесу была проложена лыжня на две разные дистанции – десять и пятнадцать километров. Мы бежали более короткую из них. Был воскресный ясный, морозный день. Мы сняли свои чёрные шинели и развесили их на сучьях деревьев. Надели лыжи. Старт был общим, поэтому те, кто хотел серьёзной гонки, на старте долго толкались, пока не попали на лыжню.
Вперёд вырвался Мелюхнов и быстро оторвался от основной группы. Чтобы выйти на вторую позицию, мне пришлось обогнать нескольких своих товарищей. К этому времени лидер удалился так далеко, что его силуэт исчез в лесу. Вдруг я увидел, что лыжня раздваивается. По какому ответвлению ушёл Мелюхнов, я заметить не успел. Нам что-то разъясняли перед стартом, но я прохлопал ушами и ничего не понял. Возле лыжни стояли какие-то вешки, но что они обозначают, я не знал. Пошёл наугад, но мне не повезло. Скоро те, кто шёл за мной, оказались впереди меня. Когда я понял свою ошибку, я повернул обратно, потеряв на этом метров сто. Я разозлился на себя и стал бежать быстрее. Догнал впереди идущих, но лыжню мне уступил только один из троих. В общем, на финиш я пришёл четвёртым. А разрыв между первым и вторым местами по времени оказался очень большим.
Когда большинство лыжников прошло дистанцию, организатор и судья уехали. Отчасти из-за мороза, а отчасти из-за бессмысленности фиксирования результатов аутсайдеров (в первую очередь им нужно было выбрать кандидатов для усиления спортобщества «Локомотив»). Из участников первыми уехали горожане – их у нас на курсе было около десяти человек. Когда с линии финиша уже никто не просматривался на трассе, потянулись и остальные. Никто не обратил внимания на оставшуюся одиноко висеть на ветке шинель. Оказалось, что в это время Саша Панюжев всё ещё был далеко от финишной черты. С ним, конечно, ничего не случилось, и когда он благополучно добрался до общежития, то выговорил нам:
– Я в вас разочаровался. Нет, не потому что вы меня одного оставили, а потому что не встретили с оркестром и аплодисментами как героя, преодолевшего на лыжах целых десять километров!
Всю дистанцию он шёл более двух часов, и когда добрался до финиша, то увидел грустную картину – сиротливо висевшую на ветке свою шинель. А ведь в начале их было тут около шестидесяти.
По результатам этих соревнований был выявлен на нашем курсе лидер-спортсмен Николай Мелюхнов, которого стали вызывать на сборы и соревнования. А его антипод, Саша Панюжев (Пан Южев – так его звали иногда ребята) отличался не только последним местом в спорте, но и первым местом в юморе. Так, например, однажды мы утром шли на занятия в компании с Панюжевым. Нам нужно было перейти улицу с двухсторонним движением, разделённую трамвайными путями. Наша компания двинулась к пешеходному переходу. А Пан Южев со словами: «Посмотрите, что будет» – пошёл напрямую через дорогу, мало того, что в неположенном месте, так ещё и навстречу милиционеру, стоявшему на противоположной стороне. Служитель закона свистнул. Нарушитель остановился на разделительной полосе, где не мешал движению транспорта. Страж порядка пошёл к нему, надеясь прочитать мораль и оштрафовать нахала. Саша не дал ему сказать ни слова, сунул в руку трёхрублёвую купюру и двинулся дальше, бросив через плечо:
– Это я вам дал штраф за своё нарушение. – К слову, штраф за переход в неположенном месте был один рубль.
– Гражданин, стойте! Нужно составить протокол.
– Да ну его, протокол, я опаздываю, меня ждут, – он указал на нас. К этому времени он уже стоял на тротуаре. Милиционер догнал его и достал бланк протокола, приготовившись писать на планшетке. Саша показал нам жестом – идите, мол. Мы пошли, он – за нами, лишь обернулся сказать опешившему милиционеру:
– До свидания, товарищ!
Тот догнал Сашу и молча вернул ему три рубля.
Ещё один комичный случай произошёл в школе, во время перемены. Преподаватель по ПТЭ Полякова спросила Панюжева:
– Где Торов?
Саша, ни секунды не раздумывая, с серьёзным выражением на лице ответил:
– Он взял листок бумаги, тщательно его помял и куда-то убежал[14]14
Для молодого поколения поясню, что тогда у нас ещё не было туалетной бумаги (Прим. авт.)
[Закрыть].
Панюжев учился в другой группе и жил не в нашей комнате, поэтому многих его шуток и проделок я не знал. Но там, где он жил, по-моему, была «комната смеха».
Глава 90. ЗАГАДОЧНАЯ ДЕВУШКА ОЛЯ
Как-то, ещё зимой 1956 года ко мне в общежитие пришла сестра Вера, но не одна, а с подругой, которую представила как Олю, студентку географического факультета пединститута. Я познакомил девчат с соседями по комнате. Вера уже знала Юру Лебедева и Васю Рязанского, с которыми я ходил в общежитие пединститута, но Олю там мы тогда не видели. Она коренная свердловчанка, жила с родителями на ВИЗе (так называется район, где расположен Верх-Исетский завод). Оля была девушкой красивой, смуглолицей, темноволосой. Скромная, застенчивая, молчаливая – сама никогда не заговорит первой, на вопросы отвечает односложно.
Я рассказал Вере о поездке в Горбуново, упомянул о встрече с Иваном Андреевичем Третьяковым, бывшим школьным учителем Веры. Она сказала, что в их институте на факультете журналистики учится его сын – Славик.
– Мы тебе принесли пригласительный билет на вечер танцев в нашем институте, – вдруг вспомнила Вера.
– Очень хорошо, – обрадовался я. – А то давненько не «выходил в люди». А вы обе будете там? – глядя на Олю, спросил я. Она засмущалась, заморгала глазами чаще, чем обычно. Вера за неё ответила:
– Будем.
Девчата ещё с полчасика посидели, ведя разговор в основном с Василием Воронкиным, который у нас был самым интеллигентным и начитанным – учился в десятом классе вечерней школы. Гостей своих я проводил до трамвайной остановки у железнодорожного вокзала. Дальше им надо было ехать в разные стороны.
На вечере танцев Вера меня познакомила с Вячеславом Третьяковым. Он был крупным парнем, весь в отца. Мы с ним немного поболтали, но девушки, думаю, хотели танцевать. Когда музыка вновь заиграла, я пригласил на танец Олю. Вячеслав тоже кого-то пригласил, наверное, свою знакомую. Вообще же здесь юношей было заметно меньше, чем девушек, что неудивительно – в педагоги идут в основном девушки. А таких как я, приглашённых, было не так уж много.
В основном я танцевал с Олей, но иногда для разнообразия приглашал других девушек. Встретил я здесь и Эльвиру Чапурову, которая год назад помогала мне по математике перед вступительными экзаменами. Она не только училась, но стала на своём курсе комсомольским вожаком.
После окончания вечера я проводил Олю до трамвайной остановки, где мы и расстались – она попросила дальше её не провожать. Свидания я Оле не назначил, и мы долгое время не виделись.
Месяца через два, уже весной она вдруг появилась в нашей комнате. Я был удивлён, но вида не подал, а принял её вежливо, как хорошую знакомую. Правда, промелькнула мысль, что, может, она приехала не ко мне, а к кому-нибудь другому из нашей комнаты. Но ничего подобного я не заметил, после чего предложил ей пойти со мной в кино. Она согласилась, и мы сходили в кинотеатр. Впрочем, на этом всё и закончилось. Я проводил её, и мы вновь расстались без намёка на следующее свидание.
* * *
Тем временем я вдруг увлёкся театром. Сначала стал посещать цирк (где тогда блистал непревзойдённый иллюзионист Эмиль Кио), затем оперетту в театре музыкальной комедии. Однажды видел выступление родителей киноактёра Андрея Миронова. Они оба были артистами театра музкомедии и выступали в паре Миронова – Менакер, пели куплеты и танцевали. А вот пойти в драмтеатр я особого желания никогда не испытывал, считая, что жизнь человека и так постоянная драма, и если даже она не выходит наружу, то бушует внутри. Из жизни лишь одного человека можно написать несколько десятков, а то и сотен драматических пьес, поэтому я предпочитал другие театры.
Как-то зашёл в театр музыкальной комедии и в фойе увидел Шуру Крестьянникову – девушку из села Перваново. Поистине мир тесен! Я подошёл к кассе, взял билет и подсел к ней рядом. Наши чисто дружеские отношения не испортились (да и как они могли испортиться, если мы так долго не виделись?). Шура вышла замуж и теперь жила в Свердловске. И вот мы с ней встретились на оперетте «Белая акация». Она была здесь со своим спутником, наверное, мужем. Эта случайная встреча была последней, больше наши пути никогда не пересекались.
* * *
В комнате общежития мы все жили дружно. Среди моих товарищей особенно много хлопот доставлял Вася Рязанский. Он вёл себя как большой ребёнок, был неряшлив, и нам часто приходилось его буквально заставлять стирать носки, майки и другую одежду. Брился он всегда неаккуратно, где-то да оставался огрех. Кроме того, был беззащитен, его любой легко мог обидеть. Особенно в этом отличались ребята из другой группы нашего курса. В этой компании парни были ростом невелики, но душой хулиганисты. Василий же был большим, но неуклюжим, чем задиры и пользовались. Он никому не мог дать сдачи, а тем лишь того и надо было – изощрялись сделать ему побольнее.
Вася вначале был дружен с Юрой Лебедевым, они сидели за одним столом. Но Юра и сам был не прочь иногда над Васей подшутить. Я же никогда над ним не насмехался, а видя «шутки» других – жалел его. Со временем Вася стал ходить рядом со мной, и я оказался в роли охранника. Теперь мало кто осмеливался его задирать. Был лишь один такой – Думкин, почти самый маленький на курсе. Он продолжал свои провокации – подкрадывался сзади, бил по «мягкому месту» изощрённым способом – вдоль или поперёк ребром ладони «с оттяжкой». Я не стал кидаться коршуном на обидчика, а предупредил:
– Если повторится, то вызову тебя на боксёрскую дуэль. И жалеть не буду!
Больше (по крайней мере при мне) Васю не обижали. Так мы с ним и сдружились. Про таких, как он, говорят: «Муху не обидит». Но всё-таки однажды одну муху он обидел. Мы на выходных обедали в своей столовой. Уже было тепло, погода летняя, и нам на обед приготовили окрошку. Мы с Васей ели, но что-то показалось, что порции слишком маленькие – не наедимся. Когда на дне одной из тарелок ещё немного оставалось, мы поймали муху, и Вася бросил её в остатки еды. Потом мы с возмущённым видом пошли на раздачу и сунули тарелку под нос раздатчице:
– Что за безобразие! Нам муха в окрошке попалась!
Округлив глаза, женщина тут же предложила загладить вину, налив нам в чистую тарелку полную порцию окрошки. Наелись мы досыта, благо, хлеба нам давали сколько хочешь.
* * *
В нашей группе учился ещё Дима Мезенцев. Свердловчанин, но жил за городом в небольшом посёлке. Почему-то он проникся симпатией к нам с Васей. Как-то пригласил нас в воскресенье к себе домой в посёлок. Парень он был спокойный, уравновешенный, со светлыми кудрями. До его дома от нас было километров пятнадцать – пять пригородным поездом, а остальной путь можно было проехать на трамвае.
Доехали мы благополучно. Дима нас встретил на трамвайной остановке, как мы договорились заранее. Сам посёлок состоял из двухэтажных деревянных домов, отштукатуренных снаружи и внутри. Эти дома, кстати, строили пленные немцы. Здесь ещё не так давно была их зона, огороженная колючей проволокой. Когда немцев отправили восвояси, в Германию, в этих домах сделали ремонт и заселили туда семьи свердловских рабочих. Квартиры в домах были двухкомнатными. Из удобств была только холодная вода, а отопление было печное.
Дима поставил на стол бутылку водки, принёс закуску. К нам подсел Тимофей – отец Димы, ветеран войны. Надо сказать, что в общежитии мы ещё ни разу за восемь месяцев не употребляли спиртного, и никто у нас не курил. Даже дни рождения и праздники отмечали на трезвую голову, пили чай с сахаром и лимонной кислотой.
Первую рюмку выпили за знакомство, вторую – за дружбу, а третьей поздравили ветерана с Великой Победой. После застолья пошли гулять. Дима захватил с собой фотоаппарат, и мы немного пофотографировались. У меня сохранился снимок, где Вася и Дима удерживают своими могучими плечами опору трамвайной электролинии. Выходит, что на кнопку аппарата нажимал я. Мы поблагодарили Диму за гостеприимство и вернулись в город.
* * *
В один из погожих летних дней, в воскресенье к нам снова пришли Вера с Олей. Мы их встретили с радостью, но сидеть в общежитии было скучно и нужно было придумать какое-то развлечение. Тут мне в голову пришла идея, и я обратился к Васе:
– А не съездить ли нам к Диме в посёлок?
– А что, давай поедем. Если девушки согласятся, конечно. Туда ведь долго добираться.
– Да мы с вами хоть куда согласны. Правда, Оля? – спросила Вера. Оля кивнула. Мы быстро собрались.
Доехав до поселка, мы на правах незваных гостей ворвались к Диме. Он оказался дома и был приятно удивлён нашей компании. Что ни говори, среди нас были две красивые девушки!
– Чем же мне вас угостить? – тихо спросил Дима, как будто ни к кому не обращаясь. Мы попросили его не беспокоиться и предложили погулять с нами, показать красивые места в районе его посёлка.
Дима взял фотоаппарат, и мы вышли на улицу. Он попросил нас немного подождать и с загадочным видом удалился. А через пару минут вернулся с двумя аппетитными «Эскимо» на палочке и угостил девушек. Мы неторопливо двинулись вперёд. Скоро он привёл нас в симпатичную посадку. Как раз в это время буйно цвела сирень, под сенью которой Дима нас запечатлел. Этот снимок у меня сохранился.
После фотографирования мы ещё немного погуляли и предложили Диме поехать с нами в город, но он отказался, сославшись на какие-то дела. Мы настаивать не стали. Поблагодарив его, поехали обратно. В городе у железнодорожного вокзала девушки сели в трамвай, мы с Васей помахали им ручкой, а сами пошли в общежитие. Зашли в столовую, но ловить мух в этот раз не стали.
Через недельку Оля уже одна появилась у нас в комнате в утренние часы и предложила мне поехать в один из Свердловских парков. В это воскресенье там было массовое гуляние. Я с радостью согласился. Меня удивило, что в этот раз она вела себя более раскованно, чем обычно, заговорила нормально, без смущения и, главное, подала интересную идею.
Я не знал, где находится этот парк, но Оля там уже бывала. Он располагался на огороженной территории в лесистой местности далеко от центра города. Я купил билеты, и мы вошли на территорию парка. Покатались на приглянувшихся нам аттракционах. Особенно понравилось колесо обозрения, откуда был виден почти весь город. В парке было несколько открытых сцен, на которых выступали профессиональные и самодеятельные артисты. На закуску побывали в комнате смеха с кривыми зеркалами, каждое из которых по-разному искажало наши фигуры. Мы видели себя то низенькими и пузатыми, то длинными и худыми, то горбатыми или с карикатурными лицами. Нам было весело, мы смеялись. Из парка вышли в хорошем настроении. Шли не под руку, а просто рядом.








