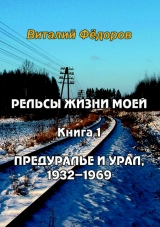
Текст книги "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969"
Автор книги: Виталий Федоров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 61 страниц)
Глава 9. ЛЮДА-МЕДИЧКА
В мае месяце 1942 года маме прислали помощницу, девушку 16-17 лет, которая училась или закончила медучилище. Звали её Людмила. Красивая русская девушка, брюнетка, но не «жгучая». Скромная, но не стеснительная. Поскольку она не была жительницей нашей деревни, то ей пришлось жить у нас.
Прошлым летом я всегда ночевал на втором этаже нашего амбара. В этом году, как стало тепло, я спал там же. Когда Люда спросила, где она будет спать, мама ответила:
– В амбаре. Там спит Виталий, будешь с ним.
Хотя в амбаре было два отдельных ложа, на которых могли поместиться не менее чем по паре человек, но они были деревянными, жёсткими, а постели-то другой не было. Людмила приехала к нам с маленьким чемоданчиком, в котором был медицинский халат да выходное платье. Нам волей-неволей пришлось ложиться спать в одну постель.
Перед сном Люда сказала, что её в нашу деревню направил Райздрав из Красногорского. Ей было сказано, что у нас эпидемия тифа и она обязана срочно прибыть на место, поскольку все медработники являлись военнообязанными. Пока она шла, очень устала. К тому же, когда ей объясняли, как к нам добраться, она не очень внимательно слушала (её напугало слово «эпидемия»), и даже блудила, так как нашу богом и людьми забытую деревню не везде знали. Но язык её всё-таки «довёл». В общем, ей было уже не важно, где спать и с кем. Лишь бы лечь. Она меня приобняла и тут же заснула, и я вслед за ней заснул тоже, поскольку за день набродился со своими «свинтусами».
Утром мама пришла меня будить на работу, а мы спим в объятиях друг друга: молодая дивчина и её девятилетний сынок. Мама ничего не высказала: ни одобрения, ни осуждения.
На другой день приехал врач и познакомился с новой сотрудницей. Незаметно, ненавязчиво «прощупал» её медицинские познания и навыки. Перераспределил обязанности между мамой и Людмилой (а мама ещё работала по совместительству колхозным пчеловодом). Этим вечером, как только стемнело, мы с Людой вместе пошли в постель в амбаре. Снова спали в объятиях друг друга, но всё-таки я в её объятиях больше. Какой приятный аромат от неё исходил! Но это был не аромат парфюмерии, а аромат молодого женского тела.
Она жила у нас как член семьи. Питались вместе. Раз в неделю она ходила в Красногорское, отоваривала свои и наши хлебные карточки, заходила по работе в Райздрав. По вечерам мы с Людой стали ходить в клуб и в другие места, где молодёжь водила хороводы, танцевала и развлекалась, как могла. Мы с ней тоже участвовали. Дни мы проводили каждый на своей работе, а вечер и ночь – вместе. Так продолжалось месяца два, пока в клубе не появился наш дальний родственник – Степан Фёдоров, который где-то вдали от дома учился или работал. Родители его жили в Кваке. Было ему лет 16-17 – предпризывной возраст. Выглядел он старше своих лет, блондин, довольно крупный малый. Одевался, по сравнению с другими парнями, как «денди лондонский». Как только он увидел «мою красавицу», сразу был очарован! И «с ним была плутовка такова»…
В тот вечер пришлось мне идти домой и ложиться спать одному. А когда она пришла уже под утро, то была холодная, и запах от неё шёл какой-то незнакомый и не очень приятный.
Примерно через неделю Степан уехал. Вскоре его взяли в армию и я больше его не видел, хотя в их доме бывал несколько раз. Дом этот был большим, во дворе – много добротных построек. Стоял он на краю переулка, рядом с главной дорогой. Семья их жила не бедно.
Вскоре закончилась и командировка Людмилы. Она уехала, «победив тиф». Эпидемия отступила. Мама осталась на прежней должности. В нашей семье тифом никто не заболел, возможно, потому что мы ежедневно принимали спиртовой настой осиновой коры, по чайной ложке три раза в день, а также хину – медицинский препарат, который применялся при лечении тифа.
Глава 10. ОТЕЦ
После того, как отца призвали, мы от него получили лишь два письма. Одно с месячных военных учебных курсов, второе – по дороге на фронт. И после этого почти девять месяцев не было никаких известий. И вдруг примерно в августе 1942 года получили от него письмо из госпиталя. Он ранен и находится на лечении. Мы были так рады, что он жив!
А месяца через два я увидел сон: нахожусь на гумне, а там гуляет стая гусей. Гусак-вожак кидается на меня, хочет меня ущипнуть. У меня в руках оказалась палка, которой я его ударил по шее. Голова отлетела, а из шеи полилась кровь. По соннику ОБС («одна баба сказала») увидеть во сне кровь – ко встрече с близким родственником. Так и случилось. Через несколько дней отец появился дома. О, радости было!

И ничего, что ходил он на костылях. Народу собралось – полный дом, все хотели услышать про войну. Почти у каждого кто-то из близких находился на фронте. Отец рассказывал, как они с боями отступали по Белоруссии, и немцы их взяли в окружение, из которого они несколько раз пытались вырваться, но безуспешно. Их армия оказалась зажатой в лесах Могилёвской области, фашисты пытались её уничтожить. Особенно досаждали бомбардировки с воздуха. Люди гибли от немецких бомб, снарядов и пуль, а также от голода и болезней. Питались в основном кониной – мясом погибших лошадей, иногда сырым и не всегда свежим. Костры разжигать запрещалось, так как немецкие самолёты-разведчики их засекали и направляли бомбардировщики.
Почти шесть месяцев их армия находилась в окружении. Немцы все основные силы направили на взятие Москвы, но потерпели на этом направлении сокрушительное поражение. А окружённая армия тем временем вела партизанскую войну. После поражения под Москвой немцы не смогли организовать полномасштабное наступление для полного уничтожения окружённой армии. Наши воспользовались тем, что фашисты начали подготовку к новому наступлению на Москву (1942 год), и окружённая армия тоже стала готовиться к прорыву из окружения. Одним из десятков тысяч её бойцов был наш отец.
На этот раз им всё же удалось вырваться из окружения. Помогли в этом и войска, находящиеся на линии фронта. Во время прорыва отец с другом бежали рядом, но тут близко взорвался снаряд, отца ранило и засыпало землёй. Одна рука оказалась свободной, он кое-как выбрался, и его подобрали санитары. А друга своего он так и не нашёл…
Ранения отца были такими: оторван безымянный палец, рана на бедре и основное ранение – раздроблена стопа. После двух, а то и более, месяцев лечения он был отпущен домой для выздоровления. Ходил он только на костылях. А через неделю отдыха был избран общим собранием председателем колхоза «1 Мая».
Конный двор был от нас через два дома. Дорога шла под уклон, поэтому отцу было легче дойти до конюшни. Там он вместе с конюхами разбирался с гужевым транспортом. Ему запрягали лошадь в телегу, и он ехал в правление колхоза, а через некоторое время – на объекты. Хозяйство было довольно большое: стадо коров, отара овец, свиньи. Молоко, мясо, шерсть, кожа – всё сдавалось государству за бесценок, не говоря уже о зерне. Приходилось отцу бывать на всех объектах, встречаться с людьми, особенно на полях, где много сотен гектаров земли необходимо было вспахать, посеять, убрать урожай и сдать зерно государству. Отец принял колхоз уже осенью, когда уборка была в основном закончена, а от него требовали госпоставки. В то время лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» был не пустыми словами. После начала войны трактора в колхозах появляться перестали, пахали на лошадях, сеяли и убирали вручную.
Когда созревал урожай, каждой семье надо было вручную сжать энное количество соток на поле вдали от дома. Кормящие матери обычно с собой брали своих чад. Моя мама брала Женьку и меня в придачу с серпом. А бригадир будил людей на жатву на рассвете (около пяти часов), они работали до 9–10 часов, и после завтрака каждый отправлялся на свою основную работу. Мама шла в медпункт или на пасеку, а я – пасти свиней. Так я ещё в 9 лет мало-мало освоил специальность жнеца.
Когда отец стал председателем, он сразу понял, что в колхозе не хватает лошадиных сил. Стал искать с помощью конюхов. Но кто же продаст хорошую рабочую лошадь? Еле-еле нашли в ближайших деревнях жеребца-переростка и полуторагодовалую кобылку вороной масти. Жеребец был не обучен, хотя ему уже было четыре года, а обычно обучают в три. Но нрав этого жеребца был настолько враждебен к человеку, что он не давал себя обуздать, отбивался копытами, кусался. Целый год его пытались приручить на прежнем месте, но не нашлось смельчака, который бы с ним справился – мужчины все были на фронте. И вот отец мой приобрёл этого «зверя» и решил его приручить и ездить на нём. Привели его в нашу деревню, привязанным к тяжёлой телеге, запряжённой мерином. Поселили его в стойло Рыжика – нашего родового коня, взятого на войну.
Судьба Рыжика оказалась трагична. Дядя Ефим написал письмо с учебного полигона, где они готовились воевать в кавалерийской части вместе с Рыжиком. После окончания подготовки их погрузили в воинский эшелон, коней отдельно от солдат, в разные вагоны грузового поезда. Им оставалось немного до линии фронта, когда на эшелон напали немецкие самолёты-штурмовики. Вначале они разбомбили железнодорожные пути, поезд остановился. И началось методичное уничтожение всего живого и неживого. Солдаты выскакивали из вагонов и рассыпались по полю, но их тут же «косили» из пулемётов. А кони погибли все. Вагоны были разбиты бомбами и горели. Чудом уцелели около десятка человек, в их числе и дядя Ефим. Они двинулись в сторону линии фронта навстречу нашим отступающим войскам – был сентябрь 1941 года. Их группу приняли в пехотную часть, и он тогда смог написать последнее письмо, где описал обстоятельства гибели Рыжика. А через две недели пришло печальное известие: «Фёдоров Ефим Климентьевич пропал без вести»…
Мой отец продолжал дело своих погибших братьев.
Продолжая тему укрощения буйного коня, расскажу, как отец решил сам обуздать это «дикое» животное. Взял в одну руку узду и на одном костыле вошёл в стойло, однако этот буян снова решил протестовать. Как только отец сделал несколько шагов, конь прижал его к стене с такой силой, что отец даже не мог вздохнуть. Конюхи сначала стояли и наблюдали, но когда появилась опасность для здоровья, а то и жизни председателя, один из них огрел кнутом по крупу коня-нахала, и тот круто развернулся посмотреть: «Кто это меня посмел побеспокоить?» Но в это время ему на шею накинули аркан и вывели из стойла. Один конец аркана привязали к столбу, а за другой держались вдвоём. Конь начал задыхаться, поскольку петля сдавила ему горло. Он уже не мог кидаться на людей и дал возможность отцу себя обуздать. Аркан-петлю с него сняли, он очухался и приободрился. На двух длинных поводках его погоняли по кругу и через полчаса он, взмыленный, был поставлен в стойло. Но узду с него не сняли, чтобы на другой день снова не пришлось его ловить. Тут же ему дали кличку «Буян».
На следующий день на Буяна надели хомут. Как только он не пытался от него избавиться! Становился на дыбы, опускал голову до земли, тряс головой и лягался задними ногами, но всё было тщетно. Его подвели к телеге и запрягли. Вначале он вёл себя в упряжке, словно пьяный мужик. Но ему пришлось забыть, что он кусачий – во рту у него были стальные удила. Вот так его и укротили, а ведь на прежнем месте он даже не подпускал никого в стойло. Там даже навоз не убирали и жил он почти на втором этаже, ему лишь совали корм и ведро воды. Мой отец же на нём стал ездить без проблем.
* * *
В сентябре мне исполнилось десять лет, и я пошёл учиться в третий класс.
Зима 1942–1943 гг. выдалась труднейшей не только для фронта, но и для тыла. Мы почти всё отдавали для нужд обороны. На трудодень выдавали мизерное количество зерна – граммов по 200–300. И его пытались распределить до следующего урожая. Питались в основном картошкой и другими овощами, выращенными в огороде. Хотя за огородными растениями было трудно ухаживать – для этого не было ни сил, ни времени; в колхозе работали с раннего утра до позднего вечера.
А нам иногда в зимнее время перепадало «мясное» – это коровье вымя, бычьи яйца, хвосты и изредка головы овец или коров. Остальное мясо всё шло на госпоставки. Однажды погибла молодая лошадь, и её тоже «съели». Отец принёс конины на пару супов. Помню крупные кости, которые мы варили в большом чугуне, а потом обгладывали. Жили почти в первобытных условиях. Не было спичек, огонь сохраняли в русской печи, которую топили ежедневно по утрам. Раскалённые угли сгребали кочергой в ближний угол печи, засыпали потухшими углями и золой. И таким образом часть раскалённых углей сохранялась почти сутки. Раздувая их собственными лёгкими, поджигали лучину или бумажку. Не хватало соли. Не было даже хозяйственного мыла. Вместо него кипятили в воде золу, при этом вода становилась «мягкой», будто мыльная. Эту воду процеживали, почти фильтровали, а очищенный раствор называли щёлоком, и им мылись в бане. Баня была еженедельно по субботам, независимо от погоды и времени года. Поскольку у нас своей бани не было, мы пользовались соседской – Ворончихиных. Одну субботу топили баню мы, а в другую они. Мужское население обоих домов ходило в баню вместе. Нас набиралось четыре человека: мы с отцом и Генка со своим дедушкой. В летнее время мы с Геной после парилки нагишом бежали на пруд купаться, а после купания – снова в баню. Пруд находился от бани метрах в ста.
В Ильин день – православный праздник – в бане должны париться не берёзовыми вениками, как обычно, а букетом полевых цветов. В этот раз Генкин дедушка в букеты с цветами, которыми мы с Геной должны были париться, ещё заранее вложил крапивы. Не зная подвоха, мы от души хлестали друг друга этими цветочными вениками. И только чуть позже почувствовали, как сильно стало гореть всё тело. Даже купание в пруду не помогло. А дедушка только хитро посмеивался над нами.
В зимнее время отец взялся нас с Геной закалять. Жар в бане поднимали, поливая горячей водой раскалённые камни печи. Отец топил её так, что нам становилось тяжело дышать, и мы выскакивали в предбанник. Но этого было мало. Он выходил во двор и обтирался снегом, а нас «просил» поваляться в сугробах вне зависимости от температуры на улице. Вначале было страшновато, но со временем мы привыкли, и нас с Генкой уже не нужно было просить – как становилось очень жарко, мы сами выскакивали и катались на снегу. К слову сказать, мы никогда не болели простудными заболеваниями.
Женская половина наших семейств мылась в бане после мужчин. Отец пообещал, что летом построит свою баню. Обещание сдержал. Баня получилась хорошая, просторная, но для нагрева требовала большого количества дров.
* * *
К нам иногда приезжал председатель Архангельского сельсовета Вершинин, крупный мужчина с покалеченной на войне рукой. Он являлся непосредственным начальником моего отца. Бывало, они за столом беседовали на разные темы. На столе стояла бутылочка, которая помогала поддерживать беседу, особенно о войне. Отец показал гостю своего младшего сына – Женьку. Тому было около года. Усадил его на стол. Он был беленький, «пушистый», ухитрялся передвигаться, прыгая на попе. И вот эти два мужика надумали игру с ребёнком. Они оба курили и сидели на разных краях стола. Один из них дул на Женьку табачным дымом, а тот, хохоча, разворачивался и «скакал» на другой конец стола, где получал новую порцию «аромата». И эта игра длилась довольно долго, пока мама не увидела и не забрала сыночка.
В другой раз приезд Вершинина мог повлиять даже на мою судьбу. Не знаю, с кем он приехал, но к вечеру ему нужно было вернуться в Архангельское. Отец решил, что его отвезу я. Послал меня на конный двор. Там я сказал, что мне нужна лошадь, запряжённая в кошеву, чтобы отвезти председателя сельсовета в Архангельское. Конюхи мне запрягли довольно шустрого молодого мерина. «Ну, прокачусь!» – подумал я. Хотя, надо признать, тогда имел довольно малый опыт управления лошадьми. Подъехал к дому, привязал к забору лошадь и скорее домой с докладом:
– Подвода подана!
На мой рапорт собеседники особого внимания не обратили. Отец просил выделить колхозу бочку керосина из сельпо для колхоза и колхозников. Вершинин вначале не соглашался, но позже всё-таки пообещал посодействовать. Начало темнеть и меня снова отослали на конный двор, отвести лошадь. Я был сильно огорчён, что поездка не удалась. А так хотелось совершить «подвиг», промчаться одному по тёмному лесу ночью! Хотя в этом, конечно, был большой риск. В то время в лесах было много волков. Охотники-то все на войне, волков никто не отстреливал. А из брянских и белорусских хищники ушли от войны в более спокойные места. Доходило до того, что волки ночами бродили по деревне около хлевов. Утром обнаруживали их следы. Когда мы ходили в школу, то видели следы целой волчьей стаи, пересекавшие нашу дорогу. Зимой волки чаще ходят друг за другом «след в след», но когда они вынуждены пробираться по глубокому снегу, то получается целая тропа. В деревне у нас была одна собака, у Викентия, и ту волки задрали.
Вероятно, что-то подобное промелькнуло в мыслях у собеседников, и они решили отложить поездку до утра. Вершинин переночевал у нас. А поутру я отправился пешком в школу.
Кстати, Вершинин своё обещание выполнил. Нашему колхозу выделили двухсотлитровую бочку керосина. Как уж его делили, я не знаю. Но целый год керосиновые лампы по вечерам горели у всех. Лучину временно забыли.
Глава 11. КАНИКУЛЫ
После окончания третьего класса начались летние каникулы. Погулять, поиграть не довелось, как и прошлым летом. В то трудное время каждый должен был приносить посильную пользу государству. Мне отец сказал:
– Будешь в это лето работать в поле на лошади.
– А на какой?
– Выбирай сам из двухлеток.
– Хорошо.
Двухлеток у нас было три: Шутка, Зайчик и Звезда. Я обрадовался, что мне дали возможность выбирать, но волновался, поскольку предстояло самому научиться верховой езде и обучить не бывавшую в упряжке лошадку.
Правда, у меня был, ещё годом ранее, опыт верховой езды, но успешным назвать его было трудно. А дело было так. У нас в хозяйстве был маленький бычок. И я надумал на нём прокатиться верхом. Сделал самодельную уздечку из лыка, которую надел ему на голову – он спокойно мне это позволил. Я его гладил, почёсывал и вдруг оседлал, запрыгнув ему на спину. Происходило это во дворе нашего дома. Бычок ка-а-ак рванёт с места! Понёсся прямиком в хлев, дверь которого была открыта. Я ударился о дверной косяк, сорвался и шмякнулся прямиком в навоз. Я-то по молодости лет думал, что бычка придётся подгонять, чтобы он сдвинулся с места, и никак не мог ожидать от него такой прыти. Но получилось интересно, до сих пор кажется смешно! А тогда, конечно, было не до смеха.
Из трёх лошадок я выбрал Зайчика. Это была купленная отцом ещё прошлой осенью полуторагодовалая кобылка вороной масти, которая весной вдруг полиняла и стала серой. И поэтому ей дали кличку Зайчик. Она мне понравилась своим спокойным нравом и небольшим ростом.
Обычно работе «под седоком» и в упряжке обучают молодых лошадок с трёх лет. Но в годы войны все делали взрослую работу: как мальчики с десяти лет, так и лошади с двух. Из конного двора я привёл Зайчика на поводке, обузданным, к своему дому. Решил научиться ездить верхом. Подвёл коня к ограде нашего огорода, встал на верхнюю жердь, чтобы его «оседлать», то есть сесть на него верхом. Но во время моего прыжка Зайчик сделал шаг в сторону, и я свалился мимо него на землю, но поводка не отпустил. Вторая попытка тоже оказалась неудачной. К третьему разу я подготовился более основательно, подвёл лошадку к самой ограде, решил сделать прыжок дальше и попытка удалась. Хорошо, что не было ни свидетелей, ни помощников – некому посмеяться или посочувствовать.
Зайчик впервые ощутил на себе седока и тут же решил от него избавиться. Начал метаться в разные стороны, брыкаться, становиться на дыбы. Но я вцепился в него мёртвой хваткой: босыми ногами в бока, одной рукой за повод, другой за гриву. Удержался! Зайчик рванул галопом, я его направил по крутому подъёму деревенской дороги, и минут через пять скачки он уже перешёл на рысцу, а потом и на шаг. Проехав деревню от начала до конца, я для тренировки направил коня по полю и приехал на конный двор верхом. Лихо спрыгнув, передал Зайчика конюхам. Теперь я знал, что укротил коня, и он будет мне послушен во всём. Разумеется, лишне говорить, что я был собой доволен.
Лошадей колхозу больше приобрести не удалось. Стали обучать быков. Были в колхозе два молодых взрослых быка. У одного была кличка Партизан, а у другого – Добрый. Они довольно быстро привыкли к упряжке, и возили летом грузы на телегах, а зимой на санях. Быков, как и лошадей, эксплуатировали нещадно и беспощадно. На Партизане стал работать Викентий – мой одноклассник (я о нём рассказывал раньше). К Партизану он был именно беспощаден, пользовался не только кнутом, но и другими способами. Если от усталости бык останавливался, то Витя ему крутил хвост так, что мог и сломать. Конечно, бык от боли пускался даже бежать. А когда, выбившись из сил, бык прямо в упряжке ложился на дорогу «передохнуть», у Вити находился ещё один способ заставить его встать и тащить повозку – это разбойничий свист прямо в ухо лежачему быку.
Ещё купили крупного быка. В ноздрях у него было пропущено стальное кольцо, и к нему привязан поводок, за который его водили. Думали, такой бычина будет таскать по тонне груза. Изобрели для него хомут, запрягали в «круг» вращать молотилку. В привод молотилки были вделаны два прочных деревянных бруса, а впереди – по две тонкие жердочки, за которые подвязывали поводки лошадей. Они шли по определённому кругу и тянули постромками брусья. Лошадей было две по разные стороны, погоняли их мальчишки 10–12 лет. При необходимости останавливали. Мне тоже иногда приходилось ходить по кругу. И вот решили вместо двух лошадей и погонщиков использовать одного быка и погонщика постарше. Бык походил по кругу, повращал молотилку около получаса и вдруг взбесился. Начал прыгать, метаться в разные стороны. При этом обломал брус, разорвал на две части хомут, сломал жердочку, к которой был привязан поводком, и умчался в неизвестном направлении. Нашли его только на следующий день. Не стали больше пытаться его запрягать, а от греха подальше сдали на мясозаготовки.
В мае 1943 года создали мини-бригаду из четырёх человек – дед Осип и мы, трое мальчишек. Старшим из ребят был Сашка Ворончихин – на два года старше нас со Степаном Фёдоровым. Дед Осип привозил на телеге зерно и наш инвентарь, в который входили деревянные бороны с металлическими зубьями – хомуты и вожжи. Утром на выгоне мы вылавливали своих лошадок и верхом направлялись в поле. Сашка на Шутке, я на Зайчике, Степан на Звезде. Шутка была высокая, упитанная и быстрая, Зайчик – вынослив, но с придурью (о которой я узнал гораздо позже), Звезда была потощее и послабее.
Дед Осип работал севачем (то есть сеятелем). Он разбрасывал посевное зерно вручную во вспаханную землю. Сеялок тогда не было. Около двадцати килограммов зерна он насыпал в лукошко, изготовленное из бересты. Весной это была пшеница, ячмень или овёс. Перекидывал ремень лукошка через плечо, становился на край вспаханного поля и, перекрестившись, начинал своё действо. Отходил на три шага от бровки поля и захватывал метров шесть за один проход. Брал горсть зерна, рассыпал одним махом, делал шаг вперёд и другой рукой рассыпал зерно в другую сторону. Работая обеими руками, он шёл без остановки, пока не заканчивалось зерно в лукошке. Снова его наполнив, он продолжал работать, как хорошо отлаженный механизм. Так целый день, год, а возможно, и много лет. Поля были большими, на сотни метров в длину и ширину. Некоторые из них находились от деревни в нескольких километрах.
На засеянную дедом Осипом часть поля мы выезжали на своих «рысаках», запряжённых в бороны. Становились в сдвинутую вправо или влево колонну. Первым Сашка, я вторым, Стёпа третьим. Так мы, трое мальчишек (из которых только Сашка имел опыт работы в поле в прошлом году) ходили почти целыми днями босиком рядом с лошадьми и в дождь, и в зной. Особенно трудно было ходить по давненько вспаханной земле, где комки успели превратиться почти в камни. На обед приезжали домой перекусить, покормить и напоить лошадей. А потом до позднего вечера трудились. Часов ни у кого не было. Время в солнечную погоду определяли по солнцу: как тень от собственной фигуры становилась длиною в шаг – пора на обед. Время захода солнца – можно отправляться домой на ночлег. Спал летом я всегда в амбаре. Ночи короткие, не успеваешь выспаться, уже мать будит:
– Вставай, сынок, пора на работу!
И когда, проснувшись, я начинаю потягиваться, она меня нежно поглаживает.
Хочу ещё рассказать о Сашке, как он «старшинствовал» в нашем маленьком коллективе. Он уже курил, но ему одному это, видимо, было скучновато. Сашка стал и нам со Стёпкой давать попробовать. Курил он табак-самосад. Мы не отказывались – было же любопытно. Потом Сашка поставил условие: каждый должен вносить свой вклад в курево. Жили мы тогда бедно, не было даже спичек и бумаги. В перерыве работы состоялось «общее собрание», которое решило: я поставляю бумагу, Стёпа – табак, а Сашка добывает огонь. Делал он это мастерски. Из крупной гальки, разбитой на части, высекал обломком напильника много искр, которые летели в зажатую между пальцев вату. Вата начинала дымиться, её раздували и она загоралась. Стёпа табак брал из дому, они в огороде выращивали и продавали рубленый самосад. А у меня была книга, подаренная дядей Ваней, которая была толстая и без картинок, но на лощёной – хрустящей – бумаге. Я эту книгу никогда не читал и не знал, о чём там было написано. А вот Алёша Пешков (он же Максим Горький), наверное, прочитал бы, так как он читал всё, что попадалось в его руки. А я из этой книги брал с собой на работу пару вырванных листочков. Если бы я тогда сохранил в целости, какой замечательный подарок остался бы от дяди Вани! Кстати, говорили, что я на него похож…
Моим «коллегам» уж очень нравилась эта хрустящая бумага. Рабочий день теперь у нас начинался так. Мы запрягали лошадей, садились на одну из борон, закуривали. Покурив, начинали работу. А однажды, после обеда, приехав в поле, запрягли коней и как обычно присели покурить и вдруг увидели, что к нам идёт председатель (к этому времени он уже ходил без костылей с одной палочкой). Мы быстро самокрутки воткнули в землю под борону, взялись за вожжи и пошли боронить. Но у меня вышла накладочка. Мой Зайчик на повороте заступил постромку, она попала между задних ног. Видимо, от волнения не совсем правильно управлял, ведь шёл ко мне не только председатель, но и мой строгий отец. И вместо того, чтобы отцепить постромку от бороны, вытянуть её из-под лошади и зацепить на место, я схватил за ногу лошадь и скомандовал: «Ногу!» – чтобы она её приподняла. Что ж, она её таки приподняла и врезала мне копытом прямо в лоб. Я упал назад. Удар был не сильный, да и копыто у молодых лошадок не подкованное. Я встал на ноги. Отец тем временем подошёл ко мне, поправил сбрую лошади и спросил:
– Не очень больно, работать можешь?
– Нет, не больно. И работать могу.
Отец ушёл, не сказав больше ни слова.
Ещё был случай раньше, который тоже мог для меня окончиться печально. Сашка, зная о том, что мы начинающие наездники, а лошадки у нас молоды и пугливы, частенько устраивал нам подлянки. Его лошадка – Шутка – была выше ростом и крупнее наших со Степаном Звезды и Зайчика. Он ездил сзади нас (кроме случаев, когда мы устраивали состязания) и специально наезжал своей лошадкой на наших. Они брыкались и запросто могли при этом сбросить седоков. Ещё он любил подъехать ближе и ногой или палкой пощекотать в паху у лошади, где находится самое чувствительное место. Лошадь прижимала уши и начинала лягаться. Такое случалось не каждый день, но и не редко. А тут Сашка перешёл всякие границы. После обеда из дома взял кнут, спрятал его, а когда мы подъезжали рысцой по полю к нашему инвентарю, неожиданно кнутом огрел Зайчика. Мой конь подпрыгнул, шарахнулся в сторону. От неожиданности я слетел с него. Перепрыгивая меня, он задел копытом висок. Мне было больно, висок припух. Мы сели на бороны. Я заметил, что Сашка был напуган содеянным. Ребята закурили, я молчал. А потом Сашка поднялся, подошёл ко мне и предложил свою самокрутку:
– На, покури, полегчает.
– Ну и гад же ты, Сашка!
Он ничего в ответ не придумал, как предложить:
– Давай поборемся.
– Сегодня нет, – отрезал я. – В другой раз.
Через несколько дней мы на зелёном борцовском ковре (траве) сошлись в поединке. У нас не принят был мордобой, все подобные конфликты решали борьбой. Боролись босиком. Степан был судьёй, точнее, свидетелем – он ни во что не вмешивался. Побеждённым считался тот, кто окажется на земле на спине. Других особых правил не было. Сашка был старше и сильнее, поэтому я избрал защитную тактику. Он меня никак не мог свалить с ног, они у меня были хорошо развиты – много бегал. Сашка применял подножки, подсечки, но ничего не помогало, я твёрдо стоял на ногах. Тогда он начал применять болевые приёмы. Особенно больно было, когда он нажал пальцем под ухом ниже мочки, но и это приём ему тоже не помог. Он попытался схватить меня за горло, но я со всей силы отрывал его руки от себя. Так, ничего не добившись, Сашка от меня отстал. Ничья.
Дома я никому не говорил о непростых наших отношениях на работе. К тому же Сашка перестал «гадить» после последних конфликтов. Друзьями мы не стали, но и врагами тоже не были.
Приближался конец весенне-полевых работ. Ехал я верхом на Зайчике на выпас за рекой, а на пути оказалась большая яма, внутри которой горел огромный костёр. А вокруг навалено много берёзовых поленьев, брёвен, чурок. И вдруг мой Зайчик чего-то испугался, возможно, огня в чёрной яме, да и под ногами чурки мешали, рванул так, что я с него слетел. И тут вдруг появляется отец, прямо как чёртик из табакерки (извини, папа, за сравнение). Мне было стыдно, что я второй раз подряд так нелепо перед ним позорюсь. Он подвёл ко мне лошадку, посадил, и я поехал дальше. А отец, наверное, подумал: «Какой непутёвый у меня сын!»
Зайчик оказался молодцом – хоть и испугался, но не убежал, а ждал меня. Дорога шла по плотине около мельницы, а я поехал по пешеходной тропе, и про эту дегтярню я даже не знал. Позже мне рассказали, что в этой яме изготовляли дёготь для смазки осей, втулок колёс и других вращающихся частей механизмов: молотилок, веялок и т.д. Большой костёр выгорал и оставлял большую, пышущую жаром кучу угля. На угли укладывались берёзовые поленья и засыпались землёй. Несколько дней они там тлели, превращаясь в дёготь. Он похож на расплавленный гудрон, но не твердеет после остывания. За точность описания процесса я не ручаюсь, это всего лишь детское восприятие.








