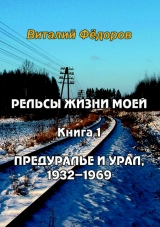
Текст книги "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969"
Автор книги: Виталий Федоров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 61 страниц)
После погрузки рудой мы поехали на фабрику. На подъёме нас остановили перед красным светофором. Когда загорелся зелёный, я начал трогаться с места и за недостаточностью опыта управления этим электровозом перестарался – резко набрал позиции. Сработала защита от перегрузки. К такому повороту событий я оказался не готов, и как восстановить защиту не знал. Стал рассматривать часть пульта, где находились сигнальные лампы. Одна из них горела красным огоньком, словно поддразнивая меня. Недалеко от неё я увидел кнопку, назначение которой было мне неизвестно. Повинуясь интуиции, я её нажал. Красная лампа погасла, защита была восстановлена. Я поехал осторожнее, чем в первый раз. И всё прошло нормально.
Ещё один нюанс поначалу меня немного раздражал. Я говорил, что на «Шкоде» рычажок звукового сигнала находится почти над головой, как у паровозов. А у ЕЛ1 для этого была пружинная кнопка, находящаяся на пульте управления прямо перед машинистом. Когда нужно было подать звуковой сигнал, я по привычке искал вверху несуществующий рычажок, и лишь потом рука опускалась на кнопку.
Тяговые двигатели «Шкоды» были мощностью 250 кВт, а у «немца» – 350 кВт. Но имея довольно большую разницу в мощности, они у нас возили одинаковое количество вагонов. Впрочем, разница ощущалась лишь на крутых подъёмах, которые ЕЛ1 преодолевал быстрее.
Одновременно с переходом на широкую колею и новые локомотивы на главных путях стали внедрять автоблокировку[42]42
Автоблокировка – система автоматического регулирования интервалов между железнодорожными поездами, попутно следующими по железнодорожному перегону. (Прим. ред.)
[Закрыть]. Служба сигнализации стала называться СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка). Для этой работы пригласили специалиста из Свердловска. Звали его Николай Николаевич. До моей женитьбы около месяца мы с ним жили в одной комнате. Он любил крепкие напитки, и часто приносил с работы спирт, который им выдавали для чистки аппаратуры. Пил он спирт, не разбавляя, запивал минералкой. Как-то раз угостил и меня.
Глава 125. КРЫША НАД ГОЛОВОЙ
После того, как мы официально оформили брак, я пошёл на приём к начальнику цеха Толченову.
– Борис Григорьевич, я женился на работнице нашего цеха.
– Поздравляю от всей души, – он пожал мне руку.
– Спасибо. Но нам необходимо жильё, которое вы обещали ещё в Свердловске, приглашая нас на работу.
Его ответ меня не обрадовал:
– Всех приехавших сюда семейных мы в первый же год обеспечили квартирами. Тем, кто женился в течение первого года, продолжаем предоставлять жильё. Но остальные, в том числе и вы, будут получать квартиры в порядке общей очереди.
– Вот, значит, как… Вы решили отказывать всем, начиная с меня, несмотря на то, что мы тоже приехали по вашему приглашению и направлению из учебного заведения?
– Выходит, так, – Толченов не стал вдаваться в подробности. Я вышел, громко хлопнув дверью.
Теперь предстояло задуматься о том, как жить дальше. Подавать в суд или обращаться к адвокату по подобным вопросам тогда не было принято. Поэтому решил разобраться в ситуации сам. Для начала успокоился – в конце концов, это ведь не конец света. На съёмной квартире нас не притесняли, и я решил, что «с милой рай и в шалаше». Тем более с Раей.
Как-то ко мне обратился машинист электровоза Василий Демидов. Видимо, он знал, что я человек семейный, но бездомный.
– Фёдоров, не хочешь поселиться в комнату двадцати двух квадратных метров с печным отоплением по Милицейской улице?
– Конечно, хочу. Мне бы на первое время хоть какую-нибудь крышу над головой.
– Договорились. Комнату никому больше предлагать не буду. Я построил дом и на этой неделе переезжаю. Завтра пойдём с тобой оформлять ордер.
Мы с Василием пришли в администрацию, объяснили причину нашего появления. Там даже не спросили о жильцах другой комнаты квартиры номер пять, а сразу переписали ордер на моё имя и вручили мне. Таким образом я обзавёлся «крышей над головой», правда, пока лишь на бумаге.
– Спасибо, Василий.
– Рано ещё благодарить, сначала заселиться надо, – перебил он меня.
– А что, проблемы могу быть, даже при наличии ордера? – удивился я. Василий промолчал – сам не знал, как обернётся дело.
В день, когда Василий переезжал в свой новый дом, он мне сказал:
– Я на грузовой машине подъеду к вам, возьмём несколько ваших вещей и там их оставим, чтобы было понятно, что комната занята.
Мы погрузили вещи Василия на машину, а наши два стула и подставку под цветы оставили в комнате. Но дверь почему-то оставили незапертой. Я сел в кабину к водителю и стал ждать Василия, который задержался с выходом. Тут до меня донёсся шум и ругань. Я пошёл посмотреть, что там происходит, а водитель остался в кабине. В довольно узком коридоре Василий отбивался от двоих наседавших на него мужчин, судя по всему – отца и сына. Я как мог громче произнёс:
– Что тут происходит?!
На мгновение все замерли, а Василий, подойдя ко мне, сказал:
– Ты не вмешивайся, у нас тут свои счёты.
Он, конечно, получил несколько тумаков (это было видно по его лицу), но держался как победитель. Мы сели в машину и поехали к Василию выгружать его скарб. Когда кузов грузовика освободили, поехали к нам, чтобы загрузить нашими вещами и мебелью. Их у нас было немного. Самым тяжёлым был комод – нам пришлось вынуть из него ящики, чтобы максимально облегчить. Стол и кровать были вполне подъёмные. Я попросил Василия, чтобы на Милицейскую он больше не ездил.
– Разгрузиться нам помогут Раин брат и зять, – объяснил я.
Когда мы подъехали к дому, обнаружили, что наши стулья и подставка вынесены на улицу, а в дверях стоит ветеран войны: на груди орден, на лице царапина и припухший глаз, в руках топор. На ногах он держался нетвёрдо, явно был нетрезв.
– Зарублю каждого, кто переступит порог! – проревел он, завидев меня.
Я не стал терять время на переговоры, а сразу пошёл за подмогой. Привёл свояка Николая Ситникова и шурина Ивана Морозова. Мы взяли стулья и подставку, понесли их перед собой, как щиты – на случай, если замахнётся топором. Порог мы благополучно перешагнули. Он посторонился, а потом и вовсе ушёл, видя, что его угрозы не подействовали.
Мы выгрузили и расставили по предполагаемым местам мебель. Мужчин поблагодарили и отпустили не солоно хлебавши – угостить нам их фактически было нечем.
Вскоре мы узнали, что семьи Василия и ветерана давно враждовали между собой. Причину я не знал и знать не хотел. Но вышло так, что Василий «на прощание» решил их наказать – не передавать им освободившуюся комнату, по закону положенную семье участника войны. Эта семья на двенадцати квадратных метрах жила впятером: ветеран с женой, их сын с женой и дочкой. Это, конечно, ужасная теснота. Но я-то ничего этого раньше не знал, а имея на руках ордер, тоже имел законное право на эту комнату, чем и воспользовался.
Вечером мы с Раей остались одни в отвоёванной комнате. Вдруг дверь без стука отворилась, и к нам зашёл ветеран. Он обратился ко мне:
– Ну, сусид, как будем жить вместе?
– Я думаю, нормально. Моя жена тоже так думает, – ответил я.
Наш сосед помолчал и ушёл.
За суетой и нервотрёпкой мы совсем забыли, что сегодня, 16 октября был день рождения (даже юбилей – двадцатилетие) моей любимой Раи. Решили, что отмечать в этот день уже смысла нет, и договорились, что соберёмся в какой-нибудь более подходящий день у нас со всеми родственниками, а заодно отметим и новоселье.
На следующий день меня вызвали в рудоуправление к заместителю директора по общим вопросам. Он попросил меня:
– Вы уж уступи́те комнату ветерану войны, а мы вам дадим благоустроенную квартиру. А то вы там покалечите друг друга.
Из этой просьбы я заключил, что накануне сосед побывал в этом кабинете и грозился мне расправой. В общем, я мог его понять, всё-таки администрация была виновата в том, что свела двух конкурентов с равными правами на одну и ту же жилплощадь. Если бы случилось что-то серьёзное, то и их могли привлечь к ответственности. Потому мне и обещали квартиру – лишь бы замять инцидент. Я ответил:
– Вы мне дайте квартиру, и я с удовольствием уступлю ему комнату. А пока мне надо где-то жить.
– Ну смотрите, чтобы без скандала.
После этих слов я понял, что никакую квартиру мне давать и не собирались. Так оно и случилось. Ни нам, ни нашему соседу жилья не предоставили, так что пришлось нам жить в одной квартире с общим коридором и кухней (которой никто не пользовался). Жили мы не сказать, что дружно, но ничуть друг другу не мешали.
Дом, в который мы заселились, был двухэтажным. В двух подъездах размещалось всего восемь квартир. Он был построен ещё в тридцатые годы для рабочих, которых выселили в конце 1942 года. Тогда на улице Милицейской расположилась одна из закрытых зон для военнопленных, считавшаяся самой крупной в городе. В конце улицы находился деревообрабатывающий цех, где немцы и румыны (а позже и военнопленные других национальностей) изготавливали мебель и другие изделия из дерева[43]43
Именно в этом цехе уже потом, в мирное время работал Николай Ситников, сделавший нам с Раей стол, о котором я уже говорил, тумбочку под телевизор и некоторую другую мебель. (Прим. авт.)
[Закрыть]. В те годы в нашем доме и ближайших домах жила охрана, в других домах поблизости – старшие офицеры вермахта, пленённые Советской армией. Лагерь был огорожен трёхметровым забором с колючей проволокой, а по сторонам и углам находились наблюдательные вышки.
Столярный цех с забором и вышками сохранился до конца пятидесятых годов, хотя сама зона, в 1949 году сменившая статус и ставшая «лагерем осужденных военных преступников», просуществовала в Асбесте до 1956 года. Пленные работали с первого дня появления в лагерях. Кто на лесозаготовках, кто в карьере, кто на стройках. На работу их водили строем под конвоем с собаками. Но после окончания войны некоторые были расконвоированы и свободно ходили по городу.
Во дворе дома Морозовых в сарае летом жили несколько пленных, которые работали на строительстве дворца культуры. Рая рассказала мне, как один из пленных подарил ей куклу, которую сам вырезал из дерева. Ей тогда было около шести лет. Поговаривали, что кормили пленных едва ли не лучше, чем питалось в то время местное население (мы в то время натурально голодали) – только хлеба им давали по 500 граммов, да ещё других продуктов, включая мясо и сахар. А за работу даже платили деньги, 300–750 рублей в месяц, плюс иногда премии, что соответствовало уровню зарплат наших граждан. Впрочем, смертность среди пленных всё равно была очень высокой.
Через год после окончания войны начали освобождать первых пленных, массовой же репатриация стала в 1949 году. К концу этого года остались лишь те, кто был привлечён к уголовной ответственности за военные преступления или кто был осуждён за преступления, совершённые уже в плену. Всего на территории Асбеста и ближайших окрестностей побывало более десяти тысяч военнопленных, последние из которых были репатриированы в 1956 году[44]44
Некоторые сведения почерпнуты из книги А. Л. Копырина «Асбест. Куделька. Копи» и доклада Ю. М. Сухарева «Военнопленные Второй мировой войны в Рефтинском крае» на девятой Уральской родоведческой научно-практической конференции (Прим. ред.)
[Закрыть].
Помню, когда я приехал в Свердловск на вступительные экзамены в школу машинистов, я видел их, прогуливавшихся по привокзальной площади. Одеты и обуты они были в нечто среднее между военной и гражданской формой. Наверное, такая одежда полагалась всем бывшим европейским военнопленным. Одежда была чистой, выглядела опрятной и новой.
* * *
Ну а теперь о том, что же всё-таки мы приобрели. Наша комната была на первом этаже, окно находилось в двух метрах над землёй. Комната была почти квадратная, четыре с половиной на пять метров. У одной стены находилась кирпичная отштукатуренная печка высотою до самого потолка. В печке имелась ниша, в которой была установлена плита с конфорками. На плите можно было готовить, подогревать обеды или греть воду.
Кое-где на стенах обвалилась штукатурка. Мы самостоятельно произвели небольшой ремонт. У печки почти вывалилась чугунная дверка с рамкой. Тут мы пригласили печника. Он осмотрел фронт работ и спросил:
– Нет ли у вас мастерка? – Мы оба даже не знали, что это такое. Печник был очень удивлён и пробурчал: – Надо же, не знают, что такое мастерок! Вы что, с Луны свалились?
– Нет, мы с Марса, – нашёлся я.
– Так на Марсе тоже нет мастерков? – не унимался он.
– К сожалению, нет.
– Ладно, сделаю руками, без инструментов, – вздохнул печник. А о том, что такое мастерок, он так и не рассказал. Его ручная работа оказалась сделанной на совесть, во всяком случае, пока мы там жили, дверца держалась надёжно.
На дверь мы поставили новый накладной замок. Первые дрова для печи я привёз из карьера. Это были шпалы, находившиеся раньше под рельсами узкоколейки. Они были короткими и под обычную колею не годились, поэтому их просто сваливали в кучи. Я приметил это и договорился с водителем небольшого грузовичка помочь мне доставить эти шпалы. Он мне даже грузить помогал, правда, обошлась мне его помощь в три рубля – за бутылочку. Дрова были сухими, горели хорошо, но пилить их было трудно, пила «страдала», так как щебень и мелкая галька частенько попадали под зубья.
Первой нашей общесемейной покупкой стал шифоньер. Он был полностью изготовлен из дерева, разборный. На вид громоздкий, но зато вместительный и удобный. Раино приданое вместилось на полочки шифоньера, и комод мы вернули Анне Николаевне.
Печь мы топили раз в сутки, тепла нам хватало. Пищу готовили или подогревали обычно на электроплите. Воду брали из колонки недалеко от нашего дома, а мыться ходили в общественную баню. Туалет располагался на улице за соседним домом. Во всяком случае, такая жизнь нас на первое время устраивала.
Глава 126. СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Осенью 1958 года (в первый год моего проживания в Асбесте) я встретил молодую женщину – Юлию, подругу Бориса Черепанова[45]45
О нём я рассказывал в главах 28, 31, 33, 36. (Прим. авт.)
[Закрыть], которая вместе с Борей провожала меня в 1951 году в Советскую армию. Мы были рады увидеть друг друга, но я заметил в её глазах печаль и грусть. Я понял, что в её жизни случилось какое-то несчастье.
– Если можешь, расскажи немного о себе, – попросил я.
– Да нет никакого секрета, могу рассказать, – вздохнув, ответила она, и начала свою историю: – После того, как мы тебя проводили, Борю тоже вскоре взяли в армию. Я пообещала ждать его. Все три года мы переписывались, и когда он отслужил и демобилизовался, мы с ним сразу и поженились. Решили уехать из деревни в город. Выбрали Асбест, потому что тут жили наши знакомые. Боря в армии служил в автороте, был водителем, ну и на гражданке устроился шофёром. Ему дали старую грузовую машину, она часто ломалась. Он ремонтировал её самостоятельно – где произойдёт поломка, там останавливался и чинил. Иногда под машину залезал и лежал на земле, пока не отремонтирует. Не просил, чтобы ему кто-то помог, всё стремился сделать сам. Здоровьем его бог не обидел, он считал, что оберегаться от болезней – это не для него.
Осенью пятьдесят пятого он поехал утром в рейс. В дороге у машины буквально развалился кардан. Запчастей он возил с собой много и как обычно решил отремонтировать автомобиль сам. Ночью был заморозок, но с рассветом солнце пригрело, стало теплее. Боря взял инструмент, запчасти и как был – в рабочей спецовке – полез под машину. Земля ещё не отогрелась, он чувствовал спиной её холод, но продолжал работать. «Подумаешь, – решил он, – немного знобит спину, зимой иногда и холоднее бывает». От напряжённой работы он даже вспотел. Ремонт занял больше часа. Смену он доработал до конца, а домой пришёл сильно уставший, чего с ним раньше никогда не было. Утром у него поднялась высокая температура и ему стало трудно дышать. Его положили в больницу, где диагностировали двустороннее воспаление лёгких.
Болезнь вызвала осложнения. Через некоторое время он уже не мог встать. У него отнялась спина и ноги. До сих пор он может передвигаться только в инвалидной коляске, я его катаю в ней ежедневно. Местные врачи разводят руки и говорят, что не знают, как его вылечить.
Тут Юлия заплакала. Я попытался её успокоить, но она зарыдала ещё сильнее. Прохожие уже начали на нас коситься (разговор происходил на довольно многолюдной улице Уральской).
– Юля, ты больше ничего не рассказывай, а лишь скажи, где сейчас Боря, в какой больнице лежит, как с ним увидеться?
Она мне объяснила, и на этом я с ней простился – не стал больше бередить её рану.
После этой встречи я понял, что не зря супругов называют «своей половинкой». Если муж и жена любят друг друга, то они превращаются в одно целое из двух половинок. Ведь когда я попросил Юлю рассказать о себе, она рассказала о Борисе – своей половинке.
В один из выходных дней я пришёл в больницу к Борису. Меня пропустили без проволочек. Но ещё до встречи с ним я встретил одну свою знакомую – девушку, которая училась со мной в десятом классе вечерней школы. В больнице она работала медсестрой.
Боря самостоятельно ездил на коляске по палате и по коридору, где я его и встретил. Он увидел меня и узнал, хотя мы с ним не встречались семь лет. Мы пожали друг другу руки, и я осторожно полуобнял его за плечи. Он сидел в коляске худой, согбенный и выглядел много старше своих лет. Но разговаривал он довольно бодро. Мы с ним вспоминали время, когда совместно работали и ходили по вечеринкам. Вспомнили друга Тисо, я немного рассказал о своих встречах с ним. Между нашим разговором Боря умудрялся отпускать шуточки в адрес медсестёр, пусть немного вульгарно-иронические, но зато свидетельствовавшие о том, что его наблюдательность и чувство юмора никуда не делись.
Как мне было жалко Бориса – не передать словами. Жутко было видеть, что сделала болезнь с двадцатишестилетним парнем, красавцем, музыкантом, певцом, весельчаком. Но, получается, стране были нужнее рабочие руки, чем музыканты и певцы. Тем не менее я старался на этих мыслях не зацикливаться, ни о чём подобном, конечно, с Борей не говорил, и о болезни никаких вопросов не задавал. Когда прощался с ним, пообещал, что ещё как-нибудь зайду.
Уходя я спросил у медсестры:
– Он всегда такой весёлый или при мне бодрится?
– Он всегда такой, – ответила она. – Даже когда ему очень больно. Вероятно, это помогает ему облегчить страдания.
– Ему так и придётся доживать в коляске?
– Скорее всего да…
Я частенько интересовался у медсестры состоянием Бориса, но она отвечала уклончиво:
– Да ничего, жив.
Месяца через два после первой встречи с Борисом я пришёл к нему в больницу. Но меня не пустили, сославшись на плохое самочувствие больного. Я забеспокоился и обратился к своей осведомительнице. Она ответила:
– Не спрашивай ты больше у меня о Боре. Я сама скажу, если появятся какие-то изменения.
– Хорошо, молчу.
Дней через десять медсестра пришла вечером в школу, даже забыв снять с шеи марлевую повязку. Вид у неё был растерянный. Я подошёл к ней и спросил, что случилось.
– Боря умер, – тихо ответила она.
– Боже мой! Какое горе для жены, матери, брата – я их всех знал.
Я кусал себе локти за то, что при встрече не взял у Юли адреса. Теперь даже не мог пойти на похороны.
А снова Юлию я встретил через три года. Оказалось, что теперь она жила буквально в соседнем с нами доме на улице Милицейской. Мы жили в четвёртом доме, а она с новым мужем – в доме номер шесть.
А тут подвернулся мой день рождения, и мы пригласили их к себе на торжество. У нас была радиола, но пластинок было мало, и я с Юлей ходил к ним за пластинками. Так что музыка у нас была, мы пели и танцевали. В общем веселье не принимал участия лишь рыжий мужик – новый муж Юли. Он быстро набрался и заснул прямо за столом. Нам пришлось тащить его домой и укладывать там в кровать. Я невольно сравнивал его с Борей: «Если бы он был, то вечер прошёл бы более шумно и куда веселей». – Но мыслями своими я ни с кем делиться не стал, особенно боялся разбередить старую рану Юлии.
После дня рождения при встречах мы с Юлей здоровались, иногда беседовали, но дружеских отношений так и не сложилось.
* * *
Другая случайная встреча произошла в центре города. Между дворцом культуры и рынком находилась большая столовая, совмещённая с кулинарией. Летом на улице перед входом торговали пивом из бочки. Рядом стояло несколько столиков, за которыми сидели любители пенного напитка. Было жарко, и я тоже решил утолить жажду. Встал в очередь. За мной занял детина, широкий в плечах и почти на голову выше меня ростом. Через некоторое время он вдруг негромко произнёс явно обращённую ко мне фразу:
– А я сейчас тебя буду бить!
– Попробуй, – ответил я, даже не оборачиваясь в его сторону, хотя и было любопытно, кто этот человек, неизвестно почему угрожавший мне. «Уж не Головашов ли, муж Кати?» – подумал я грешным делом. Помнится, она говорила, что он высок ростом. Так я и стоял, назад не оглядывался. Больше угроз в мой адрес не звучало. Скоро подошла моя очередь. Я купил кружку пива и сел за свободный столик. Через минуту ко мне подсел высокий незнакомец и спросил:
– Не узнаёшь, что ли?
– Нет, не узнаю, – признался я.
– Я Гена Белоусов.
– Вот так встреча! – всплеснул руками я. – Это же сколько лет прошло, как мы с тобой встречались? Наверное, двенадцать[46]46
Об этой встрече я рассказывал в главе 20. (Прим. авт.)
[Закрыть]?
Гена согласно кивнул – так и есть. Мы перешли на полушутливый тон. Я взял нить беседы в свои руки:
– Вот когда мне вернёшь двадцать пять рублей, которые забрал у моего братишки-несмышлёныша, тогда сможешь говорить «побью». Но учти, я буду сопротивляться.
– Ах, ты будешь сопротивляться? Тогда верни мои плоскогубцы!
Так мы с ним потихоньку, провозгласив тост «за встречу», попивали пиво и вспоминали конфликт давно минувших дней. Опустошив кружки, мы встали из-за стола, пожали друг другу руки и разошлись по сторонам, чтобы никогда больше не встретиться.
* * *
Ещё одна нечаянная встреча произошла в конторе Центрального рудоуправления. Я встретил там молодую женщину из Горбуново – Татьяну, дочь Василисы Гавриловны. Мой отчим приходился Татьяне дядей. Она пришла в контору устраиваться на работу. Они с мужем недавно покинули «село родное», хотя и в нём они не бедствовали. Жили в своём доме, детей у них не было, а муж Михаил работал водителем у председателя колхоза. Но из деревень в город тянулась не только молодёжь, но и тридцати-сорокалетние – никто не хотел работать почти бесплатно. А на производстве была какая-никакая, а всё-таки регулярная зарплата. Как говорится, на хлеб и на чай хватало.
Татьяна была подругой Лены, моей бывшей супруги. Она сказала, что переписывается с Леной до сих пор. При нашей встрече Таня больше меня расспрашивала, нежели рассказывала сама. Я догадывался, что с одной стороны это было обычное женское любопытство, а с другой – ей будет о чём написать подруге.








