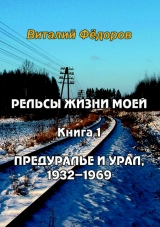
Текст книги "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969"
Автор книги: Виталий Федоров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 61 страниц)
Ещё о Зайчике хочу сказать несколько нелестных слов. Не напрасно же я его назвал «с придурью» чуть раньше. На небольших передышках он жевал поводки и вожжи, сделанные из пеньки. Мало того, что жевал, так ещё и глотал. Стоило прозевать начало процесса и приходилось потом вытаскивать из его утробы несколько метров верёвки. Потом этими жёваными верёвками управлять – брр!.. Неприятно, в общем.
* * *
Закончились весенние полевые работы в колхозе. Был объявлен праздник «Борозда», аж на два дня. Отец где-то раздобыл водку. Привезли её в металлической бочке. Она не была полной, там было что-то около пятой части водки, пропахшей керосином. Пили все, кто мог и хотел. Я тоже попробовал: «Ну и гадость!» Но настроение поднялось.
Погода была чудесная: тепло и солнечно. Все жители деревни собрались и расположились «табором» за клубом на пригорке. Там была большая поляна и что-то вроде маленького парка. Там же в больших котлах готовили мясной суп. Барашков на мясо к празднику выделило Правление.
Мы расстелили домотканые покрывала и всей семьёй расположились на поляне. Только отец, бывший основным распорядителем на празднике, не мог присоединиться к нам. Женьке нашему было около полутора лет. Он был очень подвижный и постоянно стремился убежать куда-нибудь. Его приходилось ловить мне или Венере.
На поляне угощались супом и водкой. Тем временем в клубе устроили что-то вроде концерта, в прямом смысле «самодеятельного». Пели, кто желал или кого очень просили. Спел и наш отец. Помню его высокий, звонкий голос. Музыкантов было трое: гармонист, приглашённый из соседней деревни, скрипач – старый бродячий музыкант и балалаечник Витя (Викентий), который в свои одиннадцать лет виртуозно играл на балалайке. После концерта в клубе начались хороводы, танцы, пляски, в которых я тоже принимал участие. Первым музыкальное сопровождение начал гармонист, но его быстро развезло – выпил лишнего (правда, на другой день он отыгрался). Затем скрипач и Витя играли по очереди, а иногда и дуэтом – и ведь хорошо получалось! Раньше селянам подобного дуэта ни видеть, ни слышать не доводилось. Так они играли до поздней ночи.
На другой день праздник продолжился под вечер и длился до полуночи. В основном в нём уже участвовала молодёжь.
* * *
И снова начались трудовые будни. Даже в межсезонье, когда не было весеннего, осеннего сева или уборки урожая, нам, мальчишкам, работы хватало. Возили сено к стогам, навоз на колхозные поля. Навоз вывозили из конюшни, скотного двора колхоза, а также из частного подворья (хлева). Выгребали подчистую в хлеве до самой земли. Занималась этим бригада грузчиков, точнее, грузчиц. Открывали настежь ворота и подводы заезжали одна за другой. Водителями «кобыл» были только мальчишки 10–12 лет. Иногда гоняли наперегонки, было интересно. Телеги для вывоза навоза были специальные, с сиденьем впереди. Сидишь себе на облучке, как настоящий кучер!
… Вам, дорогие мои читатели, возможно, кажется, что я в своих воспоминаниях слишком много строк уделяю работе. Но что поделать – работа была тогда на первом месте, хотя за зарплатой мы в очередь не стояли – её просто не давали…
Наступил период уборки зерновых и посева озимых. Нашу мини-бригаду не расформировали. Снова дед Осип должен был сеять, а наша троица – бороновать, то есть рыхлить вспаханную землю, чтобы засыпать зерно.
Дня за два до начала выездов на поле отец меня спросил:
– На какой лошадке хочешь работать?
– На Шутке, – ответил я.
Раньше на ней работал Сашка. Видимо, он был оповещён конюхами, что на Шутке теперь буду работать я – председательский сын. И не был бы собой, если бы не придумал какую-нибудь подляну. Утром мы на конном дворе сели верхом на своих коней: я на Шутку, Степан на Зайчика, а Сашка на Звезду. Вот такая получилась рокировка. Приехали на место работы, запрягли лошадей. Они все стояли рядом. Сашка до этого времени не обмолвился ни одним словом. Я, видимо, чуть отвлёкся и не заметил, как Сашка подошёл к Шутке и что-то с ней сотворил. Возможно, сильно уколол шилом. Я не успел взяться за вожжи, как она взвилась на дыбы и понеслась в дикой скачке по полю. Борона, в которую она была запряжена, прыгала прямо на неё и била железными зубьями. Шутка отбивалась копытами от прыгающего сзади металлического чудовища и неслась ещё быстрее. Нам ничего не оставалось, как наблюдать, что будет дальше. Сделав примерно километровый круг по полю, она прискакала к нам и внезапно остановилась, тяжело дыша и дико озираясь; приподняла заднюю ногу, из которой сочилась кровь. Зубом бороны ей проткнуло копыто. В случившемся я винил себя – не доглядел, почему она понеслась. И Сашку я обвинить не мог, поскольку не видел, что он сотворил. Лишь одни предположения с моей стороны. Пришлось её распрячь и ехать на хромой лошади на конный двор. Там я передал лошадь конюхам. Отец же мне, как бывало часто, ничего не сказал.
Через неделю Шутка выздоровела. На ней снова стал работать Сашка, а мне досталась Звезда. После этого случая я вообще перестал разговаривать с Сашкой, и он тоже больше не лез с нравоучениями. На перекурах я сидел отдельно, не стал курить, как и приносить бумагу.
Так мы и работали втроём. Осип нас не касался – посеет поле и уезжает.
Однажды, уже под вечер, на небе появились тучи. Мы были в поле в нескольких километрах от деревни, и как-то не сразу обратили на них внимание. Думали, брызнет дождик – воздух свежее будет, и продолжали работать. Но гроза разыгралась не на шутку: «Молнии сверкали и беспрерывно гром гремел!» Сашка, воздев руки к небу, прокричал:
– Раба божья, Земфира, дай нам хлеба с маслом!
Мы быстро распрягли лошадей и галопом помчались на них домой. А ливень всё усиливался. Стало темно, как ночью, но когда сверкала молния и громыхал гром – мы выглядели как кавалеристы, скачущие по минному полю. Дорога превратилась в сплошную грязь, на нас не было ни единого сухого и чистого места, но мы благополучно доскакали до дому.
Глава 12. СНОВА ОТЕЦ
Наступило 1 сентября, но нам сообщили, что учёба начнётся на месяц позже. Так что мы продолжали работать. В этом году урожай был неплохой. Колосья жали вручную серпами и связывали в снопы, а их укладывали в скирды. Потом перевозили в гумно, а там уже обмолачивали. Обмолоченное зерно засыпали в ручную веялку, где его очищали, а потом сдавали государству. Руководство района приказывало: «Ни в коем случае не давать хлеба колхозникам, пока не выполнят план госпоставок!» К нашему колхозу был приставлен уполномоченный района – женщина-коммунистка, которая неотлучно находилась на току при молотьбе. Провеянное зерно грузили в мешки, взвешивали и сразу, мимо колхозных амбаров, отвозили на элеватор.
Люди жили впроголодь, но трудились от зари до зари. Отец решил помочь односельчанам. Когда «комиссарша» отсутствовала (она иногда на ночь уезжала домой), провёл ночную молотьбу. Намолоченное зерно было решено той же ночью раздать колхозникам по количеству трудодней и развезти по домам. Была проведена немалая подготовительная работа. Да иначе и как можно людей, проработавших целый день, просить выходить на работу ещё и ночью? Я тоже участвовал в этой акции – возил с поля снопы для молотьбы. Мама работала на веялке. Вроде, всё прошло нормально. На следующий день, при «комиссарше», работа шла в обычном режиме.
Мой отец не учёл только одного, а именно того, что даже в таком захолустье, как деревня Квака, были агенты НКВД. О проведении «ночной акции» было доложено куда следует, и председателя вызвали в Красногорский райком.
В райкоме ему дали понять, что он совершил преступление перед государством и должен за это ответить. Его дело было передано в «Особый отдел» (точное название его я не знал), где ему грозили пистолетом и штрафбатом. Потом его передали в военкомат, и военком решил его дальнейшую судьбу: «На фронт! Безо всякой медицинской комиссии!»
Отец всё ещё ходил с палочкой, сильно хромал. Я видел его ногу – она была ужасной на вид. Вернулся отец из районного центра встревоженным. Оказалось, что у него уже была повестка в действующую армию. Он рассказал, как его воспитывали в райкоме, грозили расстрелом в «Особом отделе», и всё это из-за того, что он дал людям немного хлеба. Кстати, розданный после ночной молотьбы хлеб не отобрали – и на том спасибо.
Проводы были не торжественные, не как в первый раз в 1941 году. Были родственники, приходили многие колхозники проститься, хотя было время уборки урожая – люди должны были быть на работе. Уезжал он на «своём» Буяне. Конь был запряжён в телегу с кучером. Ехать нужно было на сборный пункт в г. Глазов, который находился от нашей деревни в сорока километрах. Мы его провожали всей семьёй. Шли рядом с телегой, наверное, с километр. Отец сказал:
– С фронта я живым уже не вернусь. Видел я этот ад в течение целого года!
Мама ему ответила:
– Мы всё равно будем тебя ждать!
Вот тут мы все заревели, даже навзрыд. Не плакал только Женька, который сидел у папы на коленях и был рад, что едет с папой на лошади. Ему ещё не было и двух лет, и он не понимал, почему это мы все ревём. Мы – это мама, я и сёстры мои, Венера и Фаина. Второпях простились с отцом, забрали у него Женьку. Вот тут уже и он заплакал – хотелось ему ещё проехать на телеге.
Вскоре от отца получили письмо, в котором он написал, что со сборного пункта как бывший фронтовик попал на курсы младших командиров.
* * *
Был у нас в деревне мужчина лет сорока пяти. Все его сверстники были на фронте, многие уже погибли. А он притворялся больным, еле ходил. Звали его Василий Ворончихин. Он работал сторожем колхозных складов и ещё числился пожарным. Склады и пожарная станция находились рядом. Я часто днём видел Василия посиживающим на лавочке возле пожарной «машины» и висящего куска рельса, предназначенного для пожарной сигнализации. Его не взяли ни в действующую, ни в труд-армию (была и такая, в неё брали тех, кто не мог воевать, но мог работать. Там была военная дисциплина, работали без выходных по 12 и более часов; кормили очень плохо и многие умирали от непосильного труда, голода и болезней).
А то, что Василий притворялся хворым, стало ясно после такого случая. Как-то мы, трое мальчишек, решили полакомиться рябиной с его дерева, которое росло перед домом, через улицу. Там был его огород. Будучи уверенными, что его дома нет, мы забрались на забор и сорвали несколько гроздьев рябины. И тут вдруг Василий выскакивает из дома с угрозами нас поймать и избить. Мы мгновенно спрыгнули с забора и помчались вниз к речке (его дом был вторым с краю). Он побежал за нами и бежал с такой скоростью, что мы еле ноги унесли. Мы мчались по деревянному мостику через речку, так, что грохот звучал от наших быстрых босых ног, а буквально в нескольких метрах за нами нёсся Василий. Только лес на противоположном берегу спас нас от плена и экзекуции. В лесу мы разбежались в разные стороны и он бросил преследование. Но не поленился пойти к нам домой (хотя путь неблизкий) и доложить маме о проделках сына, почему-то назвав меня «ефрейтором» и главарём банды.
После этого случая я узнал, что он здоров, больным лишь притворяется. «Так не он ли выдал моего отца?» – подумал я. – «Он вполне мог работать на милицию или НКВД, а может, на тех и других, поэтому-то его и не брали в армию»…
Мама после жалоб Василия меня пожурила, и тем этот инцидент закончился. Случилось это происшествие примерно через полмесяца после отправки отца на фронт.
Помнится, один раз в жизни отец меня «повоспитывал» прутиком. Я на него не был в обиде – сам виноват. Разбил трёхлитровую банку сметаны, из которой должен был вручную взбить масло. Для этого сметану в стеклянной банке, закрытой деревянной крышкой, сильно трясли не менее часа. Технология процесса: берёшь банку в руки, одной рукой сверху, другой снизу, садишься на лавку и колотишь по согнутым ногам выше колен до одури. Я уже устал, но останавливаться нельзя – нужно довести процесс до конца. И вдруг банка выскальзывает у меня из рук и разбивается вдребезги! Я получил то, что заслужил.
Через два месяца, в ноябре, отца после окончания курсов отправили на фронт. Попал он снова в Белоруссию, откуда прислал нам два письма. А однажды, уже в январе, вместо письма получили «похоронку»… В извещении, которое я дословно запомнил, было написано: «Фёдоров Николай Климентьевич, 1910 г. р., младший сержант, командир отделения миномётчиков геройски погиб в боях с немецко-фашистскими захватчиками 22 декабря 1943 года. Похоронен: Витебская область, Яновичский район, 800 метров от деревни Пуруза».
Мы были в шоке. Всё валилось из рук. Мама осталась одна с нами четырьмя. Она решила узнать, как «это» произошло, как он погиб. Попросила меня написать письмо в воинскую часть, где воевал отец. Она продиктовала, а я написал. Но ответа мы не получили.
Глава 13. 1944 ГОД
Зима 1944 года нас ещё раз серьёзно огорчила. Не зря говорят на Руси: «Пришла беда – отворяй ворота!». Сдохла наша кормилица – корова. Причин её гибели могло быть несколько: злодейство, недостаток кормов, сильные морозы тех лет. Хлев и даже дома в те годы не закрывались на замки, поэтому чей-то злой умысел мы исключить не могли. А морозы стояли такие, что даже в подполье у нас замёрзла картошка. Из мёрзлого картофеля делали крахмал и готовили кисель. А потом стали готовить даже кумышку – самогон.
У наших ближайших соседей в сарае был солидный аппарат с четырёхведерным котлом. Для охлаждения использовалась деревянная бочка, через которую была пропущена толстая медная труба. Зимой в бочку засыпали снег, а летом заливали холодную воду из колодца. Разводили костёр, над которым устанавливали котёл. В него заливалась брага, изготовленная из мёрзлой картошки в домашних условиях. Котёл закрывался деревянной крышкой и промазывался по краям глиной. Костёр под котлом необходимо постоянно поддерживать, добавляя дров, а в бочку подсыпать снежку. Меня мама посылала на эту работу, а мне и самому было любопытно, что мужики пьют да хвалят. Рядом с посудиной, куда прозрачная жидкость лилась тоненьким ручейком, висел маленький ковшик, в который я набрал немного тёплой жидкости. Мне она показалась слишком горькой, но через пару «командировок» к аппарату уже становилось весело.
У нас заканчивались дрова (отец их не успел заготовить), а зима была в полном разгаре. Пришлось нам с мамой вдвоём рубить в лесу дрова. Взяли топор и двуручную пилу и отправились в Мур Гоп (в переводе – Глубокая Яма). Она простиралась на несколько километров вдоль реки и начиналась не очень далеко от нашего дома. Лес был тут дремучий, но было много сухостоя – засохших на корню деревьев, которые хорошо шли на топливо. Летом сюда было трудно пробираться, да и страшновато. Про эти места ходили легенды, но как оказалось, не только легенды. Осенью, во время уборки урожая, мы с мамой жали серпами ячмень около леса, прилегавшего к Глубокой Яме, и видели на опушке снопы, обмолоченные вручную. Предполагали, что тут живут дезертиры, скрывавшиеся от армии.
Зимой земля замёрзла, и снегу было по колено. Мороз не был сильным, и мы за два дня наготовили 12 возов дров. Это были брёвна длиною примерно три метра и довольно толстые. Мама попросила помочь нам с гужевым транспортом старшего конюха Гаврилу. Он выделил двух быков, а сам взялся возить нам дрова на жеребце по кличке Ветерок. Пришлось ещё пригласить соседа – 15-летнего юношу Онисима, который запряг быка Бодрого, а мне достался бык по кличке Партизан. Получилась настоящая «помочь» – так говорили, когда работники добровольно и бесплатно работают. Хозяева кормят тружеников 2–3 раза, а ужин с выпивкой – кто сколько желает.
В первый рейс отправились все вместе. Я должен был указывать дорогу. Нам нужно было вывезти все заготовленные дрова за один день. Грузили мы на сани-розвальни примерно по 10-12 брёвен и прикрепляли к саням верёвками. Обратно впереди поехал Гаврила на резвом Ветерке, за ним Онисим, а я последним. Мой тихоход довольно далеко отстал даже от собрата. Друг друга не ждали, каждый сам себе грузил и разгружал. Гаврила сделал пять рейсов за день, Онисим четыре, я же успел лишь три. Но у меня было оправдание: я моложе всех – 11 лет, да и быком раньше мне управлять не приходилось. Мы вывезли все дрова, проработав дотемна. Вечером хорошо «погуляли», вот и пригодилась самогонка, которую я помогал варить. Дров нам хватило на две зимы.
* * *
Дедушка – мамин отец, узнав, что наш отец погиб на фронте, решил нас, как мог, утешить и кое в чём помочь по хозяйству. Пришёл к нам в деревню. Жили они в Пермской области, оттуда он доехал поездом до станции Балезино, побывал в гостях у старшей дочери Анфисы и пешком отправился к нам. Я его не видел около шести лет. Был он невысокого роста, с окладистой чёрной бородой, говорил глуховатым голосом.
Узнав, что у меня сломались лыжи, дедушка сразу дал мне на покупку новых 30 рублей. Без лыж в нашем снежном крае очень плохо, особенно мальчишкам. Даже в школу иногда ходили на лыжах, особенно при снежных заносах. Да и на уроки физкультуры просили приходить на лыжах. Проводились и соревнования на дистанции три километра, на время и с отметкой в журнале. Правда, можно было «схалтурить», так как половину дистанции шли вперёд и разворачивались на обозначенном указателем месте, и обратно шли по той же лыжне. «Судьи» на месте разворота не было, и некоторые разворачивались, не доходя до знака. Сашка «срезал» метров 30-40, а я шёл за ним и был удивлён, но не последовал его примеру, а дошёл до знака и на обратном пути нагнал его. Он не стремился победить и шёл спокойно. Лыжи на соревнование мне достала у старшеклассников наша учительница Екатерина Ивановна – родня всё-таки.
Через несколько дней дедушка уехал, пребывая в полной уверенности, что сделал доброе дело, обеспечив внука лыжами. Но лыж я не купил…
Был сбор средств на постройку танков. Каждый ученик должен был внести именно 30 рублей! В наш класс в конце уроков пришли директор школы (женщина) и военрук, который с пятого по седьмой вёл в школе военное дело и физкультуру. Они потребовали, чтобы каждый ученик внёс в ближайшие дни эту сумму. Заносили учеников в список, указывали сумму и просили расписаться. Я довольно скоро согласился, поскольку деньги у меня были, и расписался своей фирменной подписью, придуманной мною ещё классе во втором – из заглавных букв своих инициалов я вывел тогда единый знак. Кто записался, того отпускали домой. Кто не имел средств или упрямился, того задержали. Например, Сашка просидел два часа и согласился внести лишь пять рублей. Домой он пришёл, когда на улице уже стемнело. Так я остался без лыж. А так хотелось после школы вечером покататься с ребятами с горки на лыжах!
Непревзойдённым горнолыжником у нас был Витя Петров. А мне оставалось лишь вздыхать и завидовать. Приходилось кататься на санках, хотя для них я был уже переростком.
Кончилась зима, начальную школу – 4 класса – я закончил вполне прилично по тем временам, хотя заимел в табеле одну «удовлетворительную» отметку по географии. У нас в четвёртом классе уже были выпускные экзамены, и по географии я получил три балла. Всю дорогу до дома я шёл (а может, бежал) и плакал – оплакивал первый в жизни «трояк». Благо, я был один и никто не видел моего горя.
Сашка завершил своё образование четырьмя классами. Учёба у него шла довольно туго. Он перешёл работать во взрослую бригаду пахарей. Я же остался в прежней бригаде, на старой работе. Но лошадки были ещё моложе Зайчика и его компании. Мне дали сразу двух необъезженных лошадок гнедой масти, чтобы я их приручил (объездил). Лошадки были почти жеребятами, очень доверчивые, привыкли ко мне быстро и даже приходили утром сами к нашему дому. Я ездил на них верхом по очереди. Запрягал я их двоих в одну борону, которую они вдвоём и таскали.
* * *
Этим летом 1944 года у нас появился гость. Это был мой двоюродный брат Валентин, сын старшей сестры отца. Высоких худощавый юноша лет пятнадцати-шестнадцати, приблатнённый «Ижевский атаман». Он показывал ребятам в клубе различные фокусы с картами и лентами. А самый запомнившийся мне трюк был с ножом-финкой. Положив на стол левую руку ладонью вниз, он нешироко раздвигал пальцы остриём финки бил по столу между пальцев поочерёдно, каждый раз возвращаясь к большому пальцу. Делал он это настолько быстро, что трудно было уследить за мельканием ножа. Казалось, он вот-вот проткнёт какой-нибудь палец, но ничего не случалось. На то он и «урка». Так и прозвали его наши ребята.
Однажды он решил научить меня плавать. Правда, я об этом не знал. Дело было так. Мы с ним стояли около мельницы на плотине, обсыхая после первого купания. Я был «в чём мать родила», а Валя в трусах. Неожиданно, ни слова не сказав, он схватил меня и бросил в воду, в самое глубокое место, где вода проходила на мельничное колесо. Ширина этого прохода была около шести метров. Мельница не работала, поэтому вода была спокойной. Попав в воду и зная, что здесь глубоко, я начал барахтаться и как-то переплыл на другую сторону водовода. А там меня подхватил Валя. Я не успел по-настоящему испугаться, а инстинкт самосохранения заставил меня барахтаться и плыть. Валя меня успокоил, похвалил, что я хорошо доплыл и предложил ещё раз переплыть это место, объяснив, как нужно работать руками. Я согласился, и в этот раз достиг другой стороны быстрее и более спокойно. Так я перестал бояться глубоких мест и научился держаться на воде и потихоньку плавать.
Родители Валентина жили на станции Балезино. А он, по его словам, мотался между Ижевском и Балезино. Поговаривали, что он «сидел» за какие-то грешки, но недолго. Вскоре он уехал, но появлялся ещё раз зимой. Помню, был в длинном чёрном пальто и чёрной шляпе. Его мать была уроженкой деревни Квака, моей тётей и по совместительству крёстной. Звали её Харитонья. Но я не помню, чтобы она когда-нибудь бывала у нас.
* * *
Лето 1944 года выдалось сухим и жарким. Днём всё население было на работе. Малышня была дома, предоставленная самой себе, и творила, что хотела. Двое мальчишек – братьев четырёх и шести лет – решили из мусора во дворе под навесом развести костёр. Только где они нашли спички? Их тогда «днём с огнём» найти было невозможно. Выходит, родители были запасливыми. Отец их бы на фронте, мать работала в поле. Так или иначе, ребятишки развели костёр, и он разгорелся так, что пошло полыхать всё, что попадалось на его пути. Навес находился между домом и хлевом. Все постройки загорелись. Мальчишки, спасаясь от огня, выбежали на улицу и, плача и крича, побежали вдоль неё. Кто-то начал бить в набат, в нашем случае по рельсу, созывая народ на тушение пожара. Люди бросали работу и бежали в деревню. Кто тушить пожар, а кто спасать своё имущество. Тем временем огонь перекинулся через улицу на дом дедушки Ильи. Попробовали вывезти деревенскую «пожарную машину», но насос оказался неисправным – поршни приржавели к цилиндрам и четыре человека не могли их сдвинуть. А пожарный – сторож Василий – сидел около этой техники, протирая штаны.
Тут меня послали на коне верхом за пожарной машиной в Архангельское. Коня дали хорошего, и я поскакал во весь опор. Но, не доехав до села, увидел, что навстречу скачет тройка коней, запряжённых в специальную телегу, на которой смонтирована пожарная машина. Архангельские пожарные увидели дым и сами бросились на помощь. Я повернул коня и вместе с ними вернулся в деревню, где продолжался страшный переполох. Из нашего дома мама и девочки уже начали выносить имущество на лужайку возле речки за огородом. Я включился в эту работу. Пожар всё полыхал, огонь шёл вдоль деревни. Горело уже полдесятка домов. Хотя до нас было огню далеко, но мы подстраховались и вынесли из дома и амбара всё, что возможно. Мама пошла «на пожар», а мы, дети, остались в огороде около вещей.
Источником воды для тушения пожара были колодцы. Также в середине деревни бил родник с сильным потоком воды, и хотя спуск-подъём к нему был очень крутым, всё равно набирали в бочки воду и возили на лошадях к пожару. Архангельская пожарная бригада из четырёх человек работала без остановки, лишь бы успевали подвозить воду. Старались поливать водой и дома, находящиеся рядом с горящими, чтобы на них не перекинулся огонь.
Рассказывали, что моя мама обошла с иконой в руках вокруг пожарища. И там, где она прошла, огонь периметр не пересёк.
Ветер начал стихать к вечеру, пожар угомонился. Сгорели полностью семь домов с подворьем. Человеческих жертв не было, домашние животные были на пастбище; погибли только куры. Все погорельцы были одной фамилии – Фёдоровы. Семьи три-четыре не успели вынести ничего из имущества, огонь всё уничтожил. Лишь одежда, в которой они были на работе, у них и осталась. Приютили погорельцев ближайшие родственники.
На следующий день большинство жителей, даже некоторые погорельцы, вышли на работу в поле. Никакой помощи от государства лишившиеся крова и имущества люди не увидели. Шла война. Забирали на фронт молодёжь, от крестьян требовали хлеб, мясо, масло, яйца, шерсть и т.д., какая уж тут помощь?
Сгорел дом и моего одноклассника Серафима. Его отец Захар – пожилой мужчина, по возрасту его уже в армию не брали. Кстати, его старший сын Борис, брат Серафима, был ровесником моего отца, и они даже дружили. У меня сохранилась их совместная фотография. Захар Фёдоров был человек несгибаемый, а в колхозе – незаменимый работник. Он трудился на молотилке, и через его руки проходил каждый сноп, колосок и зёрнышко. В свои шестьдесят с лишним лет он стоял у молотилки целыми днями и бесперебойно складывал в её жерло снопы, которые превращались в солому, мякину и зерно. А какая жуткая пыль шла от молотилки во время её работы! Гумно, в котором находилась молотилка, было крытым и плохо проветривалось, и пылью там можно было задохнуться. Захар работал в очках, но без респиратора (о нём мы в то время и не слышали). Когда останавливали молотилку, он выходил из своей «преисподней» с сантиметровым слоем пыли, раздевался и перетряхивал всю одежду. Захар первым начал строить дом. К осени у него уже стоял сруб.
Власти не препятствовали бесплатной порубке леса для погорельцев, лишь лесники указывали место, где можно рубить. Строили коллективным методом. Все мужчины, умеющие делать срубы, работали в деревне. Женщины заготавливали брёвна в лесу. Юноши до 17 лет перевозили стройматериал из леса. Перевозка длинных брёвен была не проста. Использовали два передка от пары телег, соединяя их тандемом. В один передок запрягали лошадь или быка, а другой оглоблями привязывали к первому. Получалась низкая четырёхколёсная повозка. Мне тоже пришлось несколько дней перевозить брёвна на лошади из леса. Все строительные работы выполнялись не в ущерб основной работе в колхозе. Бригадир распределял людей так, чтобы и строительство шло, и уборка урожая, посев озимых производились вовремя. К зиме срубы у многих были готовы. На следующий год уже все погорельцы жили в новых домах, но дома были меньших размеров. Виновники пожара тоже переселились в новый дом.
* * *
Однажды, в обеденный перерыв, я решил оставить телегу возле дома, а коня отвёл в конюшню. После обеда вышел из дому, и вижу – малышня пытается катить мою телегу. Я их остановил и спросил:
– Ребята, хотите прокатиться?
– Да-а-а! – дружно ответили мне.
– Садитесь, прокачу!
Малыши стали забираться на телегу. Тут ещё подошли две девушки возрастом постарше меня и тоже сели на телегу – они шли купаться на реку. От нашего дома был спуск в сторону конного двора и реки. Я взял телегу за оглобли. Телега под собственным весом и весом пассажиров начала разгоняться под уклон. Я с трудом её сдерживал, еле успевая перебирать своими босыми ногами. И тут случилось непредвиденное – от сильного напряжения оторвалась единственная пуговица на моих штанишках. Штаны, спадая вниз, спутали мне ноги, и я упал. Телега вихрем прокатилась по мне, поцарапав спину курком и проехав одним колесом по моей ноге. К счастью, телега не перевернулась, а потеряв управление в моём лице, затормозила оглоблями и остановилась, упёршись в забор.
Я сразу вскочил, не успев почувствовать боль в ноге. Руки мои были заняты поддерживанием штанов. Ребятишки хохотали от души. А девушки сочувствовали, но было видно, что они пытаются сдержать смех. Лишь мне было не до веселья. Мама была на работе и не видела трагикомедию, в которой я исполнял главную роль. Лишь вечером она заметила, что я хромаю.
– Что у тебя с ногой, почему хромаешь?
– Подвернул ногу, – ответил я. – Оступился.
Мама проверила ногу – нет ли перелома или вывиха. Не обнаружив серьёзного повреждения, кроме ушиба, успокоилась. Это чудо, что нога осталась без серьёзной травмы. Я в это время возил на лошади камни на стройку погорельцам. На каменоломнях немудрено было повредить босые ноги. Мама решила обезопасить меня от повторной травмы и где-то купила мне ботинки из кирзы с деревянной подошвой (толстая фанера). Я их обул и пошёл купаться на речку. Обратно вернулся босиком – забыл про обувь. Мама сразу это заметила:
– Где твои ботинки?
– Мама, я их, наверное, на реке оставил. Сейчас побегу и принесу.
Честно говоря, я не был уверен, что их найду. Прибежал на речку в то место, где купался. И вот они, миленькие сабо, стоят рядышком и ждут меня. Мама подумала, что со мной что-то неладно – стал забывать – и попросила у бригадира, как для больного, один выходной. Ей было невдомёк, что я просто летом привык ходить босиком.
* * *
Осенью к нам приехала младшая сестра мамы, Павла. Рыжая, кудрявая, энергичная, весёлая, неунывающая, певунья! Ей в то время было 20 с небольшим. Всё, что делала, она сопровождала песней, шуткой, прибауткой. Она помогала маме по хозяйству, и даже со мной пилила, колола дрова, ухаживала за домашними животными. Хорошо запомнилась песня «Сулико», которую она для нас пела. Я эту песню слышал впервые. Лишь много позже слышал несколько раз в исполнении грузинского ансамбля и от знакомых грузин. А всё-таки тётя Павла пела лучше всех!
Вспоминается ещё шуточная песенка, пару куплетов из которой помню до сих пор:
Всюду деньги, деньги, деньги,
Всюду денежки-друзья.
А без денег жизнь плохая,
Не годится никуда.
Не ходи, Иван, в театр,
Много денег не теряй.
Ты купи лучше гитару,
Меня чаще забавляй!..
Тётя Павла любила загадывать мне загадки. «Кая мая – воот такая, кундир мундир – воот такой, кундирочик – вот такой». Ответ – ковшик. Всё это преподносилось жестами, голосом и мимикой. «Между ног болтается, на букву «Х» называется. Как увидит букву «П», сразу поднимается». Хобот слона, если вы ещё не догадались. Мне было 12 лет, я смущался, краснел, но не мог разгадать её загадки.








