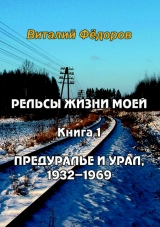
Текст книги "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969"
Автор книги: Виталий Федоров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 61 страниц)
– Мы с мамой пока поговорим, хорошо? – спросил он. Я кивнул.
Так на кухне они и беседовали какое-то время. Я не прислушивался, о чём был разговор. Но время подходило к часу, а нам было сказано вернуться к двум. Рома хотел повидаться с братом, и мы ждали его до последней минуты. Уже когда начали одеваться, он появился. Увидев старшего брата, тоже удивился:
– Ты что вернулся? Не взяли?
– Взяли, взяли, – ответил Ромка. – Сейчас ухожу.
Тут паренёк заметил меня:
– А это кто?
– Мой товарищ.
– По несчастью, да?
– Нет, по будущей службе, – у Ромы особого желания шутить, похоже, не было.
Ксения Петровна поторопила:
– Давайте, ребята, прощаться, а то опоздаете. Не забывайте нас, держитесь друг друга, вдвоём всегда легче переносить трудности.
Они обнялись, трогательно простились. Рома повернулся к братишке:
– Ты, «пострел», слушайся маму, помогай ей. Пишите письма, – сказал он напоследок.
Я поблагодарил хозяйку и пожелал всего хорошего. Мы сразу двинулись на сборный пункт, успев вовремя доложить о возвращении лейтенанту, после чего он нас вычеркнул из списка «отпускников».
* * *
Любопытно, что мы с Романом были похожи, одинакового роста, разве что он был немного смуглее меня, волосы тоже были более тёмные. Некоторые даже называли нас братьями. До ужина мы с ним гуляли по окрестностям Уктуса. Спустились вниз к бурно текущей речке, через которую был проложен довольно широкий металлический пешеходный мост с перилами. По этому мосту мы ходили строем в столовую. На прогулке, никуда не торопясь, мы зашли на мост, прислонились к перилам и начали говорить о том, где бы хотели служить. Я сказал, что мечтал о Морфлоте, показал свою фотографию в морской форме. Рома же хотел в лётные войска. И мы оба не угадали наше будущее. Один хотел взлететь в небо, другой – ходить по морям, а о земле-то и забыли. Верно говорят: «Там хорошо, где нас нет»!
На утро следующего дня после завтрака нас выстроили по всему спортзалу. Послышалась какая-то суета, и к нам подошли более десяти офицеров и сержантов в зелёных фуражках и с зелёными же погонами. По рядам прошёл тихий говорок: «Пограничники!» Моему удивлению не было предела. Я раньше перебирал в уме войска, начиная от военно-морских и кончая сапёрными, но пограничные части гадатели вроде меня почему-то упускали. Почти для всех это оказалось сюрпризом. Теперь оставалось узнать, на какую границу нас повезут.
Нас начали вызывать по заранее заготовленным спискам. По тридцать человек грузили в крытые военные машины, на которых с двумя сопровождающими (офицером местного гарнизона и сержантом-пограничником) перевозили на железнодорожную станцию. Мы с Ивановым стояли рядом и условились, что если не попадём на одну машину, то попробуем найти друг друга на станции. Меня вызвали из строя где-то в восьмой-девятой группе. Иванов всё ещё стоял в строю. Уходя, я коснулся его руки и сказал: «До встречи».
Привезли нас на станцию, но не на пассажирскую, а на сортировочную, где формируют грузовые составы. На одном из запасных путей стоял эшелон из двадцати грузовых четырёхосных крытых вагонов. Впереди состава стоял пассажирский вагон, за ним вагон-ресторан – старый, наверное, списанный из пассажирского парка. Такая же пара вагонов была размещена в хвосте состава. Призывников рассадили по грузовым вагонам – по три десятка человек в каждый. Мой вагон был где-то в середине состава. Из соседей я запомнил трёх земляков из Талицкого района: Мосина, Молодцова и Синицына. Внутри вагона царственно расположилась печь-буржуйка. По обеим сторонам от свободной середины были устроены в два яруса нары. Около печки стоял ящик с углём и дровами, а также фляга с водой. На нарах для нас было «постелено» сено.
Глава 38. ДОРОГА НА ГРАНИЦУ
Сержант-пограничник, который был прикреплён к нашему вагону «шефом», сам в нём не ехал. Как все командиры, он размещался в пассажирском вагоне. Приходил он к нам лишь на остановках для проверки личного состава и интересовался, нет ли жалоб на здоровье. Нам по-прежнему не говорили, куда мы едем. К вечеру первого дня пути мы прибыли на станцию Челябинск, и стало ясно, что мы движемся на юго-запад. Стоянка была довольно продолжительной, и нам принесли в вагон ужин: горячую ячневую кашу, чай, хлеб. Пищу готовили в вагоне-ресторане, кормили два раза в сутки, и ещё выдавали сухой паёк. Сержант назначил дневального, который должен был топить «буржуйку» всю ночь – время-то было осеннее, да и ехали мы ещё в пределах Урала. Здесь же, в Челябинске, я встретился со своим другом Ивановым. Он ехал через три вагона от нас.
Паровоз тащил нас всё дальше и дальше от дома. Мы безмятежно заснули, но к утру в вагоне стало холодно. Ребята просыпались, ворча на истопника. Он, оказывается, преспокойно дрых, а печь тем временем остыла. Его разбудили, и он в темноте затопил печку. Постепенно стало теплее. Я снова лёг на нары, так как был одет теплее многих. У некоторых из тёплых вещей были только свитеры или пиджаки. Они собрались в кружочек вокруг печки и грелись.
На второй день мы доехали до Башкирии и миновали без остановки её столицу Уфу. Иногда мы подолгу стояли на полустанках, там нас кормили, а мы успевали сбегать в кустики – облегчиться.
Ещё через день мы доехали до Куйбышева (Самары). Стояли там довольно долго: запасались продуктами, топливом, водой. Двинулись дальше около полудня и через час-полтора оказались у Сызранского железнодорожного моста через грандиозную русскую реку Волгу-матушку. Перед мостом поезд вдруг замедлил ход буквально до скорости пешехода, и так тащился до противоположного берега. Сделано это было явно не для того, чтобы мы могли вволю полюбоваться панорамой реки Волги и пейзажем её берегов, а потому что мост был на реконструкции – там строился второй путь. Днём мы всегда держали дверь вагона открытой, а чтобы из вагона на ходу никто не выпал, поперёк двери был закреплён на уровне груди прочный и широкий брус. Облокотясь на этот брус, мы любовались красотами нашей огромной страны. А сейчас перед нашим взором была Волга!
На шум сбежались и те, кто отдыхал на нарах. Около дверного проёма возникла сутолока, всем хотелось вдоволь наглядеться на легендарную реку. Дверной проём был широк, в один ряд могли встать около десятка человек. Но видеть-то хотелось всем трём десяткам. Обошлось без ссор. «Малышей» поставили в первый ряд, высоким же пришлось стоять в третьем ряду, но они не обижались. Поскольку я был среднего роста, то и стоял в среднем ряду. Кто-то сказал: «Нужно в реку монетку бросить, чтобы захотелось ещё сюда вернуться». Все начали шарить по карманам и приготовились дарить подарок Волге. Тут из третьего ряда мы услышали пение. Все обернулись, чтобы увидеть певца, а он затянул:
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные,
Острогрудые челны.
Поющим оказался самый высокий в вагоне призывник из Талицы Молодцов. Вначале все так опешили, что даже забыли о намерении бросать монетки в воду. Сама панорама реки просила поддержать певца, и мы поддержали. Сначала робко, а потом присоединились все, кто мог петь. Получился настоящий хор. Это было, действительно, всеобщее вдохновение! Молодцов продолжал, а мы ему подпевали:
На переднем Стенька Разин,
Обнявшись, сидит с княжной,
Свадьбу новую справляет,
Сам весёлый и хмельной.
Наше пение услышали в соседних вагонах и тоже подхватили. Поезд двигался медленно, почти без стуков на стыках рельс. И полетела песня по-над Волгой, раздаваясь сразу из многих вагонов:
Позади их слышен ропот:
«Нас на бабу променял,
Только ночь с ней провожался,
Сам наутро бабой стал!»
Я на несколько секунд закрыл глаза и представил Стеньку Разина и его братков на расписных челнах. Река на этом месте была широкая – более километра, и по мосту мы ехали минут двадцать, продолжая песню:
Волга, Волга, мать родная,
Волга, русская река,
Не видала ты подарка
От донского казака.
Мощным взмахом поднимает
Он красавицу княжну
И за борт её бросает
В набежавшую волну.
После этих слов те, кто приготовил монетки (а таких было большинство), стали бросать их в реку. Я тоже кинул три монетки, которые оказались у меня в кармане.
После «переправы» на западный берег наш состав двинулся в направлении Саратова. А по пути у нас в вагоне разгорелась жаркая дискуссия о поступке Стеньки Разина. Кто-то считал, что это безнравственно по отношению к женщине, другие – что жестоко так поступать с человеком, а были и такие, которые говорили, мол, она была княжна и дочь врага народа. Раньше мы ехали почти молча, каждый со своими думами, а теперь начали общаться и знакомиться, появились темы для разговоров. Вот такие перемены произошли в нашем вагоне после пересечения Волги. На Молодцова смотрели как на артиста, хотя на самом деле он был водителем грузовика-лесовоза, возил лес из-за Талицы на станцию Поклевская.
Ночью мы миновали Саратов, днём остановились на полустанке, где нас покормили. Кустиков поблизости не было, но были горы соли, наверное, добытые из ближайших соляных озёр Эльтон и Булухта, а может, и Баскунчак. Эти соляные горы были высотой с пятиэтажный дом, и мы бегали за них, будто играя в прятки, благо вблизи не было никаких зданий и охраны. Соль, по-моему, была пищевая, размолотая.
С Ромой Ивановым мы встречались каждый день. Если на стоянке находились возле моего вагона, а поезд неожиданно трогался, то и ехали дальше оба в моём вагоне. Или наоборот, в его. При этом всегда находили общие темы для разговора.
Из степей мы повернули на северо-запад и ночью проехали Воронеж, а днём оказались в Курске, где была длительная стоянка. Мы стояли на товарной станции, и с этого места хорошо был виден город. Он расположен где на холмах, где на косогорах, почти по середине города протекает река. Меня удивило, что на фоне жилых домов возвышались три (а то и более) церкви, они сверкали золотистыми куполами и белоснежными корпусами. Прошло всего шесть лет после разрушительной войны. Курская битва была великим сражением. Сам город бомбили много раз с воздуха, расстреливали снарядами с земли, больше года он был в оккупации, а церкви-то выстояли, сохранились!
Из Курска поехали на юг, через Белгород, Харьков без остановок. Лишь поздно вечером поезд остановился на небольшой станции в Ворошиловградской (ныне Луганской) области. Поужинали и спать. На следующий день достигли Ставрополья. Стало понятно, что везут нас на Кавказ. На одной из остановок к нам в вагон сел старший лейтенант медицинской службы, грузин, лет где-то за тридцать, приятной наружности, с аккуратно подстриженными усиками. Говорил он с заметным акцентом. Поздоровавшись и представившись, он первым делом осведомился о нашем здоровье, самочувствии, настроении, спросил, нет ли жалоб на обслуживание. На все его вопросы мы отвечали односложно: хорошее, отличное, жалоб нет.
– А вот у нас к вам важный вопрос, – сказал кто-то из парней. – Куда мы едем и где будем служить?
На удивление в этот раз мы получили конкретный ответ:
– Мы едем в Грузию, там на границе и служить будем.
Он назвал конечный пункт нашей поездки – город Ахалцихе, где находился штаб погранотряда. Потом он начал рассказывать о красотах цветущей Грузии, живописно описывал горы и долины. Говорил, что грузины – народ хороший и гостеприимный. Воздух чист и свеж, но на высокогорье он разрежен, при беге и физических нагрузках дышать труднее, особенно курящим. Сам Ахалцихе находится в километре над уровнем моря, а заставы и того больше. Я сразу решил – курить не буду! А то уже было начал покуривать, так как многие мне говорили, что в армии без этого никак.
Некоторые из рассказа грузина решили, что мы едем на самый юг страны, и тёплая одежда, в которой мы ехали с Урала, больше нужна не будет. Кое-кто стал распродавать одежду, начиная от шапок и заканчивая обувью. Всё это не только продавали, но и обменивали на продукты питания, фрукты, самогон. Все «торговые операции» производились на остановках, особенно там, где задерживались на длительное время. Население близлежащих посёлков, узнав о нашем эшелоне, приходило целыми семьями поглазеть на «дикарей», заодно прихватив с собой деньги, фрукты, а иногда и бутылочку. Наши вагоны называли «телятниками», поскольку обычно в них возят скот и лошадей. Впрочем, ещё в таких вагонах перевозили заключённых, только двери у них были наглухо закрыты. Мы же от них отличались относительной свободой: открывали двери, когда хотели, ходили вдоль состава, подходили к киоскам и магазинам. Кто имел деньги, мог купить, что хотел. А «дикарями» я назвал нас потому, что выглядели мы уж больно экзотически. А что вы хотите – ехали уже больше недели. Наши печи-буржуйки не имели хорошей тяги, и часть дыма попадала в вагон. Паровоз тоже при движении коптил дай боже. А большинство «пассажиров» при этом даже по утрам не умывалось. Мы были закопчены и выглядели если не неграми, то мулатами точно; сверкали лишь глаза и зубы.
В дневное время мы доехали до Дагестана и остановились в Махачкале. И там я впервые увидел море и … ишака! Не знаю, что меня удивило больше. Здесь я встретился с Ивановым, и мы умылись морской водой. Я ему сказал, что нас везут в Грузию, на границу с Турцией. Он же поведал, что его путь – в Армению, на Иранскую границу. Вот такие мы выдали друг другу новости и поняли, что нам не суждено служить в одном полку. Судьба нас разлучила, но что делать? Пожелали друг другу удачной службы и возвращения домой.
Из Дагестана мы попали на Азербайджанскую землю, без остановки проехали Баку. Железная дорога проходила по Азербайджану и Армении вдоль границы СССР c Ираном и Турцией. Она представляла собой вереницу спусков, подъёмов и туннелей. Поезд двигался медленно. Была ночь, мы заснули, а утром обнаружили, что половины состава у нас нет. Значит, отцепили «армян» – ту часть поезда, в которой везли призывников для Армянского погранотряда.
В армянском городе Ленинакане железная дорога отошла от границы и повернула вглубь республики. К середине дня мы пересекли условную границу с Грузией и часа через два оказались в Тбилиси, который видели лишь мельком, так как проехали без остановки. И ещё долго поезд нигде не останавливался, а уже пора бы пообедать да «выгуляться». Ещё два часа в тряском «телятнике» и, наконец, мы прибыли на станцию Хашури. Здесь нам выдали сухой паёк и пересадили в мини-поезд, в пассажирские вагоны. Этот состав ходил по узкоколейному пути – шириной один метр, через города Боржоми и Ахалцихе в рабочий городок Вале, который находился у самой границы. Там добывали каменный уголь, который вывозили по этой узкоколейке.
В Ахалцихе мы доехали, когда стало темнеть. Шёл дождь: холодный, довольно сильный, неприятный. Нас выстроили повагонно на вокзале и сказали: «Пойдём пешком, строем до штаба части». Шли довольно долго, наверное, с километр по дороге, мощёной камнем, хорошо укатанной, но довольно грязной. Я уже упоминал, что некоторые распродали по дороге одежду и обувь, надеясь на тепло и сухость, и то, что сразу по приезде их оденут. А тут такая неувязочка с погодой, и шагать по городу далеко. Всё это происходило на глазах у местного населения, которое улюлюкало, показывая пальцами на троих босоногих, двое из которых не имели даже брюк, а были одеты в грязно-белые кальсоны и исподние рубахи.
Когда мы подошли к штабу по извилистой, идущей куда-то вверх дороге, нас не завели на его территорию, а повернули и ввели в большой пустующий гараж, где даже были ремонтные канавы. Там сержант, курировавший нас в десятидневной дороге, передал призывников будущим нашим командирам: трём младшим и одному старшему сержантам.
Глава 39. НОВОБРАНЦЫ
Нас выстроили в две шеренги лицом друг к другу. Каждого внимательно осмотрели, и когда увидели грязных, оборванных, без штанов и обуви, то от души посмеялись над ними. В конце осмотра старший сержант согнал улыбку с лица и распорядился:
– Слушай мою команду! Первая шеренга нале– вторая напра-во! Прямо шагом марш в баню!
Команды выполнялись на удивление правильно и чётко. Хотя почему «на удивление»? Мы же все ещё в детстве в школе учились военному делу. Но в баню, кстати, мы попали не скоро. Пришлось возвращаться в город. Спускались по извилистой дороге, прошли по мосту над бурной горной рекой – притоком Куры. Пройдя метров сто по улице, повернули к небольшому двухэтажному зданию. Нас завели в довольно просторное помещение, в котором выстроили вдоль двух стен. Два солдата принесли по охапке холщовых мешков. Командиры приказали раздеться догола. Начали описывать одежду, обувь, головные уборы. Записали даже мой рюкзак. Всё это укладывали в мешки. У желающих отправить свои вещи домой брали домашние адреса. Я был среди них; у меня были новые, специально купленные для поездки в армию телогрейка, брюки и рюкзак. Забегая вперёд, скажу – вещи мои домой так и не вернулись, хотя и могли ещё пригодиться. Перед помывкой командиры также забрали ценные вещи: часы, кольца, деньги и тому подобное, записав у себя в блокноте, а после бани раздали обратно. У меня было немного денег – мне их потом вернули.
В этом же помещении солдаты, похожие на санитаров, постригли нас под машинку. Уже после стрижки отправляли непосредственно в «моечную часть» бани. И тут ждало последнее препятствие – у самой двери на волосяную часть лобка нам намазывали тестообразную серую вонючую массу и просили не смывать её в течение десяти минут.
Я впервые видел в бане душевые, и с удивлением смотрел, как вода сама лилась сверху на голову и тело. Правда, были тут и знакомые мне тазики. Когда мы помылись и отмыли «замазку» с наших лобков, то под ней не оказалось растительности – как будто бритвой сбрили, только кожа чуть порозовела.
После мытья нас голышом направили на второй этаж получать обмундирование. Оно было сложено стопками по размерам. Опытные «банщики» каждого направляли к определённым стопкам и просили примерить не торопясь. Вначале надевали нижнее бельё: кальсоны и рубашку из белого ситца. Затем брюки-галифе и гимнастёрку с зелёными погонами, ремень, шапку, кирзовые сапоги с фланелевыми портянками. Тех, кто не умел наматывать портянки, тут же учили. Затем каждому выдали вещмешок с куском мыла и полотенце.
Надев военную форму, мы очень изменились. Рассматривали себя в зеркало, глядели друг на друга и, «не узнавая», смеялись. Теперь все стали друг на друга похожими. По команде пошли вниз. На первом этаже постригали очередных голеньких новобранцев – значит, конвейер работал. Оно и понятно, нас привезли триста человек, сразу всех не помоешь и не переоденешь.
На улице нас построили в три колонны, каждую из которых возглавлял младший сержант. Общее руководство осуществлял сержант старший. Двинулись. Когда подошли к мосту, поступила команда «Вольно!», поскольку нельзя ходить по мосту «в ногу». Когда проходили мост, я смотрел не только в бурлящую воду, но и обозревал окрестности. Был уже вечер, около девяти часов. На берегу реки возвышалась огромная скала. Высотой она была, наверное, метров под сорок и тянулась влево от дороги на добрую сотню метров. На вершине этой скалы светили огнями какие-то строения, и выделялось одно высокое, огромное, тёмное, неосвещённое здание. Тут сержант снова начал отсчёт: «Раз, раз, раз-два-три!» – и мы снова стали подниматься по извилистой дороге к штабу. Навстречу нам попался ещё один строй только отправляющихся в баню новобранцев.
Мы дошли до ворот штаба. В этот раз нам их открыли, и мы строем вошли на территорию уже своей воинской части. Нас подвели к казарме, которая станет нашим домом на три учебных месяца. В казарму заводили по десять человек. Она представляла собой очень большое одноэтажное помещение, посередине в два ряда – двухэтажные нары. Казарма была рассчитана на роту солдат – около 120 человек. На нарах были уже заправлены постели. Каждому отделению (12 человек) были уже заранее определены места, среди них можно было выбрать то, которое тебе больше нравилось. Я облюбовал место на втором этаже нар. А когда я оглянулся назад, в большом окне увидел как на ладони светящийся огнями город и поблескивающую внизу реку. Получается, что мы попали в одно из тех зданий, которые светили на скале, когда мы проходили по мосту.
Перед сном нас сводили в столовую, которая находилась почти рядом с казармой. Столы были рассчитаны на шесть человек, на каждом стояла кастрюля с гречневой кашей, алюминиевые чашки стопкой, ложки – тоже алюминиевые, эмалированные кружки и металлический чайник с чаем. Каждому строго по кусочку хлеба. Мы расселись за столы в ожидании, когда нас обслужат. Подошедший сержант сказал:
– Накладывайте, наливайте сами в чашки и стаканы.
Кто-то спросил:
– А вдруг кому-нибудь не достанется?
– Тогда завтра он сам будет раздавать и себя, надеюсь, не обидит, – ответил сержант. Все засмеялись. У нас за столом нашёлся смельчак, который раздал всем практически поровну, всем хватило.
Наутро было первое пробуждение по армейской команде:
– Рота, подъём!
Поднимались по-разному: кто-то быстро, другие кое-как, а третьи вообще не проснулись. Командиру отделения пришлось будить их персонально. Засонь предупредили: в случае повторения они будут наказаны. Для меня утреннее пробуждение никогда не было проблемой, я встал одним из первых. Поступила команда строиться на физзарядку без шапки и ремня, но в гимнастёрке с расстёгнутым воротом. Зарядка оказалась довольно интенсивной: бег по кругу и общеразвивающие упражнения. Занятия вёл помощник командира взвода по фамилии Серин – красивый молодой старший сержант, взрослее нас, наверное, года на три, с приятным, звонким и певучим голосом. Команды он отдавал с весёлым настроением и улыбкой.
На улице стало светло, и я рассмотрел, где мы находимся. Оказались мы на территории средневековой, а может, и более древней военной крепости. По периметру высились полуразрушенные, но местами по-прежнему высокие крепостные стены с круглыми башнями, темнеющими бойницами на нескольких уровнях по кругу. Самая большая башня – высокая и широкая, квадратная внизу – имела большую арку, располагавшуюся над входом на территорию крепости. Скорее всего, здесь когда-то находились крепостные ворота. Эта башня тоже имела бойницы, но кроме них были и обычные окна. Все крепостные постройки были выполнены из камня.
Сам город Ахалцихе (в переводе на русский «Новая крепость») и бастион были заложены армянами ещё в двенадцатом веке. Ахалцихе хоть и находился на территории Грузии, но основным его населением были армяне. Город и крепость строились для защиты от внешних врагов, главным образом – от Османской империи. Турки были основными врагами армян и не давали им спокойно жить. В шестнадцатом веке город всё-таки был захвачен турками, и они владели им в течение двухсот пятидесяти лет. В 1829 году по итогам Адрианопольского мирного договора между Россией и Турцией Ахалцихе был присоединён к Грузии, находившейся в составе Российской империи. Крепость к тому времени была частично разрушена, и всерьёз её восстановлением никто не занимался. После Гражданской войны на территории крепости стал базироваться пограничный отряд, в котором мне и предстояло служить в течение трёх лет.
Пожалуй, хватит истории, теперь снова о прозе жизни. После физзарядки нас ввели в казарму и стали учить заправлять постели. Дело оказалось непростым, но вполне выполнимым. Тридцать постелей, находящихся в одном ряду, должны были быть заправлены одинаково и выровнены по шнуру.
После завтрака нашу роту выстроили на крепостной площади. Началось окончательное формирование отделений и взводов. Пришло ещё пополнение из грузин, примерно по пятнадцать человек на каждую роту. Их распределили по одному-два в каждое отделение. Затем стали вызывать новобранцев по фамилии и строить в одну шеренгу. В моё отделение попали двенадцать человек из Свердловского призыва и один грузин по фамилии Гелашвили. Это был маленький крепыш. Казалось, что рукава его гимнастёрки и штанины галифе вот-вот лопнут – настолько его мышцы были рельефны и накачаны. Нам представили командира отделения – младшего сержанта Петрунина. Мы его уже знали, он водил нас в баню и столовую вместе со всем взводом. Мне он сразу не понравился: неприятный взгляд выпученных глаз, на лице постоянная пренебрежительная ухмылка. Командир построил нас по ранжиру. Самым высоким из нас оказался Якушев, вторым – Максимов из Красноуральска, за ним Карманов из города Полевского. Я был четвёртым, а за мной стоял Иван Панин из Дегтярска и так далее до Ячменева – самого маленького по росту из уральцев, но единственного, как впоследствии выяснилось, женатого. Замыкал же строй грузинский крепыш.
В таком порядке мы в течение трёх месяцев ходили друг за другом «цугом». Таким же образом были сформированы ещё два отделения, которые вместе с нашим образовали один взвод. Тут я заметил в строю первого отделения своих Талицких земляков. Они стояли на разных «полюсах» – Молодцов первый, а Мосин – последний. Но я был доволен, что мы попали в один взвод.
Помкомвзвода дал команду:
– Смирно!
К вытянувшимся в струнку отделениям подошёл лейтенант и приветствовал:
– Здравствуйте, товарищи солдаты!
– Здравия желаем, товарищ лейтенант! – нестройно ответил хор голосов. Тем не менее командир браниться не стал, а представился:
– Лейтенант Иванов, ваш командир взвода, прошу любить и жаловать. – Он обошёл наш строй кругом, осмотрел своё «войско». Был он не богатырского телосложения, среднего роста, 25–27 лет от роду. Лицом симпатичен, но стремился придать ему суровость.
Все три взвода перестроили в одну колонну и дали команду: «Нале-во!» Ротой командовал старший лейтенант, и он предупредил:
– Сейчас подойдёт знакомиться с вами командир роты капитан Баранов, и вы ему должны дружно ответить: «Здравия желаем, товарищ капитан!»
Когда подошёл капитан, у нас всё получилось чётко и громко, как по нотам. Что значит – предупреждены! Капитан Баранов был высок ростом, строен, подтянут, со шрамом на лице и заметно искривлёнными губами. «Последствия ранения на фронте», – решил я. Ему было уже за тридцать, на вид он был очень строг. Вообще-то так оно и было. Однако, хотя все солдаты и даже сержанты его боялись, за весь учебный курс он никого не наказал и не обидел.
После обеда нам был положен час отдыха. Командир отделения приказным тоном сообщил:
– Вам нужно передать мне по пятнадцать рублей на «новогодние подарки».
Мы опешили. Я попробовал возразить:
– До нового года ещё два месяца!
– Вас не спрашивают, – отрезал он. Потом чуть смягчился: – Эти «подарки» вам понадобятся с сегодняшнего дня. У кого нет денег – удержат из месячного пособия, которое составляет 30 рублей. Магазин принадлежит нашей воинской части.
Младший сержант попросил одного солдата взять вещмешок и пойти с ним в магазин. Они ушли, а мы легли отдыхать. После подъёма увидели свои «подарки» – в бумажных пакетах были уложены необходимые солдатские принадлежности: три иголки, пара катушек ниток (белых и зелёных), три подворотничка, пластиковая дощечка, паста и щётка для чистки до блеска пуговиц и пряжки ремня. Ещё там обнаружилась зубная щётка и зубной порошок, сапожный крем и опять щётка. Вот и весь «подарок».
Первое, чему нас учили – чистить металлические пуговицы гимнастёрки. Пластиковая дощечка с круглым отверстием и узким продольным вырезом посередине нужна была, чтобы все пуговицы собрать вместе, и заодно предохраняла одежду от пасты и грязи при чистке. Тут же все впервые начистили свои пуговицы.
– Сапоги чистить будете не в казарме, а на улице или в туалетном помещении, где находятся умывальники и специальные скамеечки для чистки обуви, – сказал нам командир отделения. – Завтра утром проверю. А теперь будем учиться подшивать подворотнички. Взяли белые нитки, вдели в игольное ушко, приложили к вороту гимнастёрки с внутренней стороны и пришиваем так, чтобы он был виден вокруг, но выступал не более чем на два миллиметра.
Далеко не у всех это получилось сразу, и провозились мы с шитьём не менее получаса. После небольшого перерыва нас стали знакомить с воинскими званиями от рядового до маршала – по знакам различия на погонах. Вот такую науку нам преподали в первый же учебный день. Далее был ужин и свободный час, когда можно было погулять по территории учебной части или посидеть в казарме.
Перед сном вечерняя поверка, на которую пошли всем взводом под командованием помкомвзвода. Он повёл нас за пределы штабных ворот на широкую асфальтированную площадь, называемую учебным плацем. После переклички нас начали учить ходить строем, не мешая друг другу. После команды «Взвод, стой!» провели небольшое совещание по выбору запевалы. На вопрос командира, кто желает быть во взводе запевалой, ответом была тишина.
– Тогда скажите, кто хорошо поёт, – настаивал он.
– Молодцов, – произнесло чуть не хором несколько голосов из строя. Мой голос тоже прозвучал.
– Кто Молодцов? – спросил командир.
– Я, товарищ старший сержант, – ответил стоявший первым в строю мой земляк.
– Вы согласны быть запевалой?
– Согласен, но я не знаю строевых песен.
– Я вам дам сейчас несколько отпечатанных строевых песен. Вы должны выучить хотя бы одну, а завтра вечером споём.
Все, кто ехал в нашем вагоне, знали, как чудесно поёт Илья. Мы ещё разочек прошлись строевым шагом по плацу и вернулись в казарму. По команде «Рота, отбой» закончился наш первый день учёбы.








