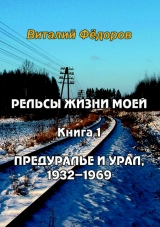
Текст книги "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969"
Автор книги: Виталий Федоров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 61 страниц)
Глава 20. ХОЧУ В ДЕТДОМ!
Мама же работала санитаркой в детском доме. Ходить ей на работу было не более полукилометра. Она быстро там освоилась и иногда брала с собой нашего младшенького Женьку. Ему там очень понравилось: «Там так вкусно кормят! Я хочу жить в детском доме». Одним словом, просился. И мы на семейном совете решили: если возьмут, то «отпустим». Благо детдом находился совсем рядом, мы могли видеть его в любое время, поговорить с ним, да и, возможно, взять его домой на некоторое время.
Мама посоветовалась с директором детдома, и он порекомендовал обратиться с заявлением в районную администрацию. Мы подали заявление и ждали решения несколько месяцев.
Весной мы переселились от Белоусовых в дом Поклевского. Он обычно пустовал, и только иногда в нём устраивала вечеринки молодёжь. Что удивительно, там всегда было чисто. Вероятно, кто-то наводил там порядок и закрывал двери. Стёкла на окнах были целые. Нам предложили устроиться на кухне, где была русская печь. Там было уютно и тепло. Кухня была просторная, и наша семья в ней свободно умещалась. Было единственное «но» – когда-то кто-то в кухне разводил кроликов, и запах их проживания сохранился, особенно на деревянном полу. А ведь у нас даже кроватей не было, и пол был для нас кроватью.
Место нашего проживания было «бойкое». Рядом была конюшня, а во дворе находился конный двор с телегами, санями и всяким другим инвентарём, а также «резиденция» бригадира, который давал с утра наряд своим подчинённым. Днём же деревенская детвора, в отсутствие взрослых, любила в этом дворе собираться и проводить свои детские игры. Рядом находилась река, куда можно было сходить искупаться.
Накануне мама получила пособие за погибшего мужа. После реформы рубль подорожал, и нам соответственно снизили размер пособия со 125 до 75 рублей. Дома был один Женька, все остальные были на работе. Даже девятилетняя Фая работала няней у зажиточных людей в Луговой. Женька наш, видимо, знал, где лежат деньги, взял их и раздал ребятам, которые играли во дворе нашего жилища. Самым старшим из них был четырнадцатилетний Генка Белоусов, крупный не по возрасту. Он взял у Женьки двадцать пять рублей. Оставшиеся пятьдесят Женька раздал ребятам помоложе Генки (но старше себя): кому по пятёрке, кому по десятке.
Я шёл домой с работы на перерыв, когда мне пацаны сказали, что Женька раздал деньги ребятам. Я зашёл домой и устроил ему допрос «с пристрастием». Он не сразу, но всё-таки рассказал, кому и сколько отдал денег. Я сразу кинулся искать этих мальчишек. Первым встретил Белоусова. Я сразу взял его за грудки и потребовал вернуть деньги. Он ответил, что потратил их в магазине. Я врезал ему по щеке, но он упорно повторял, что деньги израсходовал. Я врезал ему посерьёзнее – безрезультатно.
– Тогда пойдём домой, с твоей мамой разберёмся! – И я потащил его в сторону его дома. Но дома у него никого не оказалось. Я взял первое, что под руки попалось (а попались плоскогубцы) и забрал их с собой. Дальше пошёл по другим адресам, и все безропотно возвращали деньги. А один мальчик, которого Женька не назвал, так как не знал его имени, принёс деньги сам к нам домой тем же вечером.
На днях нам пришло сообщение из районной администрации, что нашего Женьку берут в Луговской детдом. Прошло четыре месяца, как мы туда обратились.
Женьку проводили. Он был радостный, нам же было грустно. Мы, взрослые, понимали, что такое расставание. Жизнь наша была трудна: не было своего постоянного жилья, не хватало еды. Молочные и мясные продукты нам приходилось покупать. Лишь в этом году мы получили участок под огород. Посадили в основном картошку. После ухода Женьки мы получили грустное облегчение – он под присмотром и сыт.
Я был два раза у него в детском доме. Он радовался, а ребятам хвалился, какой у него большой брат. Домой не просился, говорил, что ему здесь хорошо.
Но осенью случилось непредвиденное. Луговской детдом эвакуировали. Сказали, что в Талицу. Зимой я его там искал. Был в двух детских домах, но мне в обоих ответили, что в списках такой не значится.
Приходили страшные мысли о том, что его, может, уже нет в живых. Мама сильно расстраивалась. Так мы потеряли на довольно большое время «след» нашего Женьки.
Глава 21. УЧЁТЧИК
В этот сельскохозяйственный сезон меня повысили в должности, назначив учётчиком в тракторную бригаду. В мои обязанности входили учёт расхода горюче-смазочных материалов, замер обработанных земельных площадей и ежедневный отчёт по каждому трактору и трактористу, передаваемый на машинно-тракторную станцию (МТС).
Тракторист за смену при выполнении нормы и работе около 12 часов получал полтора трудодня. В случае недовыполнения или перевыполнения трудодень изменялся в сторону уменьшения или увеличения в процентном отношении. Всё это я должен был просчитывать в своём отчёте. За один трудодень тракторист получал три килограмма зерна и пять рублей денег, но зерно выдавали только в конце рабочего сезона. Обычные же, рядовые колхозники получали по остаточному принципу и по решению правления.
Моим основным орудием труда являлась сажень. Она была сделана из двух деревянных узких реек, немного различавшихся по длине, и соединённых между собой вверху шарниром. Чтобы переставлять заострённые концы сажени, использовалась небольшая ручка. Металлический стержень, расположенный на шарнире по горизонтали между «ногами» сажени, держал постоянное расстояние между её концами – 2 метра. Сажень была разборной и удобной в переноске или перевозке.
Поля в длину были от 200 метров до километра, и саженью приходилось немало помахать. Рабочий день у меня обычно проходил следующим образом. В полвосьмого я приходил в тракторную бригаду, замерял работу ночной смены, расход керосина. В восемь была пересменка. Я помогал заправлять трактора топливом и записывал данные. Шёл домой составлять отчёт о суточной работе бригады. Позавтракав, отправлялся в МТС сдавать отчёт. Несмотря на то, что до МТС было четыре километра, этот путь не был для меня обременительным. Сдав отчёт, возвращался домой, так как у меня всегда в середине дня была пара часов свободного времени. Это время я часто использовал для прослушивания радио-тарелки – нового для нас всех увлечения.
Наша тракторная бригада закончила весенне-полевые работы в колхозе раньше других, и МТС послала меня и Василия Комарова, сына нашего бухгалтера, на тракторе ХТЗ с плугом в отдалённый колхоз. Ехали мы в основном по Сибирскому тракту, описанному во многих книгах и даже показанному в фильмах.
Я не совсем понял, почему меня послали в эту командировку. Но на месте мне объяснили, что звонил директор МТС и просил передать, чтобы я вёл учёт работы всех тракторов, работающих в этом колхозе. Тракторов оказалось три. Я почти целый день находился на поле. Если своим трактористам я доверял, то незнакомых людей нужно было тщательно проверять. А вечером я должен был передавать все сведения по телефону. Вот это номер! Телефон я видел в первый раз. В конторе, где висел на стене телефонный аппарат, мне объяснили, как им пользоваться. Сначала нужно было довольно энергично крутить ручку, затем снять трубку и, получив «алло», просить «девушку» на телефонной станции соединить с МТС.
Первый мой отчёт принял главный агроном Чистяков. Я волновался (как-никак, впервые в жизни говорю по телефону), но он меня успокоил, и я нормально передал сводку. Этого человека я уважал, а он относился ко мне, как к сыну. Когда я приносил отчёт, он всегда приглашал меня в кабинет и иногда угощал чаем со вкусным печеньем. На другой вечер трубку взял сам директор, и я почему-то онемел. Он закричал: «Что молчишь?!» – и я с дрожью в голосе передал сводку «с поля битвы за урожай».
Днями Василий учил меня управлять трактором, и за неделю я научился довольно прилично пахать. Иногда Василий отдыхал или прогуливался с девушками, а я работал вместо него. Через неделю мы закончили шефство и вернулись домой.
У нас в деревне телефона не было даже в конторе. Кому нужно было позвонить, шли в сельсовет в деревню Луговую. Я в командировке кое-как освоился с телефоном и позже стал ходить в Луговую для передачи сводок об уборке урожая и осенне-полевых работах. Когда же работали вблизи МТС, то с отчётом ходил туда.
После уборки урожая двоих наших трактористов забрали в Советскую Армию. Один трактор «Универсал» остался «бесхозным», а нужно было готовить зябь для весеннего сева следующего года. У меня же работы заметно уменьшилось, сводки можно было передавать через день. Мне уже исполнилось 16 лет, и я считал себя взрослым. Бригадира в тракторной бригаде не было. Им числился комбайнёр Новиков, житель Луговой. После уборки урожая он отдыхал и у нас в бригаде не появлялся.
Утром, когда один из тракторов ушёл в поле, я завёл «Универсал», подъехал к плугу и прицепил его. Затем поехал на поле, где уже работал один трактор. Но я порулил не к нему, а на другую сторону этого большого поля, которое разделялось небольшим рядком деревьев (у нас их называли колком). Вот за этим колком у самой железной дороги я и решил поработать, да ещё без прицепщика. Поле было длинным и включать-выключать плуг из работы приходилось лишь на разворотах. Я с этим кое-как справлялся. Таким образом сделал круга три. Подъехав в очередной раз к мосту через железную дорогу, я увидел какого-то парня, машущего мне рукой. Я остановился. Он подошёл; парень оказался рыжим, долговязым, чуть моложе меня. Я спросил:
– Что ты хотел от меня?
– Я хочу работать в будущем трактористом. А сейчас, если разрешите, с вами поездить. Я тут рядом живу, услышал работу трактора и пришёл.
Деревня Луговая действительно начиналась за бывшим детдомом.
– Ладно, садись, – разрешил я. – Потом поговорим.
И мы поехали пахать. Я тут же придумал, как использовать добровольного помощника:
– У меня нет прицепщика, и ты побудешь немного им. Как только мы доедем до края поля, перед поворотом ты резко дёрнешь за эту верёвку, и у плуга поднимутся лемеха. После поворота и заезда в борозду дёрнешь снова, лемеха опустятся, и плуг начнёт пахать.
– Понял, – сообщил парень. – Сделаю.
И действительно, он довольно чётко справлялся с заданием. Часа два мы поработали с ним вместе. Наконец, он сказал:
– Мне нужно домой. Я маме не сказал, куда пошёл.
– Спасибо за помощь, – поблагодарил я. – Если захочешь, приходи завтра к девяти часам. Я дам тебе порулить.
– Обязательно приду, – с радостью ответил он.
Я посчитал, что на первый раз работать хватит и поехал к вагончику. Там поставил трактор с плугом на удобное место и заглушил двигатель. У вагончика никого не было, и я зашёл внутрь, лёг на соломенный матрас и заснул. Через пару часов проснулся и отправился в МТС сдавать сводку. К тому времени, как я вернулся, дневная смена уже закончила работу. Произвёл замеры и домой.
Наутро я подъехал к нашей вспаханной полосе. А «рыжик» уже там.
– Как тебя зовут, парень? – спросил я. Вчера, увлёкшись работой, даже не подумал об этом поинтересоваться. – Меня Витя.
– А меня Павлик. Вот и познакомились.
В этот день Павлик начал исправно выполнять обязанности прицепщика. Но я обещал ему дать поуправлять трактором. Вначале на ходу объяснил, что главное – не выезжать из борозды, и как этого добиться. Затем я пустил его за руль, но только на прямой, не доверяя делать разворот – а то ещё ударится в дерево. Проехав так ещё раз, я сказал, что если он желает поработать прицепщиком ещё пару часиков, то пусть остаётся, а если ему надо домой, то я его отпускаю. Он остался. В этот день мы с Павлом вспахали около гектара земли. Затем он ушёл, а я поехал на полевой стан.
На следующий день Павлику захотелось испытать что-нибудь новое. Когда я заглушил трактор, он попросил разрешения попробовать завести мотор. Я разрешил. Он пытался крутить заводную рукоятку, но у него плохо получалось. Он вращал слабо и неуверенно; произошла обратная отдача, и он отпустил рукоятку, которая и ударила его по руке. Павлик заплакал от боли и, поддерживая правую руку левой, сразу побежал домой, благо тот был недалеко. Я не знал, что с его рукой – перелом или сильный ушиб.
Его мама была дома и отвела его к местному фельдшеру, а тот направил в Талицкую больницу. Павликова мама пришла ко мне на работу и отчитала «по первое число». Благо, что никуда не пожаловалась. До её прихода я успел сделать по полю три круга, но после «разговора» у меня пропало всякое желание работать. Дело-то серьёзное: не имея прав на работу на тракторе и без чьего-либо разрешения, я не только стал на нём пахать, но ещё и привлёк к работе постороннего мальчишку и покалечил ему руку. Но всё обошлось. Я никому о случившемся не рассказал, но и к трактору больше не касался до следующей весны. Павлик три недельки «пробегал» с рукой в гипсе. Она нормально срослась. И после он с улыбкой вспоминал об этом случае.
В октябре трактора в МТС отогнали без моего участия. За работу учётчиком я получил 150 кг зерна и 300 рублей. Нашей семье этого хлеба было достаточно почти на год.
Закончив работу учётчика, я превратился в разнорабочего – куда пошлют. Ни каникул, ни отпусков, ни выходных в то время колхозники не имели. Как-то раз я решил не ходить на работу, устроив себе выходной. Так меня наказали за прогул! Вывесили в «нарядной» выписку из приказа: «Лишить Фёдорова Виталия трёх трудодней!» Я не очень-то и расстроился, так как по этим трудодням платили крохи.
* * *
Начало 1949 года ознаменовалось второй командировкой в моей жизни. В зимний период жителей деревни, в основном молодёжь, направляли на работу в Талицкий леспромхоз. Мне тоже пришлось участвовать, только не в роли лесоруба, а конюха. Из нашей деревни в леспромхоз послали две повозки и нас, троих недорослей: семнадцатилетнего Анатолия Конева, работавшего на Савраске, моего одногодка Бориса Черепанова – на Чалко, и вашего покорного слугу. Толик и Боря вывозили из леса брёвна, приготовленные лесорубами, к автодороге для погрузки на лесовозы. Моей же обязанностью был уход за лошадьми в нерабочее время, то есть ночью.
Жили мы в Талице в довольно большом доме у вдовы с двумя детьми. Спали на полатях, а хозяйка с детьми в другой комнате. Пищу нам готовила наша квартирная хозяйка. Продукты ей выдавали в леспромхозе, так что с питанием у нас проблем не было. А для коней выдали мешок овса и прессованное сено в тюках по 100 кг. В общем, лошади тоже от голода не страдали, а я уж старался их кормить, поить. Ночью вставал 2-3 раза, подсыпал овса, подкладывал сена, дважды поил, доставая воду из колодца. Всё сразу с вечера им давать нельзя – порассыплют, потопчут и к утру окажутся голодными. Стойло для коней было довольно просторное и относительно тёплое.
Днём я отсыпался или гулял по одноэтажному городу. Кстати, в этот приезд в Талицу я и искал своего семилетнего братика в детских домах города. Увы, безуспешно.
Однажды увидел солидный дом с высоким забором и красивой калиткой. А рядом с калиткой висел синий почтовый ящик с надписью, сделанной белой краской: «Почта». Я решил, что это почтовое отделение. И на другой день написал письмо одной девушке из нашей деревни по фамилии Волчихина и опустил письмо в этот красивый ящик. Проходя по городку в другие дни, я обратил внимание, что подобные почтовые ящики имеются и у менее солидных домов. Меня осенило, что никакое это было не почтовое отделение, а письмо я опустил в частный ящик!
Никто из нашей троицы не курил и не брал в рот спиртного. Но вот Толик захандрил и два дня не выезжал на работу. Ему тут же пришла повестка в суд. В назначенный день он туда отправился, и я пошёл сопровождать товарища. Впервые увидел, что такое «суд». Очередь Толика была третьей.
Первым судили рецидивиста, который был в бегах. Он рассказал, как сбежал из лагеря, прицепившись под кузов грузовой машины. Срок у него был десять лет, из них он отсидел три с половиной и сбежал. Попался повторно на воровстве из детского дома одеял, простынь и другого имущества. С одеждой и постельным бельём в те годы было туго, и продать его можно было легко, на что, видимо, он и надеялся. Суд ему дал 21 год 6 месяцев при максимально возможном 25 лет.
Суд над Толей прошёл довольно быстро. Когда его спросили о причине прогулов, он ответил:
– Был болен.
– А есть справка от врача?
– Я в больницу не ходил.
Во все времена получалось так, что «без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек». Я пытался со зрительского места сказать, что он действительно болел, но меня не стали слушать, пригрозив выставить из зала. А ведь он действительно два дня с полатей не слезал, кроме разве что поесть. Суд вынес решение: два года принудительных работ с вычетом из заработка 20 процентов в пользу государства.
* * *
Примерно в эту же пору на лесоповале произошёл несчастный случай с девушкой Таисией из нашей деревни. В то злополучное утро они ещё в потёмках ехали на работу в кузове грузовика. Зимняя дорога была узкой, и два встречных грузовых автомобиля не смогли разъехаться и ударились боковыми бортами. Таисия сидела как раз у борта, который от удара сломался и открылся, а девушка вылетела из кузова и получила перелом позвоночника. Целый год она пролежала в гипсе. Так на минорной ноте мы закончили «эпопею лесоповал».
Кстати, Таисия потом, после больницы стала ходить нормально и даже начала понемногу работать на легких работах.
Глава 22. НА ТРАКТОРА!
После работы в леспромхозе меня направили в МТС на курсы трактористов. Вместе со мной туда отправились Сашка Нехорошков и Феоктист Язовских, которого я видел в первый раз. Видимо, кто-то из наших жителей во время работы в леспромхозе сагитировал его приехать к нам вместе с семьёй. Язовских раньше жили в Талице, Феоктист и его мать там работали в леспромхозе. У Тисо, как мы звали его сокращённо, была сестра Зина и младший брат Вова. Тисо был толковый, обстоятельный, не по годам спокойный парень. А Сашка Нехорошков был недалёк умом, но любил прифрантиться. Оба они были немного старше меня и крупнее.
На курсах у нас было два предмета. Агрономию (полеводство) преподавал нам агроном МТС Чистяков. Вторым и главным предметом был «Устройство, эксплуатация и ремонт тракторов». Его вёл бригадир-практик с четырёхлетним образованием из села Горбуново. Кстати, фамилия его тоже была Горбунов. У него была простая манера общения со своими учениками. Например, рассказывая про работу магнето и объясняя, как взаимодействуют северный и южный полюса постоянного магнита, он пояснял, что они притягиваются друг к другу как мужчины и женщины.
– Поняли?
– Да, – отвечали мы. Половина из учеников, собранных со всего района, были несовершеннолетними и едва ли притягивались к женщинам или притягивали их к себе. Я в том числе. Но, тем не менее, метафора была доходчивой.
Мы ходили в МТС ежедневно, кроме воскресенья. На курсах была и практика в ремонтных мастерских. Там мы изучали материальную часть.
Я постепенно сдружился с Феоктистом. Жили они в доме бывшего председателя Конева, осуждённого за антисоветчину (его жена и дочь тоже покинули этот дом). Я часто бывал у Тисо дома. У него было ружьё с патронами, возможно, наследство отца. Был у него ещё наган – где-то нашёл, вполне исправный. Но к нему патронов не было. Мы иногда мечтали, что если бы найти патроны, то можно было бы с движущегося трактора палить по воронам, которые стаями слетались на свежевспаханную землю поклевать червячков. Конечно, это была дурацкая идея, которую мы и не пытались воплотить в жизнь.
Мы проучились два с половиной месяца, сдали экзамены и получили права трактористов. Через неделю после экзаменов нас всех вызвали в МТС принимать трактора и инвентарь. К тому времени не осталось ни одного тракториста, работавшего в прошлом году. Двоих призвали в армию. Один пошёл «на повышение» – стал секретарём партийной организации. Последним был Юрий Конев, сын бригадира полеводческой бригады. Про него я хотел бы рассказать подробнее, сделав небольшое отступление в предыдущий год.
* * *
Юра Конев дружил с Васей Комаровым, они работали всегда в одну смену. Я знал Юру как хорошего парня, работал с ним около семи месяцев в одной тракторной бригаде – я учётчиком, он трактористом. Они с Васей про меня даже частушку сочинили: «Утром, вечером и днём Витька Фёдоров придёт…» Остальные куплеты не помню. Как-то раз я немного опоздал, и они встретили меня в лесу, уже возвращаясь с поля. Мне же нужно было замерять сделанную ими работу и расход горючего. Они были веселы, приветствовали меня частушкой и сказали: «Завтра замеряешь, пошли домой!»
Коневы жили за глухим забором, двор был полностью скрыт от посторонних глаз. Что там творилось, никто не знал. Они были не то староверы, не то старообрядцы. Помню, что Андрей Конев – отец Юрия – произносил имена на свой лад, например, меня звал Витьша, Толю – Тольша, Петю – Петьша.
Однажды я вдруг услышал на улице крики, шум – и это в деревне, где всегда было спокойно! Я полюбопытствовал, что же там случилось. Глянул в окно, ничего не разглядел. Вышел на улицу – через дом от нас толпится народ. Подошёл поближе и увидел, как Юрий Конев, обнажённый выше пояса, отбивается от наседавших на него его же родителей. Время было холодное, октябрь, но снег пока не выпал. Юра держал в руках жердину и размахивал ею во все стороны. Он был в бешенстве, грозя пришибить любого, кто к нему подойдёт. А родители, не уступая ему в жестокости, швыряли в него всем, что попадало под руку: кирпичи, камни, палки – всё летело в его бренное обнажённое тело. Родная мать нашла в куче мусора ржавое ведро без дна и запустила сыну в голую спину; у того потекла кровь. Зрителями этого избиения были в основном женщины и дети. А если кто пытался урезонить разбушевавшихся, то им тут же грозили: «Не мешать, а то тоже получите!»
Я не мог смотреть на это зверство и побежал позвать мужиков из конторы. Когда пришёл Комаров-старший и Исакин, пыл у вояк внезапно пропал.
Что же случилось в этот раз? Видимо, крупная ссора родителей с сыном, да ещё в нетрезвом виде. Ссора перешла в драку, от которой Юра пытался уклониться, убежав из дома, но отец догнал его уже через пять домов, где я и увидел эту описанную выше жуткую сцену.
Потом некоторое время в их семье всё было спокойно, во всяком случае внешне. Юра летом женился, а в армию его не взяли по состоянию здоровья. Он поступил учиться на комбайнёра в Камышлове и там через неделю … умер. Говорили, что остановилось сердце.
После смерти сына Андрей ушёл с должности бригадира. Они с женой старались не попадаться на глаза людям. И у них ещё остался младший сын десяти лет.
* * *
Возвращаюсь к хронологическому повествованию, в весну 1949, когда новоиспечённых трактористов вызвали в МТС принимать трактора. Бригадиром к нам в бригаду назначили снова комбайнёра Новикова. Он и распределил трактора. Мне и Сашке Нехорошкову достался «Универсал», а Тисо и недавно приехавшей в колхоз опытной трактористке – «ХТЗ», более мощный трактор. Трактористка приехала лишь этой весной с двумя детьми. Её поселили в дом Поклевского, через стенку от нас.
Мы получили в МТС свои трактора и инвентарь. Самым волнительным было их завести в первый раз и пригнать в деревню. А как только просохла земля, мы выехали в поле. Работали мы по пятидневному циклу – один пять ночей подряд, другой пять дней плюс ещё одна ночь. После последней, суточной смены, был выходной, а затем мы менялись сменами.
После первой недели работы произошла первая поломка. У нашего трактора переломился двуплечий рычаг, поддерживающий балку передней оси. На пересменке мы его сняли. Сашка работал в ночную смену, и поломка произошла у него. Но в МТС бригадир послал меня, так как это была уже моя дневная смена. Я взвалил на плечо нелёгкий рычаг и отправился пешком в МТС, до которой было пять километров. Добравшись до места, нашёл механика Шевелева, здоровенного мужика, «морда кирпича просит». Он сразу на меня накинулся:
– Как сломал?!
– Я не ломал, это случилось у ночной смены, – начал оправдываться я.
– Раз ты принёс, ты и виноват! – вынес вердикт механик. Я пытался ещё раз возразить, но он рявкнул: – Ремонт за твой счёт!
Это он орал на щуплого шестнадцатилетнего парнишку. Между тем сварщик за несколько минут заварил место облома и обточил на наждачном станке. Я принёс рычаг к трактору, поставил на место. Несколько часов проработал, и пришла смена. Сашка, как ни в чём не бывало, чистенький, сел за руль и покатил.
Как-то Сашка приехал на тракторе в деревню и решил покатать детвору и девчат. И понесло же его по узкой дороге, где справа находился забор огорода, а слева – десятиметровый обрыв в реку. В этом месте река делала поворот и каждый год, особенно в половодье, размывала берег. По этой дороге ездили только на лошадях. Повозки пройти могли, но не трактор. Я в тот вечер был дома. Ко мне прибежали мальчишки и сразу выпалили:
– Сашка только что трактор чуть в реку не уронил, а сам с перепугу убежал!
– Сейчас приду, – ответил я. – Вы только не лезьте на трактор, а то вместе с ним упадёте.
Ребята убежали, а я отправился к месту происшествия и увидел такую картину: мотор у трактора работает, а переднее левое колесо висит над обрывом в полуметре от края. Кажется, чуть толкни трактор влево, и он опрокинется, полетит кубарем в реку. Но задние колёса стояли на ровном месте довольно устойчиво. Я, не раздумывая, сел за управление. Включил заднюю передачу и тихонечко выехал из опасного места. Зевак было много, я услышал восторженные возгласы, но меня это мало интересовало. Сашка так и не появился, и мне пришлось поставить трактор возле дома, где мы тогда жили.
А жить мы стали в доме, где находилась контора колхоза, во второй её половине. Там была русская печь и большой зал, в котором показывали кинофильмы. Туда приходила почти вся деревня, и нам приходилось делиться жилплощадью со зрителями. Публика нам не особенно досаждала, поскольку кино показывали редко, раз в месяц-два. Из таких коллективных просмотров того времени мне особенно запомнился фильм «Чапаев».








