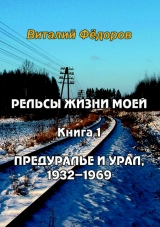
Текст книги "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969"
Автор книги: Виталий Федоров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 61 страниц)
Глава 121. РАЗВОД
В марте 1960 года я обратился к адвокату и задал вопрос о том, что нужно сделать для официального развода с женой. Вкратце обрисовал ситуацию.
– А сколько времени вы не живёте вместе? – уточнил адвокат.
– Более четырёх лет.
– Давно нужно было подавать на развод через суд.
– Она грозилась, что не даст развода, – объяснил я.
– А представьте, что за эти годы она могла родить ещё ребёнка, а то и двух, от другого мужчины, и вы бы стали платить алименты на всех детей, включая чужих.
Он попросил меня кратко рассказать о конфликтных ситуациях, а затем составил, написал и переслал в народный суд города Горького заявление о разводе.
Спустя две недели мне пришло извещение о необходимости прибыть в Горький на суд по указанному адресу. Я приехал за день до суда и сразу зашёл к Лене. Она оказалась дома, а дочь была в детском садике. Я попросил её дать согласие на развод.
– Ты, наверное, решил жениться, – сразу определила она.
– Да, пора уже.
– Покажи хоть фото твоей девушки.
Я достал Раину фотографию и дал Лене. По своему обыкновению она тут же занялась физиономистикой, вслух пытаясь охарактеризовать совершенно незнакомого человека по изображению. Я прервал её измышления и попросил вернуть фотографию. Она нехотя отдала.
– Так что, могу я надеяться на развод? – уточнил я.
– Не надейся и не жди, – отрезала Лена.
– Тогда до свидания. Увидимся завтра на суде.
Я пошёл в гостиницу, но свободных мест там не было. Мне порекомендовали частную квартиру недалеко от гостиницы.
Видимо, недостатка в клиентах частный «постоялый двор» не испытывал. В комнате было четыре койки, три из которых были уже заняты. Мне предложили четвёртую. Деваться было некуда, поэтому я согласился. Хозяйка принесла чистое постельное бельё.
Наутро к указанному времени я пришёл в районный суд. Меня и Лену пригласили в небольшой кабинет. Судьёй оказалась женщина средних лет. Сначала она пыталась нас примирить, но я был непреклонен и настаивал на разводе. Тогда судья спросила у Лены:
– А вы согласны дать ему развод?
– Нет, никогда, – ответила та.
– Что ж, – констатировала судья, – поскольку стороны не пришли к примирению, я вынуждена передать дело в областной суд.
Я уехал обратно в Асбест. Уже в мае я получил новое судебное извещение. Здесь хотел бы заметить, что хотя Рая, конечно, была на моей стороне в этом деле, никакой трагедии в случае, если я не получу развод, она не видела и к разводу меня не принуждала.
В Горький я вновь приехал накануне суда. В этот раз места́ в гостинице (которая находилась, можно сказать, в центре города) были, и я устроился там. Под вечер пошёл прогуляться по городу. Оказался рядом с Нижегородским кремлём. Зашёл на его территорию через главный вход. Оказался за крепостными стенами и башнями, походил по территории кремля. Несмотря на то, что в 1960 году Нижегородский кремль был взят под государственную охрану как исторический и архитектурный памятник, никакой охраны ни на входе, ни внутри не было.
Из кремля спустился к Волге, к месту слияния её с Окой. Посидел на высоком берегу Волги, полюбовался её могуществом и красотой. Правда, мысли о завтрашних делах мешали в полной мере насладиться прекрасным видом.
Переночевав в гостинице и позавтракав в гостиничном ресторане, я отправился в Народный суд. В коридоре увидел Лену. Подошёл к ней, поздоровался, спросил, как здоровье Галинки.
– Нормальное, – ответила Лена. – Она сейчас в садике. Кстати, ты не хочешь погулять с ней вечером после суда?
– Посмотрим, как дело обернётся, – ответил я.
Нас вызвали в зал суда. Я обратил внимание, что там было несколько десятков зевак, а затем посмотрел на членов суда. Три женщины восседали на высоких стульях с резными спинками (у среднего стула спинка была самая высокая). Как я понял, в центре сидела судья, а по бокам – народные заседатели, выбираемые из среды рабочих. Эта троица должна была решить мою дальнейшую судьбу.
Первой к трибуне вызвали Лену. Она меня характеризовала в чёрных тонах, рассказывая, что было и чего не было. Судья спросила:
– Елена Матвеевна, судя по вашим словам, ваш муж – плохой человек. Так вы согласны дать развод?
– Нет, ни в коем случае.
– Тогда вы готовы жить с ним?
– Да, только ради дочери, чтобы у неё был отец.
– Садитесь, ваша позиция ясна.
К трибуне вызвали меня. Я рассказал о встрече с Леной и женитьбе на ней. Сказал, что хозяйка она никакая, зато частенько капризничала. Мне стали задавать вопросы.
– Платите ли вы алименты дочери?
– Да, буду платить до её совершеннолетия.
– Не совсем ясно, почему вы подали на развод.
– Я не живу с ней уже больше четырёх лет. А так могу ещё нажить себе неприятностей.
Я не стал говорить, что собираюсь жениться – Лена услужливо сообщила об этом суду в своём выступлении.
– И всё-таки?..
«Опять двадцать пять, – подумал я про себя. – Что же ещё такое нужно сказать этим женщинам, наделённым властью решать мою судьбу, чтобы они меня поняли?» И уже в отчаянии воскликнул:
– Да не люблю я её!!!
Видимо, это эмоциональное выражение растопило сердца женщин, сидящих на «тронных стульях». Судья сказала:
– Всё ясно.
Они встали и пошли писать решение суда, предварительно спросив у Лены, какую фамилию хочет иметь после развода.
– Фёдорова, – ответила она сквозь стиснутые зубы.
Я был не против – пусть у дочери будет моя фамилия. Вскоре судья вернулась и зачитала решение. Суд решил нас развести. Мне присудили оплатить госпошлину (или судебные издержки – в подробности я не вникал).
– Вы свободны, Елена Матвеевна, – объявила судья. – А вы, Виталий Николаевич, должны заплатить пятьсот рублей и предъявить квитанцию в бухгалтерию суда.
Ещё будучи в Асбесте, я спросил у адвоката, во сколько мне обойдётся развод. «От пятисот до полутора тысяч», – ответил он. Я прикинул, что если придётся платить по максимуму, то это почти десять моих зарплат – большая сумма. Оглашённая судьёй сумма «всего» в пятьсот рублей показалась мне хорошим знаком.
Когда мы вышли из здания суда на улицу, Лена шла впереди меня, понурив голову и не оглядываясь. У меня мелькнуло чувство жалости к ней. А потом мы молча разошлись по разным сторонам навсегда.
Я заплатил деньги в сберкассе и отнёс квитанцию в суд. Собрал вещички, рассчитался с гостиницей и поехал на железнодорожный вокзал.
Уже в пути, лёжа на полке, под перестук колёс я стал мечтать о свадьбе. В голове сами собой родились несколько строк стихотворения. Им не хватало рифмы, стихотворный размер тоже подкачал, но зато они были искренними:
Мы с тобою, Рая, дожили
До поры, загаданной ночью при луне.
И зимой, и летом думал я об этом,
Думал я о свадебном, о желанном дне.
Приехав домой (Асбест теперь уже стал моим домом), я первым делом зашёл к Рае. И с порога стал декламировать свой неказистый стишок. Она поняла, что я теперь свободный человек. И готов снова «потерять свободу». Рая не умеет восторгаться, прыгать до потолка – темперамент у неё далеко не холерический. Она, конечно, была рада, но восприняла всё как должное.
– Я знала, что так будет, – сказала с лёгкой полуулыбкой.
Подробный разговор о будущей свадьбе отложили на следующий выходной. Я вернулся в общежитие, чтобы отдохнуть после дороги и приготовиться к работе.
Глава 122. НЕМНОГО О РАБОТЕ
Ещё в июле 1958 года вышло постановление Совмина, предусматривавшее перевод всех асбестовых рудников с узкой колеи (1000 мм) на широкую (1522 мм). На нашем руднике первые шаги к этому были сделаны в следующем году – начали прокладывать новые пути параллельно узкоколейным. Вскоре из Чехословакии стали поступать новые мощные электровозы 21Е, изготовленные на заводе «Шкода». Это были шестиосные локомотивы с тремя двухосными тележками, соединёнными подвижными креплениями. Над средней тележкой находилась кабина машиниста с двумя пультами управления, на крыше кабины установлены токоприёмники. Нагрузка на одну ось составляла 25 тонн, общий вес электровоза – 150 тонн.
Один такой электровоз уже «катался» по вновь построенным путям от борта карьера до отвала. Вывозил породу, которую грузил экскаватор, копающий траншею для укладки новых путей в карьер. На 21Е работали по двое – машинист и помощник. Во время перехода на новую технику трудовая деятельность не останавливалась ни на один день. Работали фабрики обогащения, и мы, как и прежде, возили руду и пустую породу.
Однажды днём я вёл поезд, спускался порожняком в карьер. Меня окликнули с нового электровоза, предложив остановиться и зайти в ним в кабину. Я остановился на спуске. Тормоза вагонов отпустил, надеясь, что электровоз удержит порожние вагоны.
Я перешёл глубокую и широкую траншею, вскарабкался наверх – к электровозу, с которого меня позвали. Поднялся в кабину. Внутри были машинист Сутормин, житель посёлка Черемша (я его раньше встречал, но общаться не доводилось), и его помощник, бывший слесарь ПТО Толя Дозмаров. Я поздоровался и спросил, что мне хотели показать.
– А вот что, – хитро подмигнул Толик и показал мне чайник и кружку.
– Что это?
– Пиво, выпей кружечку.
После первого рейса, заключив, что уже достаточно поработали, они решили побаловаться пивком. Я отказался:
– Спасибо, но я на работе ничего крепче воды не пью.
Тут я взглянул на свой поезд, который должен был мирно стоять и ждать меня. Но что такое? Он, к моему ужасу, начал двигаться вниз, в карьер. Я мгновенно спрыгнул с чужого электровоза и понёсся вниз в траншею. Спуск мне дался легко, а вот на втором борту траншеи мне пришлось преодолеть препятствие в виде рельса, под которым в середине было небольшое пространство – через него я и прошмыгнул.
Со всех ног я погнался за движущимся поездом, догнал его и, пытаясь отдышаться, заскочил в кабину. Останавливаться не стал, а прибавил скорости и спустился в карьер, где меня уже ждал зелёный огонёк светофора.
Позже я специально подходил к этому месту, где проскочил под рельсом, и сам себе удивлялся – как же я смог протиснуться, да ещё так быстро вверх через такое маленькое пространство? Значит, и вправду верна теория, что в критической ситуации у некоторых людей появляются дополнительные силы и скорость, которые в обычной жизни человек не использует, держит в запасе.
Однажды мы с Раей стали свидетелями ещё одного случая, подтверждавшего эту теорию. Девочка лет восьми гуляла в негустом лесу около города. Нам с улицы Лесной было её хорошо видно. И тут вдруг на девочку с лаем накинулась собака. С перепугу девочка так припустила бежать, что сперва бросившаяся за ней собака скоро стала отставать, а затем и вовсе повернула назад. Нам показалось, что с такой скоростью не бегают даже спортсмены-легкоатлеты, не то что восьмилетние дети.
А причину, по которой мой электровоз самопроизвольно начал движение, я установил в ту же смену. Виновником оказался один из тормозных цилиндров, который стал пропускать сжатый воздух. Подобные неполадки стали происходить всё чаще и чаще, поскольку в связи с поступлением новых электровозов старые стало некому ремонтировать. Слесарей перевели в новое депо, а узкоколейные электровозы просто «добивали».
Глава 123. СВАДЬБА
На «семейном совете» мы постановили устроить свадьбу 11 июня 1960 года. Но официальную регистрацию брака решили отложить до лучших времён. Мы с Раей заранее сняли комнату в частном доме у бездетной четы среднего возраста. Там мы будем жить до получения своего жилья.
Я поехал в Свердловск, где купил Рае свадебное платье. Оно подошло, и моя невеста в нём была очень красивой. О предстоящей свадьбе я сообщил своим родственникам и пригласил их на наше торжество. Приехала моя мама с Иваном Гавриловичем, сестра Вера с мужем Николаем. Фаина где-то путешествовала и приехать не смогла. Не было и брата Жени – после окончания ремесленного училища его направили работать токарем в какой-то закрытый город в Невьянском районе, и, наверное, не отпустили с работы.

С Раиной стороны на свадьбу была приглашена ближайшая родня: мама, брат Иван, сестра Антонина с мужем Николаем, а также ближайшие друзья-соседи Морозовых – Белобородовы: тётя Маруся (добрейшая женщина!) и её муж Трофим Фёдорович. Их я тоже знал хорошо. За неимением своих детей они любили и баловали Раю с самого детства.
Я ещё пригласил своего бывшего однокашника по Свердловской школе машинистов, весёлого, разбитного парня – Юру Шереметьева. Он прекрасно играл на гармошке, пел и танцевал. Пришёл он со своей женой, спокойной, независимой молодой особой.
Торжество было решено организовать на квартире у Морозовых – у них был довольно просторный зал. По обычаю, мои родители должны были сосватать мне невесту у её родителей. За дело взялся отчим, но Анна Николаевна никак не хотела разговаривать, ссылаясь на дела, коих у неё, действительно, было невпроворот. Пришлось ему перенести разговор на кухню, где им между делом удалось поговорить и соблюсти традицию.
Перед началом торжества мы с Николаем Васильевым пошли на промысел – добыть цветов сирени, которая на Урале зацвела только на днях. Наломали веток целую охапку. А брали их на частных приусадебных участках. К счастью, никто наши проделки не заметил. Но когда мы вернулись, нас укорили: «А если бы вы попались и вместо свадебного стола оказались в кутузке?»
Свадьба благоухала запахом сирени. На столах стояли бутылки с шампанским, вином, водкой. Однако основным напитком, которого было почти неограниченное количество, была уральская бражка, которая пьянит и хорошо утоляет жажду.
Жениха и невесту (то есть меня и Раю) посадили на центральное почётное место. Начиная с первого бокала шампанского, нам приходилось вставать и целоваться под хоровое сопровождение: «Горько, горько, горько!». Мы не обижали гостей и старались изо всех сил – целоваться было радостно и приятно, а вовсе не горько.
После застолья Юра Шереметьев первым пустился в пляс, умудряясь одновременно играть на гармошке. Так он заводил остальных гостей. Танцевали, плясали все, кто хотел и мог. Мы же вели себя сдержанно, пристойно, лишь станцевали несколько раз. Особенно веселилась Тоня – её темперамент совсем не отличался излишней скромностью. Гости много пели под сопровождение гармони. Примерно в час ночи «молодых» отправили на первый этаж в квартиру Белобородовых, где специально для нас была приготовлена постель для первой брачной ночи.
Мы проснулись утром, привели себя в порядок и поднялись на второй этаж. Там уже все были в сборе. Ко мне подошла тётя Маруся, отозвала в сторонку и тихо, но чётко сказала:
– По обычаю, если невеста была девственницей, то жених должен поблагодарить при всех мать невесты за хорошее воспитание дочери.
– Хорошо, будет сделано.
Мне никогда раньше не приходилось выступать перед аудиторией с подобными заявлениями. Но делать было нечего, и я с некоторым смущением произнёс:
– Анна Николаевна, благодарю вас за хорошее воспитание дочери Раи.
Все, кто понял смысл моих слов, зааплодировали. А чему радовались-то? Видимо, тому, что девушка стала женщиной. А вот сам обычай подобного «благодарения» был мне не совсем понятен. Может, это пошло откуда-то из Сибири, где раньше жили Белобородовы, а может, с Брянщины, откуда родом Морозовы.
Свадьба снова стала петь и плясать. Мы с Раей исполнили танец молодожёнов – вальс.
После обеденного застолья гости понемногу стали расходиться. Те, кому предстояло далеко ехать, начали собираться на железнодорожный вокзал. Перед отъездом мама мне сказала:
– Какие хорошие и вежливые люди.
– Я бы не стал с плохими людьми родниться, – уверил я её.
Ивана Гавриловича, маму и Веру с Николаем мы проводили до вокзала. Старшие поехали в Горбуново, а Вера с мужем – в город Бакал Челябинской области, куда Николая направили работать по окончании института.
* * *
Проводив гостей, мы поблагодарили Анну Ивановну за хорошую организацию нашего главного праздника. А затем отправились на съёмную квартиру, где уже всё было готово для нормальной жизни.
В комнате, выделенной нам для проживания, главной мебелью была двуспальная кровать. Помимо неё, у нас был комод – один из двух, принадлежащих семье Морозовых. В нём находилось Раино приданое. Николай Ситников, высококвалифицированный специалист, работавший в столярной мастерской, подарил нам очень красивый стол, изготовленный своими руками. Круглая столешница опиралась на единственную резную стойку, целиком выточенную на станке, и крепилась к ней при помощи четырёх деревянных угольников. Снизу стойка опиралась на четыре фигурные лапы. Стол был покрыт ярко-коричневым лаком и выглядел очень впечатляюще.
У нас остался ещё один свободный день. Тринадцатого июня мы купили шампанское и решили вдвоём отметить начало нашего совместного проживания. Хозяева в это время были на работе. Поставив бутылку на стол и придерживая одной рукой в слегка наклонённом состоянии, я начал её открывать. Но в самый ответственный момент, когда вылетела пробка, бутылка вдруг выскользнула из руки, упала на стол и начала вращаться, изрыгая из себя потоки пены, которые летели на нас. Всё-таки я исхитрился и поймал одичавшую ёмкость, в которой сохранилась почти половина содержимого. Нам как раз осталось по большому бокалу напитка, которые мы выпили, со смехом вспоминая произошедшее. Я в шутку предположил, что нечто подобное обязательно должно было произойти тринадцатого числа, и мы ещё легко отделались.
* * *
Пролетело почти два месяца, и мы поняли, что нужны друг другу. Нам было хорошо вместе, мы не расставались, можно сказать, ни днём, ни ночью. С работы часто приходили одновременно.
Было лето, пора созревания ягод. Рая ещё с детского возраста любила ходить по ягоды (особенно ей нравилась черника), знала ягодные места. Первую вылазку мы сделали за посёлок Окунёво, рядом с которым находилось живописное озеро с одноимённым названием. В посёлок ходил рейсовый автобус. На нём мы и поехали на свою первую «тихую охоту».
В первый наш поход мы насобирали трёхлитровый бидончик разных ягод. На следующий раз мы углубились в лес ещё дальше – ягод там было ещё больше, а не только дров, как гласит пословица. В третий раз мы дошли аж до реки Рефт, которая преградила нам дальнейший путь. Ягод мы всегда набирали много. Рая училась их заготавливать на зиму, а я с детства любил их есть свежими с молоком (впрочем, Рая тоже) – в тарелку наливали молоко, высыпали туда ягоды, и ели ложкой, как суп, закусывая хлебом.
Однажды после очередного похода в лес мы зашли к Анне Николаевне, чтобы угостить её ягодами. В это время у неё гостила внучка, Раина племянница (дочка Тони) – девочка Оля четырёх с половиной лет от роду. Она запросилась к нам домой, и мы с радостью её взяли. По пути купили молока, а дома сели за стол и начали есть ягоды с молоком и хлебом. Мы были голодные и уставшие. Олечка от нас в еде не отставала, ей тоже понравилось наше блюдо.
Вечером мы все втроём легли спать на одну кровать. А утром обнаружили, что наша девочка, извините, описалась. Она и сама выглядела очень смущённой, поэтому мы не стали об этом даже упоминать.
* * *
Второго августа мы пошли в ЗАГС, чтобы официально зарегистрировать наш брак. Обратились к сотруднице, сидевшей за столом, со своей просьбой. Она задала встречный вопрос:
– Сколько вам времени дать на обдумывание и подготовку?
– Мы уже с одиннадцатого июня живём вместе, так что если можно, просим вас зарегистрировать сегодня.
– Хорошо, – согласилась чиновница. – Давайте ваши паспорта. Раиса Семёновна, какую вы фамилию желаете иметь после регистрации брака?
– Фёдорова.
– Тогда вам придётся поменять паспорт.
– Хорошо, я поменяю, – ответила Рая.
Нам тут же выписали свидетельство о браке и поставили штампы в паспортах. Всё прошло буднично, мы даже никак это событие не отмечали, а в ночь нам нужно было идти на работу.
После регистрации брака я дал себе обещание, что ни при каких обстоятельствах никогда не стану по своей инициативе разрывать эти супружеские узы.
Глава 124. НОВАЯ ТЕХНИКА
В эти годы в тресте «Союзасбест» полным ходом шла масштабная замена устаревшего оборудования на новое. Буровые станки канатно-ударного типа заменяли на шарошечные[40]40
При шарошечном бурении горные породы разрушаются стальными или твердосплавными зубками шарошек, вращающимися на опорах бурового долота, которое, в свою очередь, вращается и прижимается с большим осевым усилием к забою. (Прим. ред.)
[Закрыть]. Поступили новые, более мощные экскаваторы. В 1960 году железнодорожный транспорт почти целиком был переведён на широкую колею. В нашем цехе к тому времени работали десять новых электровозов. Меня с узкой колеи перевели уже на одиннадцатый электровоз марки 21Е чехословацкого производства.
Прибыл он к нам не своим ходом, а на трёх железнодорожных платформах. На каждой из платформ размещалось по двухосной тележке вместе со всем оборудованием, общим весом в пятьдесят тонн. Мы должны были выгрузить эти три части электровоза при помощи мостового крана и соединить их механически и электрически. Старшим машинистом назначили Сутормина, который уже более полугода работал на таком же локомотиве. (Именно он в компании с Дозмаровым не так давно хотел угостить меня на работе пивом.) На первом же перекуре он спросил:
– А знаешь ли ты, почему оказался в моей бригаде?
– Почему же?
– Да потому что ты быстро бегаешь, – улыбаясь, объяснил он. – Если бы ты тогда не догнал свой электровоз, я бы тебя в бригаду не взял.
– Ну спасибо. А то я мог бы остаться без работы, – сыронизировал я.
Мы оба промолчали о последствиях, которые могли бы для меня быть, если бы я тогда электровоз не догнал.
Так или иначе, основная работа по сборке железнодорожного «конструктора» скоро была закончена, и меня направили в канаву проверять состояние шести тяговых двигателей, открывая нижние люки. Из одного люка вдруг полилось машинное масло, которого в электродвигателе никоим образом быть не должно. Я предположил, что масло могло попасть из одной из двух опор. Тяговый двигатель находится под кузовом локомотива, его задача – вращать колёсные пары. Одной стороной он опирается на специальную пружинную подвеску, а другой – на ось колёсной пары при помощи двух скользящих подшипников, которые смазываются машинным маслом.
Проверил уровень смазки в корпусах подшипников опор. Оказалось, что в одной из опор смазки почти не осталось. Я выбрался из канавы и доложил о ситуации старшему машинисту Сутормину. Он отправился к заместителю начальника цеха Гусеву. Была суббота, конец рабочей недели[41]41
Пятидневная рабочая неделя в СССР была введена только в марте 1967 года. (Прим. ред.)
[Закрыть]. Гусев предложил: «Залейте масла до нормы, а в понедельник проверим и решим, стоит ли разбирать двигатель».
В понедельник мы убедились, что масло продолжает вытекать из корпуса опоры в двигатель. Пришлось выкатывать из-под электровоза колёсную пару вместе с двигателем, весившим более трёх тонн. Когда, наконец, разобрали узел, то обнаружили заводской брак в литье корпуса двигателя – небольшое сквозное отверстие в месте соединения опоры. Ремонтники занялись своей работой, а мне предстояло пронумеровать своего железного коня.
Новые электровозы, уже работавшие в карьере, имели номера от сотого до сто десятого. Так что нам достался номер 111. Я занялся изготовлением трафаретов, про себя радуясь, что все цифры одинаковые. Дали белой краски, и мы по бортам кабины нанесли две крупные надписи «111», а спереди и сзади – надписи помельче. Номера выглядели эффектно и были видны издалека, хорошо контрастируя с тёмно-зелёной заводской окраской кузова локомотива.
В кабине электровоза многое для меня было ново, странно и непривычно. Так, например, меня удивили сиденья машиниста и помощника, представлявшие собой табуретку с круглым маленьким деревянным сиденьем на трёх металлических ножках. Ни спинки, ни мягкого сиденья – сплошной аскетизм. Эти сиденья можно было свободно переносить по кабине. Переходишь на другой пульт управления – тащишь эту табуретку с собой (или работаешь стоя). У нас работал машинист Фролов, был он мал ростом, и ему приходилось на этих сиденьях работать, стоя на коленках.
Другой необычной деталью было расположение рычажка подачи звукового сигнала. Он находился вверху, даже выше головы. Были и другие неудобства, но человек способен довольно скоро приспосабливаться к новым условиям жизни и труда, и мы впоследствии перестали ощущать дискомфорт.
* * *
Как-то Сутормин поинтересовался у меня:
– Как живётся с молодой женой?
– Хорошо, – коротко ответил я.
– Я потому интересуюсь, что знаю её давно, – объяснил он. – Живу по соседству с Ситниковыми, а она частенько у них бывала. Хорошая она девушка, ты не обижай её. Я, конечно, шучу – не думаю, что ты ей что-то плохое сделаешь.
– Я постараюсь её не обижать, – почти торжественно пообещал я, внутренне немного удивившись, ведь мне даже Иван, брат Раи, ничего подобного не говорил.
* * *
Через два дня наша машина была готова к выходу из депо на линию. Состав из шести новеньких вагонов-думпкаров был уже сформирован. Даже проложена электропроводка до хвостового вагона, где на специальной площадке должен был ездить помощник машиниста при движении вперёд вагонами. При необходимости он оттуда должен был подавать сигналы машинисту – днём жёлтым флажком, а ночью специальным фонарём на длинной ручке, лампочка которого получала напряжение в пятьдесят вольт от электровоза.
Когда мы в вагонном депо сцепились с составом, к нам подошли ещё два машиниста, которые в будущем станут работать на сто одиннадцатом электровозе. За управление встал Сутормин. Мы выехали на линию. До конца смены успели выполнить два рейса, поучившись управлять новым для себя локомотивом с порожняком и грузом. Особое внимание я обратил на контроллер, представлявший из себя большую круглую «баранку», при вращении которой можно было переключать позиции, которых здесь было аж сорок четыре. Благодаря такому большому количеству позиций, ток и напряжение на тяговых двигателях можно было увеличивать довольно плавно, что особенно важно при трогании поезда на подъёме. Движение начиналось постепенно, без рывков и пробуксовки.
Второе, что мне понравилось в новом электровозе – это реостатное торможение. При спуске в карьер или с отвала порожняком можно было переключить рукоятку контроллера в положение торможения, а затем набрать «баранкой» необходимое количество позиций – и двигатели переходили в режим генератора. Энергия, выработанная ими, гасилась в реостатах, которые при этом сильно нагревались. Но зато торможение получалось очень плавным, без использования автотормозов с колодками (которые применялись лишь на коротких и не очень крутых спусках).
Если смотреть издалека на нашу «Шкоду», когда она движется по переносным неровным путям в карьере, то кажется, будто это ползёт гусеница. Каждая из трёх частей электровоза ритмично повторяет движение своих соседних частей, словно сжимаясь и разжимаясь.
Помощник машиниста выгружает вагоны на отвалах и фабриках, открывая воздушные краны. При этом кузов думпкара опрокидывается набок, и всё содержимое высыпается в бункер. Закрыл кран – кузов садится на место.
На «Шкоде» №111 я проработал несколько лет. Но уже в 1960 году к нам стали поступать электровозы ЕЛ1 производства фирмы «Ганс Баймлер» из ГДР. Их кузов состоял из двух отдельных секций, в каждой из которых перед скосом была расположена кабина машиниста. Секции кузова опирались с одной стороны на крайние двухосные тележки, с другой – на среднюю двухосную тележку. Рядом со «Шкодой» эта машина выглядела громоздкой.
Как-то наш сто одиннадцатый был на ремонте, а я вышел в ночь на смену, и меня послали стажироваться на немецкий электровоз. Машинистом там оказался Панюжев, наш «штатный» юморист. Он мне сказал:
– Нечего тебе тут делать. Иди домой, да поспи в постели.
– Ты мне хоть покажи, где тут на пульте кнопки всех шести токоприёмников. Немудрено ведь попутать!
– Ладно, смотри и запоминай, – с улыбкой согласился он.
Как только открыли светофор, я поблагодарил Сашу и удалился восвояси. Утром Рая пришла с работы и удивилась, увидев меня в постели. Я поднялся, так как уже успел выспаться. Мы позавтракали, и я отправился в город купить кое-каких продуктов (магазины располагались только в центральной части Асбеста). Я шёл по улице Садовой и начал уже строить планы на завтрашний выходной. Но тут, как на грех, вдруг мне встретился начальник службы тяги Третьяков.
– О, как хорошо, что я тебя встретил, – начал он, а у меня закралось нехорошее предчувствие. – Ты ведь сегодня стажировался на немецком электровозе?
– Да, стажировался, – нехотя подтвердил я, начиная понимать, куда он клонит.
– Ты сегодня выйди в ночную смену на ЕЛ1.
– Хорошо, выйду, – со вздохом согласился я. У меня не было уважительной причины отказаться, даже несмотря на то, что по графику это был мой выходной.
– Ну, на ловца и зверь бежит! – радостно заключил начальник и ушёл довольным.
Ночная смена у нас начиналась с 24 часов. В дневной суете я совсем забыл о встрече с Третьяковым, и вечером спокойно лёг спать, считая, что завтра выходной. Около часа ночи я вдруг проснулся, и тут меня будто прострелило – мне же нужно на работу! Уже опаздывая на час, моментально оделся и вышел. Транспорта в это время уже никакого не ходило. Три километра до рабочего места я преодолел меньше, чем за полчаса – то бегом, то быстрым шагом. И заявился пред очи исполняющего обязанности начальника смены Молочкова. Обычно он работал машинистом, но часто при необходимости замещал начальника смены или инструктора. Я честно признался Молочкову:
– Забыл об утренней встрече с Третьяковым, лёг спасть. Проснулся в час, вспомнил, и вот я здесь.
Молочков меня успокоил:
– Ладно. Я тут, вроде, выкрутился. Вон, видишь, – он показал в окно, – стоит неисправная «Шкода». Её машиниста я послал работать вместо тебя. Так что ты иди на этот локомотив, «подежурь» до утра. Утром подойдёшь ко мне, доложишь, как поработал, – пошутил он.
До конца смены было ещё шесть часов, которые мне предстояло провести в безделье. Для отдыха электровоз – особенно «Шкода» со своими жёсткими сиденьями – совсем не приспособлен. Я прибежал на работу в одной летней одежде, без сумки. Почитать тоже ничего не взял. Так, немного покемарил, пока не уставал сидеть.
В конце смены я подошёл к Молочкову. Он сказал:
– Иди домой. Рабочую смену я тебе поставил полностью.
Замечу, что с приходом новой техники у нас отменили чистую сдельщину, а стали платить тариф машиниста плюс премию (при выполнении плана всей сменой). Ещё надо сказать, что я больше никогда не просыпал на работу.
Наш электровоз всё ещё был на ремонте, и всё-таки однажды мне (уже с третьей попытки) пришлось одну смену поработать на немецком локомотиве. Это было днём. Я кое о чём спросил машиниста, которого менял, а затем поехал в карьер под погрузку.
Сиденья на этом электровозе были удобными. Пожалуй, это было единственным преимуществом над «Шкодой». Для того, чтобы перейти из одной кабины в другую, необходимо было пройти через относительно длинный коридор по электромашинному отделению, которое даже не имело ограждения. Правда, при переходе в другую кабину электровоз нужно было обесточить.








