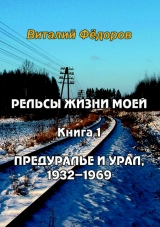
Текст книги "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969"
Автор книги: Виталий Федоров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 57 (всего у книги 61 страниц)
Глава 141. О РАБОТЕ И ФУТБОЛЕ
В 1964 году готовилась реорганизация треста «Союзасбест» в Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат «Ураласбест». В связи с этим было построено новое административное здание комбината. Машинистам тоже решили устроить небольшую встряску, организовав сдачу экзаменов на классность. Желающих набралось немало – в основном из нашего Свердловского училища. Сдали экзамены почти все. Я, конечно, тоже сдал, став машинистом электровоза третьего класса и получив свидетельство под номером 17. Нам стали платить на пять процентов больше. К слову, на МПС машинисты третьего класса получали надбавку 10%. Больше в нашем цехе экзамены на классность никогда не организовывали, видимо, посчитав это накладным для бюджета.
Мне дали хорошего, умного, работящего помощника – Володю Быстрова. Он вполне соответствовал своей фамилии, делал всё быстро и чётко. Мы сразу стали с ним, так сказать, дружными коллегами. Так же как и я, Володя был любителем спорта и болельщиком. Если мы после ночной смены оказывались на станции Новая, где находилось здание администрации цеха, в вестибюле которого стоял бильярдный стол, мы с помощником оставались там, чтобы полчасика поиграть в бильярд.
В этом году проходил чемпионат Европы по футболу. В то время у нас ещё не было своего телевизора, и я ходил к Быстрову смотреть матчи с участием нашей сборной, если они выпадали на нерабочее время. Мне хорошо запомнился финальный матч, в котором участвовали сборные Испании и СССР. Игра была равная, но победили испанцы со счётом 2:1. Наша команда стала серебряным призёром. Единственный гол в ворота испанцев забил полузащитник Галимзян Хусаинов.
Этим же летом в Свердловске должен был состояться товарищеский матч по футболу между сборной РСФСР и олимпийской сборной Японии. Я сагитировал Геннадия Кощеева, и мы вместе с жёнами поехали на футбол на «Победе».
Прибыли за два часа до начала матча. Большого ажиотажа у касс не было, через полчаса мы уже взяли билеты и пошли в кафе подкрепиться. К началу матча мы сидели на своих местах.
Построение команд сразу показало, что наша команда собрана из игроков клубов Российской Федерации класса «Б», причём совсем недавно. А команда Японии выглядела очень эффектно. Они стояли по ранжиру, казалось, что все они одинаковой комплекции, и вообще – сделаны по одному чертежу. В тёмно-синей форме, одинаково загорелые, с заметно накачанными мышцами ног. После исполнения гимна они чётко, как единый механизм, низко поклонились нашей трибуне, по-военному развернулись на 180 градусов и отвесили поклон зрителям противоположной трибуны. Наши игроки были в белой форме, большинство не выделялось летним загаром, да и вообще не могли себя подать так, как японцы – не та выучка и психология.
Мы сидели в середине трибуны недалеко от поля, и нам было всё хорошо видно. Игра была обоюдоострая, но опасных моментов у ворот было немного. В результате успеха не добилась ни та, ни другая команда. Мне понравилась игра полузащитника, который целый тайм мелькал перед нами, он хорошо расправлялся с накачанными японцами. Один местный болельщик крикнул ему: «Паршин, переходи к нам в "Уралмаш!"». Матч закончился со счётом 0:0. После игры японцы повторили свой поклонный ритуал, несмотря на то, что болельщики уже начали расходиться.
* * *
Чемпионат мира по футболу 1966 года проходил в Англии. Разница во времени со Свердловском составляла, кажется, пять часов, и большинство матчей показывали ночью. Наша команда была в числе участников, причём дошла до полуфинала, где встретилась со сборной ФРГ. Этот матч мы с Володей Быстровым смотрели у нас уже далеко заполночь. Рая с Николкой спали в другой комнате, нам казалось, что мы им не мешаем. Игра была очень упорной и жёсткой, если не сказать жестокой. Немецкие футболисты откровенно грубили и симулировали, но судья закрывал на это глаза. Уже в самом начале матча нашего футболиста Йожефа Сабо травмировали, и он практически выключился из игры. Однако с поля не ушёл даже после того, как ему нанесли ещё несколько ударов по ноге (особенно постарался Франц Беккенбауэр) – в то время замены в футболе вообще не предусматривались. Во втором тайме Сабо уже не мог бегать, а лишь хромал по краю поля.
В конце первого тайма, уже при счёте 1:0 в пользу ФРГ, очередной жертвой грязной игры стал Численко. К сожалению, ему не хватило выдержки, и он открыто нарушил правила в ответ, за что и был удалён с поля. В общем, второй тайм наша команда играла практически вдевятером. Но даже несмотря на пропущенный второй гол и численное меньшинство, она имела неоспоримое преимущество. К сожалению, отыграть удалось лишь один гол.
Во втором полуфинале Англия обыграла Португалию и вышла в финал, где должна была встретиться со сборной ФРГ. Нашей же команде осталось сыграть со сборной Португалии за третье место. Эта игра у сборной СССР не заладилась, португальцы были быстрее, мастеровитее и удачливее. Особенно хорошо у Португальцев играл нападающий Эйсебио. Сборная СССР проиграла 1:2, и болельщики получили ощутимый удар по нервам. Правда, без наград всё-таки наши футболисты не остались, вернулись домой с бронзой, поскольку на этом чемпионате впервые было четыре комплекта медалей: золотой, позолоченный, серебряный и бронзовый.
Как ни странно, финальный матч Англия – ФРГ всё-таки не обошёлся без нашего участия. Боковым арбитром был Тофик Бахрамов, который своеобразно отомстил сборной ФРГ, не засчитав спорный гол, забитый в ворота сборной Англии. Мяч ударился в перекладину и коснулся земли вроде бы за линией ворот, а затем вылетел в поле. Судья показал, что гола не было. Англичане стали чемпионами мира.
Сейчас очевидно, что та сборная была сильнейшей нашей командой за всю историю отечественного футбола. Мы с Володей смотрели все эти матчи. Помню, выходил однажды его провожать, а на улице уже рассвело…
* * *
С Володей Быстровым я проработал три года. За это время у нас не возникло даже намёка на недовольство друг другом. А вот парень, с которым я работал до Володи, как-то устроил мне довольно неприятный сюрприз. Мы ехали гружёными на отвал, и я, не доезжая километра полтора до экскаватора, открыл кран подачи сжатого воздуха в разгрузочную магистраль. Все всегда так делали – для наполнения резервуаров сжатым воздухом требуется около десяти минут, и чтобы не задерживать себя и приёмщиков груза, разгрузочную магистраль наполняли сжатым воздухом заранее. Но в этот раз первый думпкар вдруг начал на ходу самопроизвольно опрокидываться, когда до экскаватора оставалось ещё полсотни метров. Я экстренно затормозил, и вагон выгрузился на неположенном месте, при этом завалив борт огромными глыбами камня, препятствовавшими подъёму вагона в обычное положение. В общем экскаватор остался без работы, мы тоже не могли сдвинуться с места. Нам мог помочь лишь бульдозер, на котором работали только в дневную смену. Был поздний вечер, и нам пришлось около двух часов ждать, пока привезут бульдозериста, и он приедет к нам на помощь.
Причиной всего случившегося было то, что мой помощник после предыдущей разгрузки не перекрыл кран управления разгрузкой. Нас с помощником не наказали, но во всех сменах разбирали наш случай, чтобы помощники были внимательнее.
* * *
Однажды, когда я работал уже с Быстровым, у меня произошёл небольшой конфликт с Сергеем Карпец. Он был моим однокашником, мы учились в одной группе в школе машинистов. В это время он, кажется, замещал начальника смены. Мы подъехали порожняком на станцию Новая. До окончания смены нам оставалось каких-то десять минут. Раскомандировка находилась на этой же станции, и мы уже предвкушали скорую смену и отдых дома. Но наш поезд завели на путейский двор, где в два хвостовых вагона нам при помощи крана погрузили несколько «пачек» шпал, увязанных тросами. Сказали: «Везите в карьер».
Мы подъехали к выходному светофору, который горел разрешающим огнём, и остановились возле него, чтобы подождать пару минут до прихода смены. Тут к нам подошёл Карпец и скомандовал:
– Поезжай в карьер, отвези шпалы.
– Сию минуту подойдёт смена, они и отвезут, – возразил я и полушутя добавил: – Тебя что, жареный цыплёнок, про которого ты пел под гитару в Свердловском общежитии, в зад клюнул?
– Я тебе сказал – езжай, а не то доложу начальнику цеха, – не терпящим возражений командирским голосом приказал Карпец.
– Ах ты такой, жаловаться? – Я резко рванул поезд с места, и мы понеслись в карьер, не оглядываясь. А в это время наша смена выходила из раскомандировки. Потом им пришлось спускаться в карьер пешком и искать нас. За это время мы разгрузились и остались на месте, чтобы дождаться смену. Из карьера в это время никакого транспорта не ходило, и мы пешком отправились домой, пробыв на работе лишний час.
На другой день Карпец подошёл ко мне и примирительно сказал: «У вас вчера из последнего вагона свалилось на ходу несколько шпал, но это не ваша вина – они были плохо погружены». – Я ему ничего не ответил, просто не стал с ним разговаривать. И больше никогда не общался. Впрочем, и необходимости в этом не возникало.
Глава 142. УЭМИИТ
Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта был создан в 1956 году и поначалу располагался в нескольких аудиториях железнодорожного техникума по улице Быкова и железнодорожной средней школы по улице Испанских Рабочих. В 1964 году открылось новое здание главного учебного корпуса по улице Свердлова, недалеко от железнодорожного вокзала. Там же находились учебные аудитории и общежития студентов.
Когда я в 1965 году переводился из СГИ в УЭМИИТ (то есть из горного в железнодорожный институт), то пришёл на улицу Свердлова в известное мне здание. Однако администрации института там не оказалось, а располагались лишь три первых учебных курса. Мне дали координаты ещё одного студенческого городка, имевшего непосредственное отношение к УЭМИИТ. Он был построен в очень живописном и даже экзотическом месте – на полуострове, который омывают две большие реки Ольховка и Исеть (вторая также образует городской пруд). Этот райский уголок ещё с дореволюционных времен назывался «Генеральскими дачами».
Студенческий городок строили довольно аккуратно, что позволило сохранить старые зелёные насаждения, лужайки. На берегу Исети был устроен пляж. Оценив всю эту красоту, я вошёл в здание института. Просторный вестибюль, народу – никого. Время летней сессии. Тишина. Я прошёл через правое крыло первого этажа, где размещались лаборатории. Поднялся на второй этаж, зашёл в деканат заочного отделения. Там мне предложили написать заявления. Я написал: «Прошу принять меня на четвёртый курс электромеханического факультета». Декан попросил мою зачётку, сверил её с программой и огорошил:
– Мы не можем сейчас принять вас на четвёртый курс. У вас не сданы за третий курс пять предметов: общий курс железных дорог, правила технической эксплуатации железных дорог, материаловедение, электротехнические материалы и иностранный язык. Пока вы их не сдадите, на четвёртый курс мы перевести вас не можем.
– Что же мне делать?
– Подготовьтесь самостоятельно и сдайте эти экзамены. В здании института по улице Свердлова на видном месте висит расписание для «должников» с указанием даты, времени и места приёма экзаменов. – Он подписал заявление и передал его мне со словами: – Зарегистрируйте у секретаря и в добрый путь.
Я поблагодарил декана и вышел из института. Тут почувствовал «хочу харчо», одним словом – голод. Как раз рядом, в трёх десятках метров от учебного корпуса располагалась столовая, и я туда зашёл. После обеда решил ещё немного прогуляться по территории студенческого городка. Увидел общежитие, в котором, наверняка, и мне придётся иногда проживать. Рядом было несколько новых жилых домов для административно-преподавательского состава и обслуживающего персонала.
В вестибюле здания на улице Свердлова переписал необходимые мне данные, чтобы ориентироваться, сверяться и согласовывать с графиком работы дома – иногда, возможно, придётся подменяться.
К новому 1966 году я сдал все свои задолженности. Экзамены у должников принимали в старом здании. Мне запомнился немецкий язык. При первой встрече с преподавательницей она выдала мне домашнее контрольное задание – перевести с немецкого языка целую полосу из газеты. Текст оказался политическим, какой-то речью Никиты Сергеевича Хрущёва. Мне дали две недели сроку. Я пошёл в библиотеку и нашёл в точности этот текст на русском. Добросовестно его переписал и с этой тетрадкой приехал в Свердловск. Преподаватель усомнилась, что я сам смог так точно перевести текст, и начала проверять мои познания в немецком, начиная со школьного курса. Вплоть до шуток-прибауток вроде «Маус, маус, ком хир аус». Мы с ней беседовали, наверное, с полчаса, и всё-таки она поставила мне «удовлетворительно».
В результате я оказался студентом четвёртого курса. До нового года получил из деканата лишь несколько контрольных работ, присланных из МИИТ[53]53
МИИТ – Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, ныне Московский государственный университет путей сообщения. (Прим. авт.)
[Закрыть]. А потом меня вызвали на сессию вместе со всем четвёртым курсом. Первым «выходом в свет» на «Генеральских дачах» для меня стал зачёт по «Электрическим измерениям». Проходил он под вечер, в пятом часу. Нас собралось человек двадцать. Преподаватель – светловолосый молодой человек – сначала прочитал нам небольшую лекцию в своей тесной лаборатории. А затем там же, в присутствии всех принимал зачёт. Если студент при ответе испытывал затруднения, то он сам втолковывал ему ответ. Для всех остальных это было ещё одной мини-лекцией. В конце её он спрашивал студента:
– Понял?
Тот, естественно, отвечал: «Понял».
– Зачёт.
И так он беседовал с каждым, возился довольно долго. Вначале я старался внимательно слушать, надеясь, что вдруг он спросит меня то, что уже говорил. Опрос длился без перерыва уже часа два, а народа было ещё немало. Я очереди не занимал, поэтому решил выйти в коридор. Там я столкнулся с молодым человеком, который показался мне внешне похожим на нашего преподавателя. Он поинтересовался у меня:
– Откуда приехал?
– Из Асбеста.
– О, удача! Я тоже родом из Асбеста, – он протянул мне руку и представился: – Анатолий Жезлов.
Я назвал себя и добавил:
– Пора идти на зачёт.
– Подождём ещё немного, – предложил мой новый знакомый.
– Хорошо, подождём, – согласился я, хотя и не не понял причину задержки. Мы успели с Анатолием немного поговорить. Оказалось, он работал машинистом электровоза, но в Южном рудоуправлении (ЮРУ).
Тут преподаватель сам вызвал нас. Как оказалось, все остальные уже ушли. Анатолий по-свойски пообщался с экзаменатором, представил меня, как земляка. Для проформы преподаватель задал нам по паре простеньких вопросов, после чего поставил зачёт. Потом он закрыл дверь лаборатории на ключ… И пригласил нас к себе в гости.
Я чувствовал себя неловко, как-никак, познакомился с Толей только полчаса назад, а преподавателя и вовсе не знал. Но они постарались развеять мои сомнения, рассказав, что являются двоюродными братьями. Я отозвал Толю в сторонку:
– Давай в магазин сходим, купим что-нибудь. Неудобно с пустыми-то руками.
Алкогольная продукция на полуострове не продавалась, нам пришлось перебежать через мостик на «большую землю», где мы и нашли магазин, в котором купили бутылку коньяка и кое-какую закуску. Теперь нас ничего не смущало, и мы с полным правом могли идти в гости.
Анатолий знал, где живёт его брат. Мы отсутствовали недолго. Нас приветливо встретила молодая симпатичная брюнетка, жена Виктора – нашего преподавателя. Как я узнал, Виктор закончил УЭМИИТ с отличием, и его оставили преподавателем, а также обеспечили квартирой, в которой мы сейчас и находились. У Виктора мы пробыли довольно долго, а затем попрощались с хозяевами и пошли в общежитие.
А с Толей Жезловым мы в будущем подружились даже семьями.
Ещё на этой же сессии встретил в институте «своего» человека – Левина Израиля Григорьевича, который в мою бытность в школе машинистов преподавал у нас автотормоза. Прошло около восьми лет, как мы с ним встречались на последнем экзамене в 1958 году, но он меня узнал, и мы с ним побеседовали, как старые знакомые. В 1965 году он усовершенствовал кран машиниста, за что ему позже было выдано официальное авторское свидетельство об изобретении. Помимо этого, он получил учёную степень кандидата технических наук.
Встретился я с Левиным в его лаборатории, где у нас должна была пройти лабораторная работа, на которой студенты знакомились с тормозным оборудованием поезда и учились им управлять. Там находился полный комплект оборудования тормозов, начиная с компрессора и заканчивая тормозными колодками. Всё это было действующим, но Левин не стал проводить со мной лабораторную работу, поскольку понимал, что я всё это хорошо знаю. Зато он заговорил об условиях работы тормозов в горных условиях, изобилующих крутыми спусками и короткими перегонами.
– В этих условиях нужно заставлять тормоза срабатывать быстрее, чем на путях МПС. Как твоё мнение?
– Хотелось бы, чтобы они срабатывали быстро, но чтобы при этом не было юза.
В таком духе мы с ним разговаривали. Кстати, в будущем последовало и продолжение этой темы.
Четвёртый курс я не смог одолеть за один семестр. Осталось несколько «хвостов».
Глава 143. РАБОТА НА НОВОМ УЧАСТКЕ
После окончания третьего курса я ознакомился с программой обучения на оставшиеся мне два с половиной года. Она оказалась довольно обширной, состояла из двух десятков предметов, шести курсовых проектов и такого же количества курсовых работ. Времени же на всё это катастрофически не хватало. Пусть я и считал учёбу своим хобби, но часто повторял себе: «Взялся за гуж – не говори, что не дюж».
Я знал, что в нашем цехе есть работа, где для машинистов и помощников была установлена сокращённая продолжительность рабочего времени. Их смена должна была быть шестичасовой. Правда, работали они, как и все, по восемь часов, но за переработанное время им давали в месяц по два дополнительных выходных. Работа состояла в вывозе с третьей фабрики пыльных отходов в смеси с мелкой фракцией щебня. Специально для этого в ГДР были закуплены два четырёхосных электровоза ЕЛ2 под номерами 341 и 342. По сравнению со «старшим братом» – шестиосным ЕЛ1 – конструкция его оказалась более удачной. Кабина была одна в середине кузова, имела два пульта управления. Возили электровозы по четыре вагона. Маршрут был всегда один и тот же: фабрика – отвал, в карьер не ездили.
Зарплата была одинаковой с теми, кто работал полный рабочий день, но дополнительно за вредность давали талоны на «спецжиры». За каждую отработанную смену полагалось пол литра молока, которое можно было заменить маслом или сметаной.
Вот на такой участок я и попросился у начальника тяги Борзунова. Намекнул, что мой помощник Быстров согласен идти со мной. В результате начальник нашёл мне место на 342-м электровозе, но Быстрова, к моему сожалению, оставил на прежнем месте.
На новом для меня участке на электровозах трудились по четыре постоянных машиниста, а пятый работал на обоих локомотивах, обеспечивая нам дополнительные выходные. Из-за такого графика работы мы не были прикреплены ни к какой смене, и по очереди оказывались во всех четырёх сменах.
Как-то так сложилось, что на этих ЕЛ2 работали коренные асбестовцы, имевшие собственные дома и приусадебные хозяйства. Один из машинистов, мужчина со светло-рыжими волосами и бровями, круглым красным лицом, выращивал на своём участке чудесные помидоры. Неудивительно, что все его величали «Синьор Помидор» – он и внешне напоминал спелый томат.
Другой машинист, Гарбузов, тоже имевший индивидуальное хозяйство, промышлял ещё охотой и рыбалкой. Он говорил: «Подстрелю рябчика, хватает на три супчика. Мяса покупать не надо, денежки на машину копим. Жена у меня настоящий Сбербанк, никогда ничего лишнего не купит». Надо сказать, мечту свою он осуществил. Когда на цех выделили три машины «Волга», их купили начальник цеха Толченов, начальник вагонной службы Чечулин и машинист электровоза Гарбузов.
А машинист Мельников выращивал на своём земельном участке фруктовые деревья и ягодные кустарники. Но на его беду повадились к нему в сад мальчишки двенадцати-четырнадцати лет. Он был настолько взбешён их наглостью, что в очередное их появление в его саду схватил нож и бросился к ребятам. Завидев вооружённого холодным оружием хозяина, пацаны бросились наутёк, но один, самый нерасторопный, попал ему под горячую руку. Мельников вонзил в него нож. Мальчик умер от раны.
Мельникова судили и приговорили к смертной казни. Его брат Александр тоже работал в нашем цехе машинистом электровоза. Через месяц он сказал, что они получили официальное сообщение о приведении приговора в исполнение, и что им прислали всю его одежду и обувь домой – вроде, как в доказательство. Хотя ходили слухи, что приговорённых к смерти не расстреливали сразу, а отправляли работать на вреднейшие шахты, где в подземельях они и заканчивали свою земную жизнь.
Вот с такими «частными собственниками» мне довелось начинать работать на новом месте. Наверное, я был среди них белой вороной, поскольку ничего, кроме зарплаты, не имел, а нуждался лишь в двух дополнительных выходных для учёбы.
Я довольно быстро освоился с новым электровозом и условиями работы. У фабрики было два пути, два стрелочных перевода и два светофора. Погрузкой командовали работники фабрики. У них был пульт, с которого они управляли сигналами светофора. Профиль пути был очень сложным, и представлял собой нечто вроде крутой спирали.
Однажды я увидел, как наш второй электровоз целиком съехал с путей вместе с составом и зарылся на склоне отвала в пустую породу. Машинист попросту не справился с управлением. Меня пронзила мысль о том, что я вполне мог оказаться на его месте. Нас стрелочница отправила тогда под другой экскаватор. На следующий день, бывший для меня выходным, сошедшие с рельс вагоны и электровоз вытягивали по отдельности, предварительно подведя к ним временный железнодорожный путь. Тянули их аж двумя шестиосными электровозами.
Как ни странно, машиниста «наказали» за это повышением в должности – поставили заместителем начальника снабжения рудника. В общем, он стал кабинетным работником. Вероятно, был чьим-то протеже, но меня подробности не очень интересовали, я в них не вдавался.








