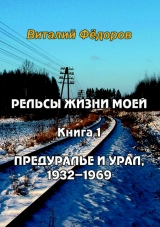
Текст книги "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969"
Автор книги: Виталий Федоров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 61 страниц)
Глава 110. ОКОНЧАНИЕ УЧЁБЫ В ШКОЛЕ МАШИНИСТОВ
Формально практику мы должны были закончить в конце июня. В школу машинистов нужно было явиться к первому июля – на занятия, консультации и сдачу выпускных экзаменов по специальности. В общем, оставалось ещё много свободного времени.
Все мои товарищи успешно сдали практические экзамены по вождению поезда и набрали нужный пробег. Каждому из нас выдали бесплатные билеты до Свердловска. У меня же были другие планы, и я решился на маленькую аферу. При помощи хлорной извести, больше известной как «хлорка», я вытравил название станции назначения и вписал своей рукой «Поклевская».
С этим билетом я доехал до Свердловска, где закомпостировал билет на поезд Свердловск – Тюмень. Я давно не виделся с сестрой Фаей, которая училась на третьем курсе Богдановичского горно-керамического техникума и сейчас должна была сдавать весеннюю сессию. Я тут же дал Фае телеграмму, в которой сообщил, когда мой поезд прибудет в Богданович.
До отправления оставалось ещё несколько часов, и я пошёл в общежитие. Там меня ещё помнили и разрешили отдохнуть в «своей» комнате, где стояли койки с матрасами.
* * *
До Богдановича поезд доехал за два с половиной часа. Там меня встретила Фаина. Мы с ней вошли в зал ожидания и сели на сиденья. Я спрашивал сестру, как ей живётся в замужестве (в марте этого года она вышла замуж; свадьба была студенческой, нас не приглашали), рассказывал свои новости. Стоянка поезда была всего лишь десять минут, и за разговором мы не заметили, как они пролетели. Я посмотрел в сторону перрона, и мне показалось, что моего поезда нет. Мы выскочили наружу и убедились, что поезд уже ушёл.
Посмотрели расписание поездов. До следующего поезда времени было ещё достаточно, поэтому мы не спеша договорили о том, о чём не успели раньше. Я попросил Фаю приехать в Горбуново в августе, чтобы мы могли увидеться. Затем мы простились, и Фая ушла. Я же обратился к дежурной по вокзалу с просьбой посодействовать снять с поезда в Поклевской мои вещи: рюкзак и чемоданчик. Она попросила мой билет и записала номер поезда, вагон и место, а затем с моих слов – описание вещей.
– Я передам по телефону дежурному по вокзалу станции Поклевской. Они всё сделают с проводником вагона, – пообещала она.
Я поблагодарил женщину и закомпостировал свой поддельный билет (да простит меня Фемида за давностью лет!). В Поклевской обратился к дежурному по вокзалу, который после знакомства с моими документами и нескольких нравоучительных фраз выдал мне мои вещи. В общем, моё приключение окончилось без потерь.
Дома всё было спокойно. Узнал новость, что Лена после окончания учебного года уволилась из Горбуновской школы и уехала с дочерью Галинкой в город Горький, где жил её брат Николай с семьёй и сестра Валентина.
В Горбуново я погостил пару недель, после чего поехал в Свердловск для подготовки к экзаменам. Запасся литературой, начал просматривать конспекты.
* * *
Первого июля начались занятия, которые продолжались десять дней. Теперь, после практики, когда довелось всё увидеть своими глазами и пощупать руками, теорию было слушать куда интереснее, чем раньше. После окончания занятий – консультации и устные экзамены.
Один из преподавателей, который вёл два предмета, решил совместить оба своих экзамена. У него на столе в двух разных местах были разложены билеты по каждой дисциплине. Мы брали по одному билету из каждой стопки, отвечали по ним и получали сразу две оценки.
Некоторые другие экзамены мы тоже сдавали по два в день. Таким образом за пять дней мы сдали экзамены по восьми предметам. Я получил семь четвёрок и одну пятёрку (по транспортной подготовке).
16 июля нам выдали свидетельства об окончании школы машинистов и присвоении квалификации «машинист электровоза». К свидетельству прилагался табель учёта успеваемости. Оставалось получить в локомотивном отделе Управления Свердловской железной дороги свидетельства на право управления локомотивом. А вот с этим вышла заминка.
Когда мы пришли за этими документами, нас огорошили:
– Нет бланков свидетельств.
– Когда будут?
– Не знаем. Выдадим, когда напечатают.
– Что нам делать?
– Можете пока разъехаться по домам. Или, если хотите, получите права для работы на подъездных путях – такие бланки есть. Потом придёте и обменяете.
Мы посовещались и решили, что ни домой не поедем, ни других прав брать не будем. А станем ходить ежедневно все вместе, практически строем в Управление дороги. Так мы и сделали. Со стороны, наверное, это немного смахивало на демонстрацию, но мы решили взять неприступных чиновников измором и ходили каждый день.
На пятый день, 21 июля нам выдали настоящие права.
Глава 111. НА РАСПУТЬЕ
Обе группы собрали в школе машинистов для распределения на работу. Первым четверым тут же выдали направления. Они ещё до учёбы имели опыт работы на локомотивах, а в школу были направлены паровозными депо своих городов. Вершинин получил направление в Ярославль, Нечаев – в Рязань, Воронкин – в Краснодар, Оглезнев – в Белово Кемеровской области.
Перед выпускниками выступил начальник школы Иванов. Не скажу, что его слова заразили нас оптимизмом.
– Мы делали запросы на многие управления дорог, но нам почти всюду отвечали, что машинисты электровозов им не требуются. Лишь на Западно-Сибирскую железную дорогу (Тюмень, Омск и дальше) согласны взять человек пятнадцать, но вначале придётся работать на паровозах помощниками машиниста. Когда электрифицируют дорогу – сразу станете машинистами электровозов.
В зале зашумели, кто-то задал вопрос:
– А когда это случится?
– Это не ко мне вопрос, а к заказчикам и строителям. А мы, поскольку вас учили, должны и трудоустроить. Пока могу ещё сказать, что жители Свердловска будут направлены работать в депо слесарями. Это тоже только до электрификации нашей Свердловской дороги, потом будете трудиться по специальности. В общем, пока вырисовывается вот такая ситуация. Я пока отлучусь минут на десять. Вернусь, возможно, с кое-какими новостями.
Отсутствовал начальник недолго, а вернулся в зал в сопровождении мужчины солидного вида.
– К нам приехал представитель треста «Союзасбест» из города Асбест Свердловской области товарищ Толченов Борис Григорьевич. Он готов предложить вам работу по специальности.
Зал выжидательно притих. Толченов кивнул в нашу сторону в знак приветствия и начал своё выступление:
– В начале этого месяца вышло постановление Совмина, предусматривающее перевод железнодорожных путей асбестовых рудников на широкую колею, с 1000 на 1524 мм. В нашем тресте три рудника: Северный, Центральный и Южный. Я начальник транспортного цеха Центрального рудоуправления. В ближайшее время ожидается поступление к нам новых мощных электровозов. Соответственно, нам нужны грамотные машинисты. Пока что мы работаем на небольших узкоколейных электровозах. Это импортные американские Джи-И[33]33
Джи-И – General Electric (Прим. ред.)
[Закрыть] и Вестингауз, а также советские II-КП3А со сцепным весом 35 тонн. Напряжение в контактной сети – 600 вольт постоянного тока.
– Наш город очень молод, ему всего лишь двадцать пять лет. Раньше на его месте были разрозненные посёлки. А сейчас строится много благоустроенного жилья для рабочих рудника, школы и детские сады для их детей. Для одиноких в октябре будет готово новое благоустроенное общежитие, а семейные получат квартиры. Приглашаю вас к нам в Асбест жить и работать.
Когда начальники вышли, наша «бурса» забурлила.
– Да пошёл он со своим Асбестом – это такая тьмутаракань! – высказался один из свердловчан. Ему возразил голос другого выпускника:
– А по-моему, это неплохой выход из положения. Надо воспользоваться!
Я в спорах и разборе ситуации не участвовал, пытаясь сначала решить всё сам для себя. Я был на перепутье. Конечно, хотел жить в Свердловске – город этот полюбил за два года жизни в нём – и работать машинистом электровоза. Огорчало то, что не было ближайшей перспективы работать по этой специальности на магистральной железной дороге. Паровозы же меня не устраивали. Работа помощника на них просто адова, на нём лежит обязанность поддерживать необходимую температуру под котлом, то есть фактически быть истопником (имевшийся в штате кочегар лишь подаёт уголь из тендера). В кабине жарко и пыльно, постоянный сквозняк. А у меня, как назло, начала побаливать спина. Наверное, давала знать себя армейская «закалка» – сидение и лежание на снегу и в снегу. Смущало также и то, что в Свердловске уже было очень много помощников машинистов и даже слесарей в депо с правами машиниста. То есть на вакантные места в перспективе будет много желающих. Ну и, наконец, никто не обещал в обозримом будущем в Свердловске жилья.
Перспектива ехать в Сибирь тоже меня не прельщала. И тоже было непонятно, когда удастся пересесть на электровоз. Всё-таки с болью в сердце я склонялся к мысли ехать работать в Асбест. Решил: «Лучше на маленьком электровозе, чем на большом паровозе». Да и возможность получить жильё привлекала.
Но сразу записываться я не пошёл. Решил сначала съездить в Асбест, посмотреть, что да как. Сказал о своём желании Володе Коковину, он с радостью согласился составить мне компанию. Оказывается, у него в Асбесте жила и работала его родственница. Доехав до городка в пригородном поезде, мы пошли сразу к ней. Она жила в маленькой комнатке деревянного барака, в сто первом квартале, сплошь застроенном одноэтажными домиками.
Хозяйка напоила нас чаем, после чего мы отправились самостоятельно знакомиться с нашим будущим. Выйдя из барака, я обратил внимание на какую-то туманную дымку светло-серого цвета, висевшую в воздухе и оседавшую на наших тёмных костюмах.
– Что это такое? – спросил я Володю.
– Пыль с фабрики, – объяснил он. – Когда ветер в эту сторону дует, тут всегда «туманно».
Через несколько десятков метров полоса запылённости кончилась, и мы оказались на борту карьера[34]34
Борт карьера – боковая ограничивающая поверхность карьера (Прим. ред.)
[Закрыть]. Сам карьер оказался огромной ступенчатой чашей более километра в диаметре. По его спиральным ступеням ползали, как мне показалось сверху, игрушечные на вид поезда: маленькие локомотивы тянули или толкали по три-четыре вагончика. Минут двадцать мы наблюдали за тем, как экскаваторы грузят в вагоны руду. А затем мы пошли по узкоколейному железнодорожному пути вверх и оказались на отвале, куда выгружали пустую породу из вагонов-самосвалов (думпкаров).
Тут мы увидели, что около вагонов и двухосного электровозика копошится много народа. Как оказалось, электровоз и два вагона сошли с рельс. Мы сразу подошли к машинисту и поинтересовались, что ему грозит за аварию.
– Да ничего мне не будет, – успокоил нас он. – Ну заработаю сегодня меньше. Виноваты путейцы, они плохо сделали путь. Видите, они там работают все в мыле.
Мы заглянули в кабину, увидели там один пульт управления. Заходить внутрь не стали, поскольку локомотив был в неустойчивом положении. На этом решили закончить экскурсию и вернуться в город. С трудом нашли нужную тропинку. По ней мы попали в старую часть города, где даже на проезжей части не было асфальта, тротуары были деревянными, доски на них местами были подгнившими и поломанными. На одном из домов я увидел табличку с названием улицы: «Милицейская».
Двинулись дальше – искать цивилизацию. Прошли улицу Октябрьскую и – о чудо! – попали на асфальтированную площадь, да ещё и с дворцом культуры. Дальше ДК были уже пятиэтажные дома. Мы подошли к рынку, откуда ходили автобусы на железнодорожный вокзал.
В поезде я постарался проанализировать и оценить увиденное. Увы, оценка выходила «неуд.». Очень не понравилась запылённость от четырёх обогатительных фабрик и завода АТИ[35]35
Завод АТИ – ныне Уральский завод автотекстильных изделий, ОАО «УралАТИ» (Прим. ред.)
[Закрыть], находящегося прямо в городе в здании бывшего дома культуры. Работа тоже казалась мне скучной: ездить только из карьера на фабрики или на отвал, крутые подъёмы и спуски, маленькие перегончики. В общем, негде разгуляться русской душе. Но с другой стороны, куда деваться? Живут и здесь десятки тысяч людей, работают. Так я пытался себя успокоить.
Мы вернулись в Свердловск, а наутро зашли к секретарю для получения направлений в Асбест. Секретарь выписала нам бумаги, зашла к начальнику подписать и передала нам. Попросила меня на минутку задержаться. Володя вышел.
– У нас есть бесплатная путёвка в дом отдыха «Урал», – сообщила она. – Не желаете поехать?
Я не стал раздумывать:
– Почему бы и нет? Поеду, спасибо.
Довольно быстро мне оформили документ, и я в тот же день уехал по месту назначения.
Двенадцать дней в доме отдыха прошли как-то очень буднично, ничего не случилось, ничего не запомнилось. Не заводил ни друзей, ни подруг. Видимо, из-за неудачного трудоустройства не было настроения. На память осталась лишь одна фотография, на которой две девушки и трое юношей. Вот ведь интересно – дом отдыха «Самоцвет», в котором я был два года назад, запомнился до мельчайших подробностей.
Вернувшись в Свердловск, я зашёл в последний раз в школу машинистов, отдал квиток путёвки и поблагодарил секретаршу за особое ко мне внимание. Она напомнила, что на работу я должен явиться не позднее первого сентября.
– Позже уже будет считаться прогулом, – наставительно сказала она.
– Спасибо за всё. До свидания.
Глава 112. ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ
Я решил воспользоваться последними каникулами и поехал в деревню Горбуново к маме. Оказалось, что сестра Фая здесь тоже отдыхает с мужем – Володей Тюриным. Мы с ним познакомились. Он оказался уроженцем города Алапаевска Свердловской области, а учился в одном техникуме с Фаей. Володя показался мне простецким, дружелюбным парнем, к тому же был моим одногодком. Мы с ним легко сошлись. У него был фотоаппарат, и он нас всех сфотографировал на улице на травке: маму с отчимом, Фаю, меня и Женю (который как-то незаметно перешёл из детского возраста в юношеский).
Володя увлекался футболом, играл в команде техникума, иногда за сборную города Богдановича. Кто-то нам сказал, что в воскресенье команды Талицы и Богдановича будут играть на первенство области. Матч должен был проходить в Талице. Мы отправились туда пешком. Вдвоём было идти легко, и двенадцать километров мы прошагали без усталости. На стадионе болели за разные команды: я за талицкую, Володя за богдановичскую. Но тем не менее мы не поссорились, а мирно разбирали перипетии игры.
Иван Гаврилович решил использовать в домашнем хозяйстве внезапно приехавшую к нему рабочую силу в виде меня и Володи. Вместе с Женькой он заготовил брёвна и жерди, которые нужно было очистить от коры. Этим мы с Володей и занимались в течение двух дней. А затем мы заменяли старую ветхую подгнившую изгородь новыми столбиками и жердями.
После окончания работы мы были предоставлены сами себе, и могли развлекаться или отдыхать в своё удовольствие. У Ивана Гавриловича было ружьё и удочка. До этого времени я никогда не охотился и не рыбачил удочкой. Он нам предложил пойти отдохнуть на природе.
Володя, Фая и я собрали в рюкзак кое-какие продукты, пару покрывал и пошли на реку Пышму. Володя нёс удочку и рюкзак, а мне досталось ружьё и патронташ с десятью патронами. Идти пришлось около десятка километров. Уже во второй половине дня мы облюбовали местечко возле реки с сухим высоким берегом. Было довольно жарко и первым делом мы с удовольствием окунулись. Затем забросили удочку. Хотели сварить на ужин уху, но поймали лишь одну рыбку. Долго не расстраивались, добавили принесённой с собой баранинки. «Уха» получилась наваристой!
Ночевали на самодельном ложе из лапника и веток кустарников. Ружьё было доверено мне, как бывшему стрелку. Зятёк мой служил в армии на военном аэродроме, но едва ли ему довелось там стрелять так много, как мне. Утром мы встали пораньше и пошли на промысел. Володя нас запечатлел на плёнку – мы с Фаей присели в камышах, я в шляпе, с ружьём в руках и рюкзаком за плечами, а у Фаи в руках удочка. Снимок получился довольно экзотичным.
На деле же охотники из нас вышли не лучше, чем рыбаки. В этот день мы загорали, купались. Поскольку добычи у нас не было, питались сухим пайком. В конце концов решили, что выбрали неудачное место и решили пойти вверх по течению в лесистые места. Мы прошли, наверное, с полкилометра, когда нам вдруг встретились два молодых человека с ружьями. Замечу, что был август, и осенне-зимний охотничий сезон, вероятно, ещё открыт не был.
Мы с ними поздоровались, они ответили на наше приветствие. Заметив у меня ружьё, приняли за своего – охотника (ну или браконьера, если будет угодно). Они поделились с нами любопытной информацией:
– Вы пришли вовремя, мы как раз уходим, «пост» оставляем вам. Справа болотистое озеро, под вечер на него садятся стаи уток, можете пострелять. Утки после выстрела улетают, но через полчаса или чуть более прилетают снова. А слева брод через реку. На том берегу найдёте землянку, где можно пожить или переночевать.
– Большое спасибо, вы нам очень помогли.
– Счастливо оставаться, удачи вам!
Первым делом мы решили осмотреть «жильё». По броду (воды чуть выше колена) перешли на другой берег. Отыскали землянку. Она заманчиво звала войти в неё. Деревянная дверь со стеклянным окошечком. Сверху насыпана земля, на «крыше» растут травы и цветы, а когда мы открыли дверь, на нас пахнуло свежим ароматом сена – из него была устроена мягкая постель. Перед землянкой было место для костра, можно было начинать готовить ужин.
Я оставил там ребят, а сам снова через брод пошёл к озерцу в засаду. Улёгся среди камыша и стал терпеливо ждать появления летающей дичи. Птиц долго не было, уже начало смеркаться. Вдруг целая туча уток села на озерцо, буквально метрах в двадцати от меня. У меня глаза разбежались – такой выбор, не знаешь, в какую стрелять. Я выбрал крайнюю. Можно было прицелиться, скажем, во вторую с краю – тогда мог бы ранить не одну. Но я не был кровожаден и считал свой задачей просто попасть в цель. Мушку ружья было уже плохо видно, и я больше ориентировался по стволу.
Выстрелил. Утки с шумом поднялись в воздух и улетели. Одна осталась, трепыхаясь на воде, потом стихла. Пришла пора задуматься, как подбирать добычу. Плыть, не зная глубины, опасно, так как водоём сильно зарос – можно запутаться в траве. Поэтому я решил проверить глубину и состояние дна. Разделся донага и медленно двинулся от берега по какому-то мягкому зыбкому дну, почти не чувствуя почвы под ногами. Вероятно, погнившая буйная растительность десятилетиями оседала на дно и превратилась в зыбкое месиво.
Я постепенно углубляюсь. Вода уже по грудь и выше. Вот добыча наконец-то рядом, и я её забираю. Двигаюсь обратно тем же способом и путём. Одеваюсь и снова ложусь в засаду.
Я прождал ещё какое-то время, но оказалось, что утки не дурнее меня, скоро они не вернулись. Зато уже почти совсем стемнело. Я решил больше не ждать и пошёл к своим. Перебрался через брод, ориентируясь на костёр, к которому и подошёл с добычей. Однако восторга ребята не выразили. Оказывается, они волновались за меня, поскольку слышали один выстрел, а потом – тишина в течение почти получаса. Мало ли что могло случиться!
Фая и Володя не ужинали, ждали меня. После того, как мы поели, залегли в землянку спать. Здесь было куда уютнее, чем под открытым небом. Выспались мы хорошо. Утром, позавтракав, решили двинуться домой. Перед дорогой мы с Володей присели покурить, и Фая нас сфотографировала: полулежащих, между нами на траве ружьё, патронташ, котелок и добыча. К слову, с убитой уткой никто из нас не захотел возиться, да и опыта не было, поэтому решили взять её домой. Вроде как отчитаться за патрон (шучу).
Собрали вещи. Перешли брод. И по тропинке, протоптанной охотниками и рыболовами, двинулись в обратный путь. Когда вышли из леса на поляну, увидели зайца, шмыгнувшего в прибрежное мелколесье. Реку с тропы из-за лесочка видно не было. Я скомандовал ребятам:
– Идите к реке и постарайтесь выгнать зайца на поляну.
– Мы сейчас, мигом.
Они побежали к реке, затем, идя по лесочку, стали кричать и стучать по деревцам палками. У них это так хорошо получалось, словно им часто приходилось выгонять из леса зверей. Я стоял у кромки леса, не очень надеясь на успех. Но не прошло и пяти минут, как заяц выскочил на поляну, спасаясь от шума. Я тут же вскинул ружьё и выстрелил в скачущего зверька. Он совершил неимоверный кульбит и рухнул наземь. Когда я к нему подошёл, он был ещё жив и жалобно попискивал. Но к приходу ребят уже успокоился. Мы положили его в рюкзак. Теперь нашу охоту можно было считать удачной: два выстрела – два трофея. Любопытно, прошло почти четыре года, как я не держал в руках оружия, а армейская стрелковая подготовка не забылась.
Придя домой, добычу передали Ивану Гавриловичу. На обед у нас была зайчатинка, запивали которую мы домашним хмельным вкусным пивом (мама сама хорошо умела его готовить, а хмель выращивала на своём приусадебном участке).
Так и закончился мой отпуск. Пора было ехать на работу.








