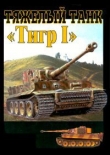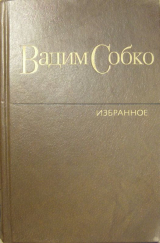
Текст книги "Избранные произведения в 2-х томах. Том 2"
Автор книги: Вадим Собко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 46 страниц)
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Объявление в цехе на этот раз было чёрным. А сам художник стоял у своего произведения, сияя круглым лицом, как новый пятак, и каждому говорил:
– Клава вчера мне сына родила!
И его счастливая улыбка, как в зеркале, отражалась на лицах товарищей.
Борису Лавочке Венька тоже сказал о своей радости, и тот восторженно воскликнул:
– Красота! Устроим общественные крестины. Ох, и выпьем! На законных основаниях! – Был Борис в отличном настроении, вызывающе весел и беспечен, будто и понятия не имел о предстоящем собрании.
Когда Лука вернулся с летучки штаба трудовой вахты, Феропонт уже разложил заготовки, приготовил резцы. О вчерашнем случае ему почему-то было и приятно вспоминать, и стыдно. Жаль, не удалось до конца обточить тот фланец. Ничего, пусть они не очень-то задаются, все эти Назаровы, Лихоборы, Бородаи. Феропонт им всем ещё нос утрёт, покажет, как надо работать, а тогда заявит: «Всего вам хорошего, будьте здоровы, живите богато. Эта работёнка не для меня, простовата». И примется за конструирование электромузыкальных инструментов. Взглянув на хмурого Луку, Феропонт иронически заметил:
– Ты, оказывается, переживаешь за Лавочку больше, чем сам виновник торжества. Вон он какой весёлый.
– А ты не переживаешь? Жаль.
– Это с какой же стати? По-твоему, я должен переживать за всякого прохиндея, который готов превратить цех в своё подсобное хозяйство?
– Приказать себе переживать человек не может. Или у него есть это чувство, или его нет. А на нет, как говорится, и суда нет.
– И отсюда прямой вывод о моей неполноценности и отсутствии коммунистической сознательности.
– Выводы делать преждевременно, но родным для тебя наш цех ещё не стал, – сказал Лука.
Феропонт возмутился:
– Ты хочешь, чтобы это случилось за какие-нибудь два месяца. Не рановато ли?
– Хорошо, давай заготовку. Что у нас сегодня?
– Обточка сектора управления двигателями.
– Ясно. Смотри, как его надо закреплять. Видишь, насколько тонок дюраль и, следовательно, какая должна быть точность…
– Это уже не точность, а почти нежность.
Они работали вместе, и случались минуты, когда Луке достаточно было только подумать, как Феропонт догадывался, что от него хочет инструктор.
В обеденный перерыв в красном уголке собрались рабочие. Никто на этот раз не смеялся. Люди устали от затяжной штурмовщины, большие заработки не радовали. Но без «землетрясения», как говорил Горегляд, перейти к выпуску новой модели самолёта не было возможности. Все это понимали, никто не жаловался, только нервы у всех натянуты, как струны. Осторожнее с ними, не оборви!
Борис Лавочка пришёл в красный уголок с таким видом, словно ему предстояло получить премию. Улыбнулся, хотел было пошутить, но не решился: многовато вокруг хмурых лиц, не до шуток. Лука Лихобор, проходя к столу президиума, отвёл взгляд от ищущих глаз Бориса, и именно эта деталь взволновала и встревожила Ларочку. Что они надумали, профсоюзные вожди?
Начальник цеха и парторг сели в сторонке – профсоюзное собрание, не хотят мешать, пусть, мол, разбираются сами рабочие.
– Товарищи, – сказал Лука Лихобор и подумал, как же хорошо звучит в трудную минуту это привычное слово «товарищи», – мы собрались сегодня, чтобы поговорить о Борисе Лавочке. О его жизни и доле, о работе и будущем.
Вынул откуда-то из-под стола и положил перед собой спиннинговую катушку, холодный дюраль блеснул матовым серебром.
– Полюбуйтесь, товарищи, что делает в нашем цехе токарь Борис Лавочка. И это не случайность. Вот акты из милиции и вытрезвителя, оказывается, Лавочка и там бывает чаще, нежели мы с вами знаем. Когда-то мы сами спрашивали себя: а где он деньги берёт на водку? Теперь всё ясно: за такую спиннинговую катушку рублей десять дадут.
– Иногда и пятнадцать, – добродушно, будто речь шла не о нём, поправил Лавочка.
– Вот видите, даже и пятнадцать. А производство своё Лавочка поставил на широкую ногу.
– Товарищем ты меня уже не называешь, – возмутился Лавочка. – Да мне плевать на это! Хоть горшком назови, только в печь не сажай.
– Вот собрание и решит, куда тебя сажать.
– Руки коротки, – спокойно и уверенно бросил токарь. – Выгнать меня можете, посадить – дудки!
– Хорошо, тебе потом дадим слово. Есть вопросы, товарищи?
– Из каких материалов катушки? Из краденых? – спросил Бородай.
– Это трудно сказать, видимо, из отходов дюраля, непригодных для производства. Но, строго говоря, материалы, конечно, краденые, потому что этот металл снова идёт на переплавку. Ещё какие вопросы?
– На сколько я выполнил план прошлого месяца? – нахально посматривая на Лихобора и ухмыляясь, спросил Лавочка.
– На сто семь процентов, – ответил Лихобор, он хорошо подготовился к собранию.
– Ого-о-о! – довольно прокатилось по красному уголку.
– Да, токарь Лавочка – прекрасный мастер, и вы можете представить, сколько деталей для новой машины он мог бы дать за время работы над этими катушками. Именно потому, что у него золотые руки, администрация не уволила его с завода, а согласилась обсудить на профсоюзном собрании. И я предлагаю, товарищи, высказаться ясно и определённо, с конкретными предложениями, чтобы сам Лавочка хорошо знал наши взгляды на его предпринимательскую деятельность. Он в нашем коллективе больше десятка лет, у нас вырос в настоящего мастера, значит, мы за него отвечаем. Есть ещё вопросы?
– Что мы ему можем сделать?
– Что захотим. Можем просить администрацию уволить с завода, а можем передать дело в суд…
– Не имеете права! – крикнул Лавочка. – Я не вор.
– Имеем право. А крал ты или не крал, это следствие установит. Можем выговор влепить или занести на чёрную доску… – Лука на мгновение замолк, колеблясь, говорить или нет. – Наконец, можем исключить из профсоюза.
– Как это исключить из профсоюза? – Лавочка побледнел от неожиданности. – Не имеете такого права!
Странная вещь: казалось бы, незначительное наказание – исключение из профсоюза – а испугало токаря. В жизни бывало всякое: я его фамилию, и таких, как он, вывешивали на чёрную доску, иногда снижали им премии или вовсе лишали «тринадцатой зарплаты», пропесочивали в стенгазете, наконец. даже увольняли с работы. В мелькании будней Борис не часто вспоминал профсоюз. Случалось это, когда приходилось платить членские взносы, подавать заявление на путёвку или определять сыновей в детский сад. Членом профсоюза Борис был с тех пор, как начал работать и ещё никогда не слышал, чтобы из профсоюза кого-то исключали. Из партии – да, там высокая ответственность, звание коммуниста нужно нести незапятнанным, серьёзно проштрафился – клади партбилет на стол. Но чтобы из профсоюза… невероятно! Прийти на другой завод и просить, чтобы вновь приняли его, токаря шестого разряда… Куры засмеют! Нужно бог знает какую гадость или подлость совершить, чтобы тебя исключили из профсоюза! Вот странно, не думал, не гадал, чтобы такой пустяк…
А может, не обращать внимания, подумаешь, ну и исключат, великое дело! Оказывается, великое. Выходит, будто все от тебя стеной отгородились. Паршивую овцу – из стада долой. Хоть ты и токарь шестого разряда. Зелёный ученик – и тот лучше тебя. Даже этого малохольного Феропонта коллектив принимает, а тебя, как погань какую, выбрасывает.
Собрание притихло. Каждому подумалось: если бы его вдруг вздумали исключить, болело бы сердце или нет? Болело, ох, как ещё болело бы! Это похоже на руку: пока она здорова, не ценишь её и внимания не обращаешь. А попробуй отнять… Вот то-то и оно, наплачешься!
Трофим Горегляд потрогал свои короткие усы, довольно посмотрел на Лихобора: хорошо повёл собрание предцехкома, нашёл больное место в душе не только Бориса Лавочки. Ещё не один парень задумается после такого собрания. Для всего цеха хороший урок. Может, это и есть школа коммунизма! Нет, собрание, где обсуждается судьба пьяницы, не школа коммунизма. А что же оно такое? Пусть не высокая, изначальная, а всё-таки школа. И преподаватели в ней, во всему видно, сильные.
– Дай-ка мне слово. – Фрезеровщик Савкин неторопливо прошёл к столу. – Я думаю так: толковать здесь очень-то нечего. Этого алкаша надо в шею гнать из цеха, а дело передать в суд. И всё.
Удивительно, но эта, казалось бы, суровая угроза не произвела большого впечатления на Лавочку. Ну, подумаешь, присудят год платить двадцать пять процентов от зарплаты. Ничего особенного. День поговорят, два поговорят, а потом и забудут, лишь бухгалтерия вспомянет, да и то в дни получек.
– Правильно, – сказал он. – Суд разберётся, я согласен.
Поднялся Евдоким Бородай, тоже подошёл к столу, разгладил пальцами прокуренные, рыжие усы, будто дорогу словам расчистил.
– Полюбуйтесь, товарищи, какой он сидит, нахальный, самоуверенный. Подойти бы к тебе, набить бы морду при всех честных людях.
– Руки коротки! – крикнул Лавочка. – Это самосуд!
– Не коротки. Морду набить и словами можно – век не отмоешься. Вон молодые ребята, ученики, на тебя, опытного мастера, смотрят и диву даются, откуда этакая короста на рабочем классе завелась. Давайте подумаем, отчего он такой самоуверенный? А потому, что знает, у нас не капитализм, а родная Советская власть, нет безработицы. От нас выгонят – на другой завод возьмут. Вот он и сидит, как чирей, на спине у Советской власти…
– Я ей сто семь процентов плана выдал! – крикнул Лавочка.
– План дал, а у молодёжи веру в самое главное – в честность рабочего класса отнял. И есть ты не что иное, как остаток капитализма в нашей жизни. Давайте докажем всем: эти гнилые остатки мы осуждаем и потому выбрасываем его из профсоюза. Недостоин Лавочка называться советским рабочим. Токарем – пожалуйста, а советским рабочим – нет! Не заслужил он такой чести. Предлагаю исключить. И в газете написать о нашем собрании, не в заводской многотиражке – в «Вечернем Киеве». Пусть весь город знает, какого права мы лишили Бориса Лавочку. У меня всё.
Красный уголок загудел, как встревоженный улей.
– Дай мне, – попросил слово Долбонос. – Поддерживаю предложение исключить из профсоюза…
– А я предлагаю, – тихо, но почему-то очень чётко, так, что было слышно в дальнем углу зала, сказал Венька Назаров, – дать Борису Лавочке испытательный срок три месяца. Нет у него рабочего характера, сорвётся, попадёт опять в вытрезвитель или катушки снова начнёт вытачивать – не товарищ он нам. И тогда – вон из профсоюза! Только давайте вспомним, кто из нас с Борисом не выпивал? Значит, и об этом тоже не мешает подумать. Никто с ним выпивать не имеет права.
– А без него? – насмешливо прозвучало из рядов.
– Мы не ханжи и не монахи! Мне жена сына родила, думаешь, я на радостях рюмку не выпью? Ещё как! Три месяца испытательный срок! Не выдержит – гнать из профсоюза.
От этих простых слов Борис Лавочка всё ниже и ниже опускал голову, она словно всё глубже и глубже врастала в его плечи. С какого это времени членство в профсоюзе стало для него таким важным? Право называться рабочим… Важно это или не важно? Как можно лишить кого-нибудь этого звания? Имей умелые руки – и, пожалуйста, ты рабочий. Но, оказывается, не тут-то было. Стоял Борис Лавочка словно над пропастью, и ему страшно стало: не сорваться бы…
Валька Несвятой встал и тоже гнёт линию Лихобора, о народном суде не вспоминает, а предлагает лишить его, Бориса Лавочку, права называться рабочим. Ну, чёртовы души, бьют все по больному месту. Что ему, Борису, делать? Может, встать и попросить прощения, дать обещание, что пьянке конец. Нет, не дождутся!
Кто-то ещё говорит. Словами и вправду можно исхлестать человека почище, чем кулаками. Горегляд поддерживает Веньку Назарова, все дудят в одну дуду.
– Будешь говорить, Лавочка? – дошли до сознания обращённые к нему слова.
Поднял тяжёлую, будто свинцом налитую голову, обвёл глазами собрание, надеясь поймать хоть один сочувствующий взгляд, и не нашёл сочувствия, махнул рукой и сказал:
– Делайте, как знаете. Ваша воля.
– Итак, поступило предложение дать токарю Лавочке три месяца испытательного срока, – сказал Лука. – А потом вернуться к этому вопросу, а может, если исправится, так и вообще не возвращаться. Есть другие предложения? Нет? Всё-таки ставлю вопрос на голосование: кто «за», прошу поднять руки.
Борис Лавочка не выдержал, взглянул.
– Единогласно. С твоим вопросом, Лавочка, покончили. До конца перерыва пять минут, сейчас краткая информация начальника цеха о выполнении плана выпуска деталей для новой машины.
– Мне можно остаться? – неуверенно спросил Лавочка.
– Можно, – торжественно разрешил Лука. – Прошу, товарищ Гостев.
Когда окончилось собрание, Феропонт вернулся к станку, с каким-то особым интересом посмотрел на своего инструктора, потом сказал:
– А ты, оказывается, сила.
– Нет, сила не я, – ответил Лука. – Настроение собрания – вот где кроется сила. А я только сумел его уловить.
– Чего испугался Лавочка? – Феропонт пожал плечами. – Подумаешь, профсоюз! Имею я этот билет или не имею…
– Тебе безразлично, – закончил его мысль Лука. – Ведь ты у нас временный, всего-навсего зарабатываешь право поставить в анкете слово «рабочий».
Феропонт густо покраснел.
– Не сердись, – сказал Лука. – Я процитировал твою любимую поговорку.
– Значит, ты не только Лавочке, но и мне урок преподал? – Парень рассердился. – Ничего из этого не выйдет! Пустой номер.
– Я тоже так думаю, – спокойно согласился Лука и тем самым окончательно разозлил Феропонта. – Для тебя это, как мультфильм, забава.
– Ну, и послал мне господь учителя, – сквозь зубы процедил Феропонт. – Вот подожди, будут перевыборы в цехком, я тебя жирной чертой вычеркну. И не я один…
– Договорились, – сказал Лука.
– Отчего ты всегда со всем соглашаешься? – Феропонт не мог скрыть своего возмущения.
– Меня об этом Майола тоже как-то спросила. Почему же мне не соглашаться, если ты и она правы?
– Вы с ней встречаетесь?
– Реже, нежели мне хотелось бы, – признался Лука.
– И реже, чем хотелось бы ей, – бросил Феропонт, почувствовав в боевых позициях Луки слабое место. – Она, может, влюблена в тебя, мой дорогой инструктор-наставник, как кошка. – Феропонт хитровато скользнул взглядом по сконфуженному лицу Луки.
– Нет, – сказал Лука, – этого не может быть. И вообще замолчи.
– Подумать только, какого чуда в жизни не увидишь. Чтобы из целого полка женихов выбрать тебя, нужно умом тронуться. Впрочем, все Саможуки немного чокнутые.
От этого разговора Феропонт получил истинное удовольствие. Увидев, что попал в цель – в наивную и беззащитную влюблённость Лихобора, он сначала несказанно удивился, а потом пожалел своего инструктора: по всему видно, много горя и страданий принесёт ему Майола. И он снисходительно посоветовал:
– Послушай, инструктор, ты хороший парень и чувств своих скрывать не умеешь, ты мне нравишься. Так вот, внемли слову человека младшего, но в этих делах, может, более разбирающегося, чем ты: если можешь, постарайся отделаться от моей кузины. Ничего, кроме боли и несчастья, она тебе не даст, ты для неё забава, этакий живой Буратино. Очередная победа Майолы, правда, не очень блистательная, но всё-таки победа. Давай лучше дружить со мной, меньше будет разочарований…
– Подай-ка мне вон тот резец, – сказал Лука.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Венька Назаров пришёл на работу, ступая будто не по земле, а по лёгким, прозрачным, розовым облакам. Вчера генеральный конструктор, сам, никто ему не напоминал, пригласил его, усадил в тяжёлое, поскрипывающее новой кожей кресло и сказал:
– Хочу вас поблагодарить, товарищ Назаров. Ваш рисунок помог мне понять одну конструкцию в самолёте, который пока существует только в воображении. Я над ним думаю. Не могу вам показать, чем именно вы мне помогли, ничего похожего на ваш рисунок в моём самолёте не будет, но вы натолкнули меня на мысль, и решение пришло именно тогда, когда я увидел ваш плакат. Вы теперь с полным правом можете считать себя членом нашего инженерного коллектива…
Венька покраснел от удовольствия.
– А сейчас нужно подумать о вашем будущем. Раз в вашей голове способна зародиться такая идея, то было бы расточительством этого не заметить. Появилась одна, не исключено, что появится и другая. Не правда ли?
Ещё ничего не понимая, Венька кивнул. Идей он может выложить на стол не одну и не две – десятки. Если не больше…
– Какое у вас образование?
– Десять классов.
– Сколько вам лет?
– Двадцать шесть, женат, есть сын.
– Из школьной программы что-нибудь помните?
– Пожалуй, даже кое-что поприбавилось. Десятилетки одной маловато, чтобы работать на нашем заводе.
– Это верно. Значит, с вашего разрешения, поступим так: я прикреплю к вам двух инженеров, они вас немного подтянут, пойдёте на подготовительные курсы в институт» а осенью – учиться. Вам нельзя без высшего образования. Я имею в виду не вечерний институт. Нужен институт нормальный, с полным отрывом от производства. Мы все кровно заинтересованы, чтобы ваши идеи стали технически обоснованными как можно скорее. Вполне вероятно, что я ошибаюсь, но рискнуть стоит.
– Студенческая стипендия маловата, – Венька вздохнул, – Как на неё проживёшь? Может, лучше вечерний? Я в лепёшку расшибусь, а одолею…
– Нет, – возразил генеральный. – Я хочу видеть вас инженером раньше. Думаю, с директором вашего завода мы договоримся. Одну минуту. – Он дотянулся до кнопки, заговорщицки сверкнув своими светлыми, восторженными глазами. – Сейчас мы попробуем.
Венька думал, что это будет невероятно сложно, уговаривать директора придётся полчаса, и вообще неизвестно, что из этого выйдет, а всё решилось, как в сказке, по щучьему велению; для таких людей обычные мерки и представления оказались неподходящими,
– Скажи, сможет завод обеспечить фрезеровщику Назарову стипендию в размере средней зарплаты? – спросил генеральный.
– Это тот, что самолёты рисует? – прозвучал в комнате голос директора, он, оказывается, знал свой завод куда лучше, чем думал Венька. – В институт его хочешь?
– Да, с полным отрывом от производства.
– Ему можно. – ответил директор. – Договорились.
– Ну, вот и всё, – сказал генеральный. Он посмотрел на Веньку, у которого от волнения пересохло во рту. – Теперь принимайтесь за работу. Желаю успеха. Скоро будете мечтать уже на другой, более высокой, чем рисунки, основе.
Именно потому-то и пришёл Венька Назаров в родной цех, ступая по облакам. Взглянул в последний раз на свой плакат, украшенный сказочным самолётом, и даже засмеялся от счастья. В нашей жизни настоящий талант не может остаться незамеченным. А он, Венька Назаров, талант? Вот здесь начиналась область сомнений…
И, конечно, о своём разговоре с генеральным Венька не умолчал, всё рассказал, и в первую очередь Луке Лихобору. Феропонт стоял рядом и молча слушал, нервно дёргая себя за короткую бородку, и почему-то старался не смотреть на Веньку.
– Работа будет каторжной, но я работа не боюсь. – Назаров захлёбывался от своего счастья. – Одно страшновато – не поздно ли?
– Другие ещё позднее в институт поступают, – сказал Лихобор. – Вот я, например.
– Ты хочешь уйти с завода? – Феропонт удивлённо уставился на Луку, будто присутствие того в сорок первом цехе имело решающее, жизненно важное значение.
– Нет, я пойду на вечерний, уже договорились об этом. Ну, как мне жить без сорок первого цеха, сам подумай?
– Невозможно? – лукаво не то спросил, не то подтвердил Феропонт.
– Невозможно, – серьёзно ответил Лука.
– Работа будет каторжная, – сияя, повторил Венька. – Но кто боится работы? – И отошёл к своему станку.
– Вот когда-нибудь мы увидим, как взлетит в небо самолёт ВН-1, конструкции Вениамина Назарова, – сказал Лихобор. – Может, нам его и строить придётся…
– Нет справедливости на свете, – заявил Феропонт, когда Венька отошёл подальше от их станка. – Ну какой, скажи на милость, из него генеральный конструктор?
– А откуда же они берутся, генеральные?
– Не знаю. – Парень нахмурился, посерьёзнел. – Какая-то непонятная штука – жизнь. Гении оказываются совсем не там, где должны бы быть…
– Ты имеешь в виду себя?
– Нет, я разговорами о моей гениальности сыт по горло. Чего нет, того нет. Нам, грешным, остаётся работа…
Какая-то новая, серьёзная нотка прозвучала в голосе парня, и Лука насторожился: ох, как важно, чтобы сильнее прозвучала она, эта серьёзная нотка.
– Гёте когда-то сказал: гений – это один процент таланта и девяносто девять процентов труда, – напомнил он.
– Труд, труд, труд, – с ожесточением проговорил Феропонт. – Создали себе идола и молимся на него! Преступника исправляет труд, гениев создаёт труд, победу в войне приносит тоже труд… Панацея от всех бед. От порчи и от корчи, от лиха и от горя. А удачи, счастливого случая, когда человеку просто вдруг повезёт в жизни, разве не существует?
– Нет, существует, только предшествует ему всегда труд. Вот на стадионе футбольная команда: что ни удар, то гол, а у другой – что ни удар, то штанга. Скажут, повезло, а это чепуха! Везёт только мастерам, они свои удары отработали с точностью до сантиметра.
– Нет, человек всё-таки должен верить в удачу.
– Если хочет, пусть верит. Лично я думаю, счастье нужно заработать, создать собственными руками. Так-то оно надёжнее, вернее…
– Снова начинается агитация и пропаганда. – Феропонт махнул рукой. – Тебе не надоело тратить на меня столько времени?
– А я его, собственно говоря, и не трачу. – Лука засмеялся. – Ты уже сагитированный.
– Все вы страшно любите выдавать желаемое за действительность, – заявил Феропонт. – Осенью здесь меня только и видели! – Сказал и сам почувствовал, как фальшиво прозвучали его слова, смутился и, разозлившись на себя, добавил: – Одним словом, можешь не надеяться.
– Я своё дело сделал. Дальше ты сам пойдёшь.
– Господи! И что Карманьола в тебе нашла?
– В том-то и дело, что ничего. – Лука, взяв в руки заготовку, внимательно её оглядел. – Всё это ты придумал. А теперь давай быстренько к Горегляду, спроси, когда привезут остальные заготовки.
Феропонт в ответ недовольно шмыгнул носом. Лука Лихобор посмотрел ему вслед и похвалил себя за вы-держку. Да, собственно, ему и не трудно сохранять спокойствие. Всё стало ясным в его жизни. И странное дело, случилось это тогда, когда в опере, надевая лакированную туфельку, Майола как-то очень доверчиво опёрлась на его руку. Именно в это мгновение пришло счастье. Ничего ему не нужно, кроме вот такого нежного и откровенного доверия. О любви можно не говорить, он и так счастлив невероятно, может, даже незаслуженно счастлив.
Именно поэтому на него не действуют никакие намёки и уколы Феропонта. Счастье для человека – самое главное. И как это хорошо, что оно есть, это надёжное, глубоко спрятанное в душе счастье, потому что жить Луке Лихобору сейчас нелегко.
Сорок первый цех работает трудно, дышит надсадно, как спортсмен, который пробежал длинную дистанцию, но финиша ещё не видит. Сложен процесс перехода на новую модель самолёта. Сначала, работая по полторы смены, почувствовали напряжение заготовительные цеха, потом «землетрясение» расширилось, захватив механические, затем толчки его отдались там, где клепали фюзеляж, появился новый стапель – на нём будут собирать первый корпус нового самолёта, потом таких стапелей станет два, три, четыре, и, наконец, они и вовсе вытеснят старую модель. А «землетрясение» расширится ещё больше, захватив сборочные цеха, и как итог напряжённой творческой работы большого коллектива в воздух взлетит новый, совершенный самолёт.
К этому времени «землетрясение» в механических цехах уже стихнет, они перейдут на нормальную работу по графику, и можно будет ходить в театры и на катки, читать книжки или смотреть телевизор. И так будет до того времени, пока генеральный конструктор не разработает новую машину.
А сейчас над Киевом ещё звенят январские морозы, даже Новый год прошёл незаметно за работой, встречали его вместе с Майолой в заводском клубе.
– Хороша твоя девушка, – сказал, увидев их, старый желтоусый Бородай.
– Хороша, – согласился Лука, не желая задумываться над словами «твоя девушка».
Особенно запомнилось участникам встречи Нового года выступление Феропонта с электрогитарой. Ничего не скажешь, здорово играет, чертяка! Когда отгремели аплодисменты, он подошёл к Луке, поздоровался, словно и не заметив Майолы.
– Слышал? – спросил он. – Понравилось?
– Очень, – ответил Лука.
– А тебе? – Феропонт смилостивился, взглянул на свою родственницу.
– Поправилось, – ответила девушка.
– То-то же! – гордо подытожил парень и отошёл слушать слова одобрения, полной чашей пить свою славу.
Потом Лука с Майолой шли через заснеженный морозный Киев. Снегу ещё немного, но деревья все в искристом, пушистом инее. Высокие пирамидальные тополя на бульваре Шевченко стояли, как серебряные штыки, вонзившиеся в чёрное, беззвёздное небо.
– С Новым годом, с новым счастьем тебя! – сказал Лука, когда они остановились у дома на Пушкинской, и поцеловал девушку в губы.
– С новым счастьем! – ответила Майола. И странное дело, этот поцелуй, открытый, праздничный, ничего не изменил в их отношениях. Может, именно потому и не изменил, что был новогодний?
Однажды, где-то в феврале, когда целый поток уже не отдельных деталей, а узлов нового самолёта поплыл со всех концов завода к цехам предварительной сборки, Лука, вернувшись домой, зажёг свет и увидел на столе лист бумаги. Подошёл, взглянул. «Пожалуйста, завтра в двенадцать будь дома. Оксана».
Прочитал и не понял обыкновенных слов. До сознания они доходили медленно, будто продирались сквозь колючий терновник.
– В двенадцать будь дома, – несколько раз вслух повторил Лука и заволновался, не зная, беду или радость принесёт ему эта встреча. Завтра суббота, утром он зайдёт на завод, отпросится у Горегляда. Оксана не знает о «землетрясении», думает, что суббота у него выходной.
Зачем понадобился ей Лука? Надеется восстановить прежние отношения? Ничего из этого не выйдет, не властна теперь над ним Оксана. У французов есть хорошая поговорка: «Разогретое блюдо не бывает вкусным». Но не стоит загадывать. Завтра в двенадцать он будет дома. И удивился: об Оксане, оказывается, он думает спокойно, без сожаления и досады. Завтра они встретятся, и это будет встреча добрых и давних друзей, она не принесёт огорчения.
В тот вечер с каким-то особенным наслаждением Лука стал под холодные и колючие струйки душа. Растёрся мохнатым полотенцем, вернулся в комнату. На окне мороз разрисовал фантастически сказочные папоротники, на экране телевизора порхала лёгкая и грациозная балерина, почему-то похожая на Майолу. На столе белый прямоугольничек бумаги. Утро вечера мудренее. Пора спать. Он устал за последние дни. «Землетрясение» продержится ещё месяца полтора, не больше. Тогда можно будет и отдохнуть.
Утром, придя в цех, Лука попросил мастера отпустить его домой.
– Хорошо, иди, – сказал Горегляд. – Мне даже удобнее, если ты завтра всю смену отработаешь. Только знаешь что, – мастер прицелился прищуренным глазом в Лихобора, – здесь есть одна простенькая работа, ты оставь Феропонта, пусть попробует один, без тебя…
Лука забеспокоился. Правда, Феропонт уже работал самостоятельно, но тогда рядом стоял Лука, готовый в любую минуту прийти на помощь. И всё-таки должен же когда-нибудь парень сделать свой первый шаг. А что если ты, Лука, не заметил, как рядом с тобой вырос токарь, ну, пусть первого или второго разряда, но всё-таки токарь, а Горегляд присмотрелся и понял?..
– Какая работа?
– Простенькая. Вот эти валки ободрать. Пятьдесят штук.
– Хорошо. Пусть делает. Если и запорет одну-две заготовки, не беда.
– Не запорет. – В глазах Горегляда мелькнула усмешка, или только это показалось Луке. – Позови его.
Феропонт подошёл не спеша, вразвалочку, немного насторожённый в ожидании какого-нибудь подвоха и одновременно ироничный, снисходительно улыбающийся, посмотрел вопросительно.
– Товарищ Лихобор отлучится из цеха на вторую половину смены, – сказал Горегляд. – Вы, товарищ Тимченко, будете обтачивать эти валки. Вот техпроцесс, вот маршрутная карта. Поздравляю вас с первой самостоятельной работой и желаю успеха.
Феропонт взглянул и почувствовал глубокую обиду. Он надеялся, что задание будет сложным и ответственным, весь цех станет следить за ним, затаив дыхание. А тут, подумаешь, пятьдесят каких-то валков, которые после обточки пойдут на фрезеровку, а потом на строгальный станок, и после Термической обработки и закалки станут деталью сложного кронштейна. Никто и знать не будет, что это сделал он. Острое разочарование охватило Феропонта, захотелось махнуть рукой и сказать, что ему приходилось делать куда более сложную работу. Но посмотрел на Луку и Горегляда, увидел их озабоченные лица и сдержался.
– Имейте в виду, что работа вовсе на такая простая, как кажется, – сказал мастер. – Валки необходимо ободрать до конца смены.
– Где будет Лихобор? – недоверчиво спросил ученик.
– Во всяком случае, не в цехе, – ответил Горегляд. – Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь ко мне.
– Не будет вопросов, – как всегда, неожиданно разозлился Феропонт.
– Ну и отлично. Сразу после перерыва и приступайте. – Лицо мастера осталось подчёркнуто любезным. – Желаю успеха.
– Счастливо, – волнуясь, сказал Лука.
Феропонт заметил его беспокойство и разозлился ещё больше. Что они, в самом деле, о нём думают? Он не способен выполнить простейшую работу? Будто не учил его почти четыре месяца всем премудростям токарного дела Лихобор! Неужели не доверяют его, Феропонта, смекалке, культуре, наконец? Ладно, сейчас он им покажет.
– Хорошо, – стараясь оставаться невозмутимо спокойным, ответил парень и немного иронично добавил: – Спасибо за доверие.
Оставшись один, Феропонт осмотрел стеллаж, валки, сложенные горкой, похожей на двускатную крышу игрушечного домика, и расстроился. Казалось, всё ясно и просто. Зажми валок хомутиком, установи на центрах, включи мотор, подведи резец и нажми на рычаг самохода, всё остальное сделает сам станок. Единственное, что нужно, – своевременно измерить толщину валка, не сделать его слишком тонким, ну, это задача для учеников первого класса, а не для Феропонта.
И вдруг стало страшно. Одно дело, когда за твоим плечом стоит Лука Лихобор, и совсем другое, когда за всё придётся отвечать самому. Правда, каждую минуту можно обратиться к Горегляду, но до этого Феропонт не унизится. А интересно, ушёл Лихобор или наблюдает за ним из-за колонны? Оглянулся: нет, нигде не видно. Ну, что ж. начнём, пожалуй! Всё это очень просто. Берём валок…
Ох, как не просто всё это оказалось! Почему-то дрожат руки. Неужели он волнуется? Нет, он абсолютно, железно спокоен. Хомутик зажат, валок поставлен, включён мотор. Теперь подвести резец… Эта минута самая ответственная. А если сразу взять стружку на заданный размер? Нет, лучше возьмём потоньше, а потом пройдём валок ещё раз, уже точно по размеру. Включил самоход – едва заметно шипит, сдирается, завиваясь, тоненькая стружка…