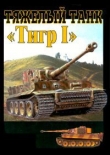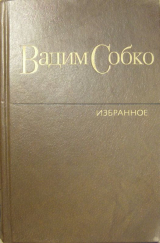
Текст книги "Избранные произведения в 2-х томах. Том 2"
Автор книги: Вадим Собко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 46 страниц)
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Шамрай остался один в центре огромного, оккупированного гитлеровцами города, где он никого не знал и где никто не знал его. Осмотрелся вокруг внимательно, будто перед боем провёл рекогносцировку местности. Ничего особенного. Улица широкая, просторная. Одна из тех авеню, которые лучами сходятся к площади, где стоит Триумфальная арка. На плане они ясно обозначены. Значит, от этой площади и надо танцевать, как от хорошо знакомой печки. Народу на тротуарах немного, так что нечего и мечтать затеряться в толпе. Он видит всех и всё видят его. Но в план заглянуть нельзя, ни в коем случае! Сразу обнаружишь себя. Дорогу он определил, ещё сидя в машине: от Триумфальной арки идти по улице Елисейские поля до площади Конкорд, потом свернуть направо, пройти мост через Сену и оттуда, как на учениях по ориентировке на местности, идти прямо на запад. Идти не очень быстро, но и не медленно. Он не бежит и не гуляет. Его послали выполнить обычное, не столь срочное поручение. Он никого и ничего не боится. Документы в порядке. Вот как он должен выглядеть.
Что ж, раз нужно – значит, будет выглядеть именно так.
И действительно, глядя на идущего к Триумфальной арке Шамрая, никто не подумал бы, что это беглый из лагеря и что его сердце замирало на каждом шагу. Но, на счастье, ещё никто не научился видеть, как замирает человеческое сердце.
Роману хотелось понять этот город, остановиться и долго стоять, всматриваясь, в лица людей, идущих рядом с ним по тротуарам. Если бы можно было заглянуть в их души… Возле Триумфальной арки прохожих стало больше. Внешне они отличались от Шамрая лишь тем, что не имели повязок на рукавах. Лица такие же, сосредоточенные, часто хмурые, идут, торопятся люди, каждый по своим делам. Никто не хочет оставаться на улице больше, чем надо.
«Почему же меня так тянуло в Париж?» – подумал Шамрай. На этот вопрос он не смог ответить даже теперь, стоя перед Триумфальной аркой. Почти невидимое в ярком свете апрельского солнца плясало газовое пламя на могиле Неизвестного солдата той далёкой, почти стёршейся из памяти первой мировой войны. Огромное полотнище со зловещим сплетением чёрных извивающихся линий свастики свисало с арки. Весенний ветер наполнял его, как парус, и тогда оно медленно колыхалось. Ветер вдруг стихал, и знамя, поникнув, замирало. Лапы свастики шевелились, как у живого отвратительного насекомого.
Шамрай оглянулся. Справа впилась в небо высокая, хорошо знакомая по иллюстрациям игла Эйфелевой башни. Над ней тоже развевалось гитлеровское знамя. Снизу оно казалось небольшим безобидным куском материи. Идти нужно не туда, а чуть левее. Вот эта улица и есть Елисейские поля.
Но почему всё-таки он, Роман Шамрай, пришёл в Париж? Военнопленный, убежавший из немецкого лагеря, и здесь, в Париже, в самом центре, на Елисейских полях… Невероятно. А может, в этом-то всё и дело? В невероятности. В логической невозможности случившегося.
Рота немецких солдат, четыре полных взвода, во главе с оркестром – зычные трубы и барабаны наполнили улицу бодрящими звуками боевого марша, – вышли на Елисейские поля. Удалые парни лихо поглядывали из-под рогатых стальных шлемов, сплочённо, вымуштрованно, как один человек, печатали подошвами сапог брусчатку улицы, будто хотели на веки вечные оставить на ней свои следы. Гитлеровский гимн «Хорст Вессель», требовавший от всего мира – «освободите улицы, мы идём», звучал над Парижем победно, хвастливо, и Шамраю показалось это таким омерзительным кощунством, что он чуть было не крикнул:
– Люди, чего же вы терпите? Бейте их!
Но вовремя спохватился и промолчал. Может, не только в его горле застрял сдавленный спазмой крик?
Прошла рота, самодовольная, откормленная и отутюженная, как для парада. Отзвуки фашистского марша ещё долго дрожали в воздухе над Елисейскими полями.
Старенькая женщина, сидя на краю тротуара, продавала фиалки, раскладывала букетики ровными рядочками. Кто в такое время может покупать фиалки? Очевидно, кто-то покупает, раз она здесь сидит.
Худенькая девушка с бело-розовым от пудры лицом, с ярко накрашенными губами и ресницами остановилась возле Шамрая, взглянула странно огромными глазами, словно плеснула тёмной водой из глубокого колодца, и спросила:
– Пойдём?
– Куда? – Шамрай не понял.
Девушка посмотрела на его повязку, засмеялась и отошла, виляя подолом юбочки: что ж, может, у неё когда-то и были красивые бёдра.
Около неглубокого туннеля – входа в метро – стояли два французских полицейских и немец. Проверяли документы. Войти можно свободно, но выйти… Система отработана. Нет, это не для Шамрая. Он поспешил очутиться подальше от этого места. Не попасть бы в облаву.
Всё-таки зачем он пришёл в Париж?
Буквы, написанные мелом на цоколе высокого хмурого здания, привлекли его внимание. Лёгким, стремительно летящим росчерком кто-то вывел одно слово: «Сталинград». Сами буквы появиться не могли. Значит, их написал человек, парень или девушка или вот этот в годах мужчина с позолоченными старомодными очками, с седой, старательно подстриженной бородкой.
Почему же не стёрли эти буквы? Их не заметили или не захотели заметить? Жаль, некого спросить.
На площади Конкорд – виселица. Висят, покорно свесив руки вдоль тела, двое мужчин и женщина. У всех на груди таблички, на них что-то написано. Издалека не разберёшь, а подойти ближе страшно. Может, те же слова: «Враг империи». Шамрай уже читал вблизи такую надпись.
Вот подойти бы и на выструганных досках эшафота чёткими буквами написать – «Сталинград». Шамрай даже вздрогнул, – так сильно и властно ощутил он это желание.
Люди шли мимо виселицы, не поднимая глаз, – стыдятся взглянуть на замученных, будто чувствуют перед ними свою вину. Прошёл и Шамрай.
От площади надо повернуть направо через мост. Нет ли там контрольного пункта? Кажется, нет. Установить проверку на мостах – это означало бы остановить вообще движение в Париже. И всё же через мост идти страшно.
Не беги, не ускоряй шаг, ты спокоен, ты никуда не спешишь. Слышишь, ты спокоен, спокоен, спокоен! Теперь железное, остроугольное кружево Эйфелевой башни вырастало из земли совсем рядом. Поставленная на четыре массивные ноги игла вонзилась в небо, как большая заноза.
Так зачем же ты всё-таки пошёл в Париж?
Это просто ребячья выходка, игра в жмурки со смертью. Неужели ты действительно рисковал жизнью, чтобы прогуляться по Елисейским полям, полюбоваться Эйфелевой башней? Не очень-то умная затей.
Под мостом поблёскивала Сена, серая и холодная. Вода неподвижная, густая, как ртуть, не понять даже, в какую сторону течёт.
Два немецких офицера идут навстречу. Сердито, громко разговаривают. Скорей всего, это конец… Или, может, повезёт и на этот раз?
Взглянули на Шамрая, на его повязку, поморщились и прошли, оставив за собой отзвук картавой речи. Пронесло.
Лейтенант машинально вытер со лба холодный пот. Нет, долго играть в жмурки с немцами не удастся: всё равно поймают…
И всё-таки город манил его, нравился всё больше и больше. Может, снова повторится та странная история, когда он, стараясь отдалиться от Парижа, шёл к нему? Нет, теперь нужно идти на запад, строго на запад. Париж он уже увидел.
Шамрай хорошо ориентировался по солнцу. Который теперь час? Часы на башне при въезде на мост показывали три. А может, они, эти часы, остановились с самого начала войны? Нет, вот конвульсивно вздрогнув, острая стрелка перескочила на одно деление. Часы не умерли!
Значит, вон там юг, а там запад. Он идёт правильно. Он незаметно прибавил шагу. Из города необходимо вырваться как можно быстрей.
Шамрай долго петлял кривыми улицами, по обеим сторонам которых выстроились серые неказистые дома. Чтобы не заблудиться, он рискнул осторожно вынуть свой план, сориентироваться. Окраина уже близко. Эту большую улицу, которая переходит в шоссе, ведущее в Гавр, наверное, пересекает шлагбаум. Значит, надо свернуть и найти обходные узенькие, незаметные улочки. Так человеческая кровь, если перетянуть артерию, находит мельчайшие сосудики и всё-таки появляется там, куда, её послало сердце.
Странно, сколько прошло времени, а не видно ни одного немца. Люди здесь встречаются редко, но держатся они увереннее, будто знают что-то своё, только им известное и доступное. Правда, избегают смотреть встречному прямо в глаза, но чуть заметно улыбаются.
Пить хочется. И есть тоже. Разве проверить, чего стоят немецкие марки? Кстати, в переулочке уютно расположилось маленькое кафе. Два стола на кривых железных ножках и четыре стула выставлены на улицу. Шамрай уверенно подошёл, сел. Солнце уже клонилось к закату. Улица залита его густыми лучами. По тротуару бежит мальчишка, а тень, втрое длиннее его, никак не может догнать паренька.
К столу Шамрая подошла женщина, высокая, черноволосая с орлиным носом и пышным бюстом, взглянула на Шамрая, не выражая ни удивления, ни особого внимания.
– Карточек, конечно, нет?
– Нет. Я хочу пить.
– А деньги есть?
Шамрай вынул марки.
– Хватит?
– Ещё останется, – женщина взяла одну бумажку. – Белого или красного? – Она и мысли не допускала, что Шамраю хочется только воды.
– Белого, – осторожно ответил Шамрай, вынимая из кармана оставшийся бутерброд. Развернув бумагу, подумал, может быть, половину оставить на завтра?
С какого это времени он стал думать о завтрашнем дне? До сих пор он жил только сегодняшним. Снова появилась черноволосая женщина, решительным движением поставила на мраморный столик кувшин с мутноватым вином и бокал.
– Не вино, а моча, – резко сказала она. – Приходи после войны, угощу настоящим.
«Французы очень болеют за репутацию своего вина», – подумал Шамрай. И вздрогнул, когда над ухом прозвучало:
– Из Бельгии прибыл?
Шамрай насторожённо взглянул на женщину.
Как она догадалась? Где он оплошал, чем выдал себя?
– Ха-ха-ха! Испугался? В штаны не напустил? – женщина рассмеялась, сверкнул ряд ровных, один к одному, крупных зубов. – Не бойся, полиции не выдам. Такой хлеб пекут только в Бельгии. Приходи после войны, вместе посмеёмся… если живы будем.
Ещё раз с грустной усмешкой, как на несерьёзного, пропащего человека, посмотрела на Шамрая и, толкнув полной рукой дверь, вошла в кафе.
Уже не раздумывая, оставлять ли кусок хлеба на завтра, Шамрай тут же уничтожил предательский бутерброд, запил вином, поднялся со стула.
Женщина снова вышла на улицу, словно поджидала; когда он поднимется из-за столика, остановившись в дверях, упёрла руки в бока.
– Там шлагбаум, – сказала она, протянув в сторону руку с длинным, как стрела на шоссе, указательным пальцем. – Тебе сюда.
– Спасибо, – с трудом выдавил Шамрай.
– Приходи после войны. – Женщина всё ещё не опускала пальца, указывающего Шамраю, в какую сторону ему следует идти, Роман готов был поклясться, что на нём было написано «Paris – 10». – Вино допей, за него уплачено.
Роман послушно допил вино и поспешил уйти. Хозяйка кафе посмотрела ему вслед, потом вытерла повлажневшие глаза и вздохнула.
– Пропадёт парень, непременно пропадёт… – проговорила она и, повернувшись, пошла к себе на кухню.
А тем временем Шамрай выходил из Парижа. Дома стали ниже, меньше, они уже не стояли, как прежде, рядами, почти подпирая друг друга, а словно разбежались в разные стороны, застыв один от другого на большом расстоянии.
Улица была пустынна, и лишь крыши домиков, спрятавшись в зелени садов, с любопытством посматривали на Шамрая. И вот первое вспаханное поле раскинулось перед его глазами. Солнце уже село, но ночь ещё не опустилась, и в вечерних сумерках вдали, за полем, Шамрай увидел тёмные кудрявые макушки леса. Когда он добрался до опушки, стемнело. Луна взойдёт ещё не скоро. Да и зачем ему луна? Ночной сумрак надёжнее укроет его до утра. Осторожно ступая, Шамрай увидел впереди странный холм. Посмотрев направо и налево, убедился, что перед ним ровная, метра два высоты, стена ноздреватой, уже подточенной дождями и ветром глины противотанкового рва; не удалось воспользоваться им французам. Что ж, пусть послужит защитой ему, Роману. Он недурно в нём переночует.
Цепляясь за корни, которые, будто гнилые переломанные кости, торчали из земли, Шамрай взобрался наверх стены, огляделся. Прекрасное место. От Парижа, может, километров восемь, а может, и все десять.
Тихо, чтобы не поднимать излишнего шума, собрал сухие прошлогодние листья, улёгся, уже не очень беспокоясь о том, как будет выглядеть завтра его пиджак. Закрыл глаза, но перед мысленным взором, как в кино, поплыл то стремительно, то медленно этот длинный-предлинный день, который был длиннее многих лет его обычной жизни.
Однако почему же он пошёл в Париж?
Вопрос остался без ответа, но Шамрай хорошо знал, что без этой дерзкой и, пожалуй, мальчишески-наивной поездки он дальше не мог бы жить. Кто-то написал «Сталинград» не только в центре города. Париж жил Сталинградом. Именно в этом сказалась его настоящая душа… Нет, не нужно преувеличивать. Может, его настоящая душа та старая женщина, которая сидит на обочине тротуара недалеко от Триумфальной арки и, ни на что не обращая внимания, продаёт трогательно милые букетики фиалок. Это – символ. Францию не покорили. Париж остался Парижем.
Усталость сковала всё тело, не шевельнуть ни рукой, ни ногой. Сейчас придёт сон, глубокий и успокаивающий. Шамрай припал щекой к своей сыроватой подушке, пропахшей едким запахом гнилой листвы, сладко зевнул и закрыл глаза.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Проснулся он внезапно. Выстрел ударил рядом, послышался звон пружины, которая послала свежий патрон вместо порожней гильзы. Глаза испуганно раскрылись, и сердце, всполошённо забившись, остановилось. Шамрай с трудом, медленно перевёл дух.
Голоса прозвучали где-то совсем близко.
– Лихт! – раздалась команда.
Вдоль леса хлынул яркий, ослепительный свет. Фары двух машин, как мощные прожекторы, вырвали из темноты чуть в стороне от Шамрая группу людей над обрывом противотанкового рва.
Шестеро мужчин и две женщины стояли, крепко прижавшись плечом к плечу. У всех руки за спиной, очевидно, связаны намертво. Синеватый свет, направленный только на них, бил ослепительными лучами в их иссиня-бледные лица, всё остальное поглощала непроглядная темь.
Неизвестно, кто они, эти люди, но сейчас их наверняка расстреляют те, скрывающиеся в темноте ночи. Всё точно продумано. Трудиться не надо: трупы упадут в противотанковый ров. Сверху притрусят свежей землёй – на это потребуется всего несколько минут.
– Ахтунг! – прозвучал высокий, истерический голос. В темноте клацнули затворы автоматов.
Шамрай смотрел только на лица осуждённых. Губы женщины, уже старой, седой, вдруг шевельнулись. Высокая и прямая, она стояла среди людей ниже её ростом и от этого казалась ещё выше.
«Что она хочет сказать?» – подумал Шамрай. Но женщина не вымолвила ни одного слова, она запела. Голос её, хрипловатый, низкий, звучал над лесной опушкой, набирая силу. В абсолютной, мёртвой тишине он звучал смело и угрожающе. Шамрай готов был поклясться, что это было именно так, тогда как на самом деле обессиленная, измученная женщина пела тихо. И сразу, почувствовав в песне свою последнюю поддержку, помощь в эту лихую минуту, её подхватили семь голосов: весь мир должен услышать их последнюю «Марсельезу».
– Штиль, швайген! – раздался всё тот же истеричный пронзительный голос.
Но песня не смолкла. Этим людям нечего было терять, и испугать их было невозможно. Они теснее прижались друг к другу, стали словно один человек с одним сердцем – и этим сердцем была их последняя «Марсельеза». Весёлая, бодрая, горячая, она казалась невероятной в эту страшную минуту, и всё-таки это была она, бессмертная «Марсельеза», боевая песня французской революции.
Осуждённые пели громко, исступлённо. Гимн звучал как вызов врагам, как наказ товарищам отомстить за них, как победа над страданиями, смертью. Они презирали её.
Вдруг послышался приглушённый песней выкрик. Слов разобрать было невозможно, но темнота сразу брызнула огнём, и трассирующие пули пронзили её кроваво-огненными злыми светлячками.
Люди упали не сразу, но «Марсельеза» стихала, и, наконец, только один женский голос повёл песню. Седая высокая женщина рухнула последней. Ноги её подломились в коленях, и она медленно сползла вниз. Песни не стало. Над противотанковым рвом воцарилась тишина. Автомобильные фары светили по-прежнему неумолимо резко. В их свете появился низкорослый горбатый офицер. Правда, горба у него не было, но короткое туловище и короткая шея, отчего голова казалась вросшей в плечи, пронзительный лающий голос и исступлённо злое выражение лица делали его похожим на горбуна. Он подошёл к краю рва, наклонился, разглядывал. Весь хорошо освещённый ослепительным светом фар, офицер вынул пистолет с длинным стволом и выстрелил в яму восемь раз. Потом махнул рукой, и несколько солдат с лопатами спрыгнули в ров. Зашуршала сухая земля, выросла ещё одна братская могила.
Шамрай смотрел, не отрываясь, забыв об опасности, кровь леденела в его жилах. Кто были они, эти люди? Неизвестно. Ясно только одно: они боролись против гитлеровцев. И видно по всему, боролись отважно, раз фашисты предали их смерти.
«Марсельеза» ещё звучала в ушах Шамрая. Хотелось вскочить, броситься на этого мерзкого горбуна-офицера, дотянуться руками до тонкого, птичьего горла. И душить, душить с остервенением, ненавистью… Всё существо Шамрая требовало действия, немедленного, решительного, и только железным усилием воли он мог заставить себя неподвижно лежать на земле.
А потом над его ухом послышалось рычание, глухое, захлёбывающееся от злобы, и сразу острые клыки вонзились в ногу Шамрая. Он вскинул руки и схватился за густую собачью шерсть. Огромная овчарка, умная, отлично обученная, натасканная на человека, крепко прижала его к земле, вцепилась всей пастью в затылок.
Шамрай знал силу немецких овчарок, нечего даже и думать, чтобы разжать эти острые, как клинки, беспощадные зубы.
– Рекс! – крикнул, подбегая, офицер.
Собака только зарычала в ответ, не разжимая пасти.
Через мгновение Шамрай уже стоял перед гестаповским офицером.
– Интересно, – проговорил немец. – Оказывается, этот лес вовсе не такой безлюдный, каким представляется на первый взгляд. Рекс, ищи! Кто там есть ещё? – Этот вопрос уже относился к Шамраю.
– Больше никого. Я один.
– Сейчас проверим. Спустить собак! Кто ты такой?
– Военнопленный.
– Документы?
– Нет документов.
– Так… Взять его, поехали, – скомандовал эсэсовец солдатам…
Весь наступивший день Романа Шамрая пытали в подвале небольшого домика гестапо. Название этого тихого французского городка, куда они приехали на рассвете, он не знал и не очень-то этим интересовался. Разве не всё равно, в застенках какого гестапо ты помрёшь, парижского или провинциального. Боль везде остаётся болью.
В провинциальном гестапо тоже нашлись свои искусные мастера заплечных дел. Они тщательно изучили человеческий организм, работали с глубоким научным знанием дела. Всё рассчитано на то, чтобы жертва чувствовала мучительную боль как можно дольше, не теряя сознания.
Пытки здесь превратились в своеобразное искусство.
Шамрай испытал это полной мерой. От боли темнело в глазах и беспамятство казалось желанной мечтой, избавлением от страданий, но палач останавливался именно в тот момент, когда мог наступить обморок.
– Откуда ты убежал? – спрашивал офицер.
– Из Бельгии.
– Куда шёл?
– Не знаю.
– К кому?
– Не знаю.
Шамрай говорил чистую правду. Он просто не сумел да и не успел придумать какую-нибудь более или менее правдоподобную небылицу. О шахте «Моргейштерй» и о памятник? Ленину он принудил себя забыть навсегда. Даже смерть не вырвала бы из его уст это воспоминание. Но о Ленине не спрашивали: никому и в голову не приходила мысль, что этот прилично одетый русский мог убежать из Германии. Эсэсовцев интересовала Франция.
– Ты был в Париже?
– Был.
– Кого там знаешь?
– Никого.
– Попробуй вспомнить.
– Мне некого вспоминать. Я всего-навсего прошёл через Париж.
Счастливый и тихий апрельский день промелькнул перед глазами Шамрая. Как давно это было. Где-то совсем в другом мире, в иной жизни…
– И тебя никто не задерживал?
– Никто.
– Фриц, поработай-ка ещё немного.
И снова боль, нестерпимая, жестокая… На этот раз беспамятство пришло: Фриц упустил момент – перестарался. Шамрай, очнувшись, увидел палача, который вынимал из его руки похожую на осиное жало иглу маленького шприца. Да, в застенках гестапо всё делалось по-научному: эсэсовцы точно знали, как мгновенно вывести допрашиваемого из обморока или шокового состояния.
– Опомнился, падло! – сказал Фриц, вкусно позёвывая, широко, как гиппопотам в зоопарке, раскрывая большой, полный крепких зубов рот и стирая платком с круглого курносого лица, покрытого густыми веснушками, следы пота и крови. Не лёгкая эта работа быть гестаповским палачом.
– Подожди! – Эсэсовец махнул рукой и строго спросил Шамрая: – Может быть, ты всё-таки вспомнил?
– Нет, – твёрдо ответил лейтенант.
– Ночью мы тебя расстреляем.
– Знаю.
– К кому ты шёл?
– В маки.
– Где это?
– На юго-западе от Парижа.
Где находились маки, горбун отлично знал. Целый район, даже не лесной, а обыкновенный равнинный с полным правом мог называться «Маки». Но не мог же этот костлявый русский идти туда наобум. Должна же быть у него какая-нибудь связующая ниточка! И до неё нужно добраться.
– Фриц, за дело!
В такие моменты смерть уже кажется другом, а не врагом, и приход её не пугает, а радует. Куда же она запропастилась? Почему забыла о нём, Шамрае?
И снова, снова, снова… в двадцатый раз:
– К кому ты шёл?
– Не знаю.
– Куда?
– Не знаю.
«Или этот человек невероятной силы, закалённый большевистский фанатик, или он в самом деле ничего не знает, – думал офицер, всматриваясь в искажённое пыткой лицо Шамрая. – Может, всё, что он сказал, правда? Просто удалось бежать, и пошёл, куда глаза глядят, лишь бы вела дорога. Тогда почему он оказался на месте расстрела? Случайность? Может быть, и случайность. Хотя всё же это очень странно. Не вернее ли всё-таки первое предположение?»
– Фриц, а ну ещё…
Неизвестно, сколько может выстрадать человеческое тело.
Мысли медленно, как сонные рыбы в аквариуме, проплывали в те редкие минуты, когда Фриц отдыхал. Из гестапо ты, Роман, живым уже не выйдешь, это ясно. Смерть тебя больше не пугает, ты зовёшь её… Так ускорь её приход.
– Сталинград! – неожиданно громко сказал лейтенант.
– Что? – подскочил к нему горбун.
– Сталинград! Был Сталинград. Понимаешь ли ты это, собака? Я не выйду живым из гестапо, но и тебя повесят! Недолго тебе осталось поганить землю.
– Кто?
– Наши. Сталин.
– Фри-и-и-иц! – тонко, как ужаленный, завопил офицер.
Неужели это ещё не смерть? Нет. Снова нестерпимая, лютая боль тугими беспощадными иглами пронзает всё тело и, наконец, как избавление, как спасение, тёмная пропасть беспамятства…
– Укол, – приказал гестаповец, дыша как запалённая лошадь.
– Это будет третий. Он умрёт, – предупредил Фриц»
– Тогда не надо… – согласился офицер. – Утром его расстреляем. Он всё равно не заговорит. Брось его пока в камеру.
– Там же…
Было неясно, о каком секрете он не отважился напомнить своему офицеру.
– Да, правильно, туда нельзя, – согласился с ним горбун. – Давай его в подвал флигеля.
В подвале ненадёжная решётка.
– Надень наручники. В наручниках он не убежит.
– Да, в них не побегаешь, – Фриц усмехнулся.
Так очутился Шамрай в тесном, похожем на каменную коробку подвале. Когда он очнулся, в зарешечённое окошко под невысоким потолком косо светило солнце. Значит, уже вечер. От слежавшейся соломы на каменном полу несло гнилью. Роман попробовал пошевелиться. Истерзанное болью тело, как чужое, не подчинялось. Эти мучения он долго не забудет. Долго? До завтрашнего утра.
Хотел вытереть ладонью со лба холодный пот, шевельнул рукой – звякнула цепочка кандалов. Крепкие стальные браслеты хищно впились в запястья. Наверное, нет на свете более отвратительной и противоестественной вещи, нежели наручники. Они символ неволи, насилия и мучений. Да, это правда, но символом отчаяния, безнадёжности они не были никогда… От уколов Фрица ныла рука, разламывалась голова, но мысль оставалась ясной, острой, целеустремлённой.
Шамрай попробовал подняться. Пошатнулся, упёрся обеими руками в скользкую замшелую стену и встал. Ноги подгибались, и минуту пришлось подождать, пока не прошли судороги в икрах. Осторожно ступая по гнилой соломе, как по болотной топи, которая каждый миг могла провалиться и поглотить его, подошёл к окну. Оно выше глаз, заглянуть в него невозможно. Поднял вверх связанные руки, взялся за решётку. Что это? Или он сам пошатнулся от слабости, или поддались её стальные плетения.
Нет, скорей всего, оскользнулась под ногами сопревшая солома.
Шамрай опустился на пол, вытянув ноги, он долго смотрел, как на противоположной стене, темнея, меркнет последний солнечный луч. Глаза застлала тёмная пелена.
Когда сознание вернулось к Шамраю, над всем миром стояла глубокая ночь. За стеной взвыл мотор мотоцикла, послышалась немецкая речь. Шамрай узнал визгливый голос горбатого офицера. Он не спал уже вторую ночь. Откуда у этого горбуна столько сил? Не иначе как от ненависти ко всему живому. И от страха перед неминуемой расплатой: после Сталинграда они об этом все думают.
Мотоцикл, стреляя, как пулемёт, вылетел со двора. Кого ещё повстречает смерть этой ночью?
Послышался сонный недовольный голос Фрица. Он что-то приказывал постовому. Потом грохнули, закрываясь, засовы дверей.
Тишина, как тёплое одеяло, опустилась над тюрьмой гестапо.
Шамрай принудил себя считать до ста. Двести, триста… Искушение проверить решётку становилось всё сильнее и сильнее. Куда ты можешь убежать с этими чёртовыми стальными браслетами на руках? Смешно, просто смешно. Всё равно поймают, даже если и удастся… Ага, всё-таки надеешься, всё-таки думаешь, тебе мало пыток, от которых разрывается сердца и смерть становится желанной, избавлением от них. Да, это так. И всё-таки… Попробуй, тебе нечего терять. Ты не имеешь права не испытать своего последнего шанса, если он есть. Бон шанс!
Шамрай пошевелил кистями рук. Запястья сковали страшные путы. Они сделаны из крупповской, особо крепкой стали.
Шамрай, опираясь о стену, поднялся. Из окна веяло ночной прохладой. В это время на Украине начинают петь первые петухи, подсказывая время. А здесь, интересно, поют петухи? Или, может, их давным-давно съели немцы? Нет, ещё жива Франция. И поют петухи. Вот где-то очень далеко послышался одинокий, хрипловатый спросонья голос. Вот ему ответил другой, третий. Приглушённо, робко, а всё-таки поют…
Шамрай поднял скованные руки, ухватился за решётку, дёрнул её, сначала тихо, потом посильнее. Стальные переплетённые прутья заметно поддались. Тогда окрылённый ликующей надеждой, хотя в глубине души и понимая всю её призрачность, он стал тянуть металлические, холодные стержни, уже не заботясь об осторожности. Решётка покачнулась и вылезла из своих неглубоких гнёзд. Так дерзко, напропалую мог действовать только сумасшедший. Шамрай, пожалуй, в эти минуты и был тем сумасшедшим.
Не опасаясь наделать шума и привлечь внимание часовых, – должны же здесь где-то быть часовые, – бросил решётку на солому, привстал на цыпочки, лицом дотянулся до окна, выглянул. Темь – глаза выколи. В такое время ночи по небу должна бы гулять ослепительная луна. Так почему же темно: скоро рассвет или небо заволокли тучи? Присмотрелся повнимательнее – звёзд, кажется, тоже не видно. Ночь глухая, враждебно насторожённая. Тишина плотная, непроницаемая, как чёрная каменная стена. Высунул в окно руки, нечеловеческим усилием, упираясь в подоконник локтями, подтянулся, просунул голову. Подбородком зацепился за внешний край, весь напрягся, упираясь носками, коленями, подался вперёд и почувствовал, с каким трудом пролезают плечи в узенькое отверстие окна. Когда его пытали, пиджак валялся в углу камеры, он хорошо это запомнил, а воротник с петличками, как хомут, висел на шее. Когда же на него успели надеть пиджак?
Перед тем как заковать в кандалы?
Теперь эта чёртова одежда мешала пролезть в узенькое оконце. И не снимешь: руки-то скованы. Нет, кажется, всё-таки можно протиснуться.
Вылез до пояса, огляделся. Темень и тишина. Ничего и никого не видно. Тогда он резко рванулся вперёд и упал. Приготовился к худшему – разбиться о какие-нибудь сваленные камни или доски. А упал неожиданно мягко и удачно: окошко от земли оказалось полметра, не больше.
Несколько минут лежал, собирая силы, потом поднялся.
Куда же идти? Всё равно куда, только скорее и подальше от этого проклятого места. Если и выпал на его долю один-разъединственный шанс остаться в живых, так не воспользоваться им было бы сейчас глупо. По двору гестапо ползёт человек в наручниках и хочет остаться в живых. Ну, не нелепо ли это? От отчаяния, ясного понимания своей обречённости и тщетности всех усилий Шамрай чуть было не заплакал.
Убить человека очень легко и очень трудно. Нажал пальцем на спуск пистолета – пуля ударила в сердце, и человека нет. Но сколько раз бывало так, что люди, которых считали мёртвыми, расстрелянными, сгоревшими, неожиданно оказывались живыми и здоровыми, только седыми, как первый ноябрьский снег. Потому что человек способен выжить даже в тех случаях, когда, пожалуй, и камень не выдержал бы, рассыпался в прах. Куда идти, Шамрай не знал, а всё-таки шёл, двигался, как призрак, вытянув вперёд скованные руки, пока они не натолкнулись на холодный, сырой бетон. Это, по всей вероятности, стена. Куда же дальше ты пойдёшь, Роман? Направо или налево? Какая разница – везде одинаково опасно, везде смерть. Пошёл налево, время от времени касаясь стены, как слепой – руки поводыря.
Над головой тихо зашумели листья. Проснулся свежий апрельский ветер. Стало немного светлее, показались очертания предметов. Шамрай взглянул вверх. Тучи не разошлись, но стали тонко-прозрачными, и луна слабо просматривалась сквозь их серую пелену, как мутное пятно. Домик гестапо, невысокий, двухэтажный, прятался в садочке. Видно, совсем небольшой этот городок. Но гестапо есть гестапо, где бы оно ни было. И потому должны быть часовые. Где же они? По всей вероятности, стоят в воротах. И с ними могут быть собаки. «Только не собаки!» – с ужасом подумал Шамрай, и кровь похолодела в его жилах.
Остановился, прислушался. По-прежнему тишина. Бывают, значит, минуты, когда и гестапо спит. Но постовой у ворот не спит наверняка. Он – немец, он аккуратно несёт службу. Шамрай двинулся в садик. Молодые листья невысоких яблонь приветливо шелестели. Хорошо, что поднялся ветер, приглушит шаги. Снова преграда на дороге, только на этот раз не бетонная стена, а обыкновенная ограда из каменных плит. Колючая проволока есть сверху? Конечно. Не могли же гестаповцы не обнести себя колючей проволокой.