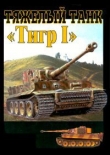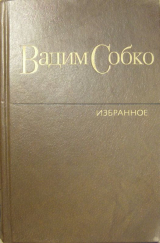
Текст книги "Избранные произведения в 2-х томах. Том 2"
Автор книги: Вадим Собко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 46 страниц)
– Спасибо, – сказал Шамрай. – И не беспокойся, всё будет хорошо.
– Я знаю, – уверенно ответил Грунько. – Всё будет хорошо.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Роман Шамрай вышел из приземистого здания, где помещался партком, на мгновение остановился на пороге, словно раздумывая, не вернуться ли, потом с силой закрыл за собой дверь. Отошёл на несколько шагов и снова встал. Перед глазами расстилалась панорама Днепра, только почему-то теперь красота его стала какой-то приглушённой, отодвинулась на второй план. А вперёд уверенно и властно вышло одноединственное слово, одно имя, всё вытеснило, затопило, не оставляя места ни для каких других воспоминаний.
– Жаклин!
Произнёс он вслух и удивлённо оглянулся: может, это имя назвал кто-то другой? Так странно и неожиданно оно прозвучало! Долгое время, больше чем двадцать лет, он неотступно думал о Жаклин, но никогда не позволял себе вслух позвать её. Значит, он увидит Жаклин…
От одной этой мысли дрогнули колени. Его качнуло в сторону, и, чтобы удержать равновесие, он опёрся рукой о шершавую стену дома. Со стороны могло, пожалуй, показаться, что он пьяный, но разве сейчас это имело для него какое-то значение!
– Жаклин!
Теперь её имя прозвучало, как радость и надежда, такое светлое и огромное, что днепровский простор со всею его красотой сдал без боя свои позиции и отступил, стушевавшись.
– Жаклин!
Ноги всё ещё плохо слушались, и Шамрай осторожно, как раненый, который через силу упорно брёл к медсанбату, дошёл до скамейки, что стояла над самым днепровским обрывом. В это тёплое августовское предвечерье на бульварчике, зеленевшем меж заводом и крутым склоном Днепра, прогуливалось немало народа, но Шам-раю казалось, что на свете существуют только он да ещё Жаклин, где-то там, далеко-далеко от него.
Какая она теперь?
За эти два десятка лет было много писем, а но ни одной фотографии. Об изменениях, которые время беспощадно вносит в облик каждого человека, просто не думалось. Жаклин представлялась такой же, как двадцать лет тому назад. Будто он только вчера расстался с нею.
Были у него дни настоящего несчастья, чёрного беспросветного горя, когда думалось, что жить больше незачем и с жизнью нужно кончать: так она была безнадёжно горька. И всё-таки жизнь прекрасна, полна значительных и радостных событий. Скоро он вновь увидит Жаклин!
И не только её. Да, во Франции у него осталось много друзей и даже не друзей – побратимов.
Они не скрепляли своё братство торжественными церемониями, просто лежали перед атакой бок о бок под вражескими пулями, вместе задыхались в шахтах, заживо гнили в лагерях. Святее такого братства ещё не знал мир.
Но главное для него сейчас – Жаклин.
Он вдруг вскочил со скамейки. Размечтался… А время-то идёт! Ведь может случиться, что он не успеет выполнить все наказы Грунько, и один какой-то несвоевременно заполненный документ сорвёт всё…
Начальник отдела кадров ничего не спросил. Молча подал две анкеты, лист бумаги – для биографии. В его движениях торжественная сдержанность. Бесстрастное лицо не выражает интереса. Ну, подумаешь, человек едет за границу. Эка невидаль! Тысячи рабочих Суходольского завода побывали и в Америке, и в Австралии. Да не раз. Инженеры ежемесячно сдают там зарубежным заказчикам суходольскую сталь. Товарищу Шамраю почему-то не хватило одного листа бумаги для биографии? Ну что же, дадим второй…
Прошло часа полтора, пока Шамрай закончил свою трудную работу. Начальник прочитал, одобрительно кивнул головой.
– Спасибо, у меня к вам вопросов нет. Двенадцать фотографий – четыре на пять сантиметров – не позднее послезавтра. В фотоателье на улице Марата сделают в срок.
Складывалось впечатление, словно кто-то заранее предвидел все малейшие детали отъезда, всё подготовил.
Когда Шамрай вышел из отдела кадров, над Суходолом опустился тёплый вечер. Освещённый закатным солнцем, розово клубился дым из высоких труб мартеновского цеха. Тёмный простор Днепра словно раздвинулся и стал бескрайне глубоким. В социалистическом городе уже вспыхивало, медленно разгораясь, зеленоватое пламя могучих ртутных ламп на высоких выгнутых пилонах. Люди спешили по каким-то своим делам, равнодушно посматривая на Шамрая, и никто из них не знал, какая буря воспоминаний бушует сейчас в душе сталевара.
Однако о его предполагаемой поездке знало гораздо больше людей, нежели он думал.
Старший закройщик ателье подбежал к нему сразу же, как только сталевар переступил порог.
– Меня ни о чём не нужно просить, товарищ Шамрай, – вымолвил он. – Будьте уверены, вам не придётся краснеть. В Париже вас непременно спросят, где вы пошили такой отличный костюм.
«В Париже никто ни о чём не спрашивает и ничему не удивляется», – подумал Шамрай. Но не стал разочаровывать мастера.
Жаклин, Жаклин!
Он поймал себя на том, что тихо насвистывал на ходу, но не удивился: такое с ним случалось и прежде, только причины тогда были совсем пустячными. Сегодня – другое дело. Не только будущая встреча с Жаклин принесла ему такую неожиданную радость. Осталось ощущение чего-то ещё, очень ясного и хорошего. А чего? Сразу не сообразишь. Шамрай постарался в мыслях своих чуть-чуть отойти от Жаклин, на мгновение отстраниться, и сразу встревоженная память подсказала: космическая сталь.
Он радостно засмеялся. Встречный пожилой человек в соломенной шляпе удивлённо оглянулся на него. Вроде бы в годах мужчина, с густой седой шевелюрой, а идёт и беспричинно смеётся, ни на кого не обращая внимания. Ну и что ж, пускай себе смеётся. Может, у него после пяти дочек наконец народился сын, а может, просто вспомнил смешной фильм. Маловероятно, конечно, но иногда и такое случается в нашей жизни…
Но счастливая улыбка вдруг исчезла с суховатого, загорелого лица Шамрая.
Марьяна!
Сейчас ему придётся увидеть Марьяну и сказать ей о своей поездке. Как она отнесётся к этому? Может, сверкнёт чёрными, как на старой иконе, грустными глазами и надолго замолчит? Они поженились недавно, года четыре назад. Четыре года тому назад они встретились, как двое старых холостяков, которые всю жизнь привыкли рассчитывать только на свои собственные силы, поняли, что это и есть та встреча, мимо которой нельзя пройти, и сплели свои судьбы в одну.
Были они влюблены тогда?
Трудно говорить о любви, если одному под пятьдесят, а другой за сорок. Они поженились сразу же, после трёх месяцев знакомства, уверенные, что никогда в том не раскаются.
Любовь пришла после. Возможно, немногое изменилось б душе Шамрая, но Марьяна полюбила страстно, самозабвенно, как может полюбить женщина, ни разу не любившая по-настоящему.
Она была из тех женщин, которые во время войны в тылу работали по шестнадцать часов в сутки на патронных или танковых заводах, из тех миллионов девушек, что после войны остались без женихов. И теперь, найдя друга, Марьяна степною мальвою расцвела в свои сорок лет.
Она никогда не спрашивала, любит ли её Роман. Но в его постоянных знаках внимания, в ласковой улыбке при каждой встрече видела, что она, Марьяна, и правда нужна ему в жизни…
Работала она кладовщицей в инструментальной ремонтного цеха. Аккуратность и распорядительность хозяйки приносила она и сюда, в цех, и, возможно, поэтому столь охотно подходили рабочие к её окошку.
Счастье никогда не остаётся незаметным. Оно задевает каждого, наделяя радостью или завистью. Марьяне Шамрай никто не завидовал, а любовались ею все. В её жилах текла и украинская, и польская, и греческая кровь. Приятно было смотреть на её полное круглое лицо, с черносмоляными волосами, прибранными под клетчатый платок, будто нарисованными бровями, коротким прямым носом и нежным подбородком. После свадьбы у неё даже губы изменились, стали полными, тугими, как спелые черешни.
«Это потому, что теперь я часто улыбаюсь», – думала Марьяна, разглядывая себя в зеркало.
Опасение, что радость может развеяться холодным туманом, не появлялось в её сердце. Вот так и ходила она по земле, сильная и здоровая, туго налитая своим счастьем, как спелая вишня-ягода сладким соком.
Сейчас Роман Шамрай встретит Марьяну. Какою она будет, эта встреча? А собственно говоря, что изменилось в их отношениях? Почему встреча должна быть какой-то особенной?
О его жизни, о скитаниях по белу свету Марьяна знает и много и мало. О существовании Жаклин ей известно лишь в общих чертах. Они молчаливо договорились – со дня свадьбы начнётся их новая, не похожая на прежнюю жизнь.
А прошлое, оказывается, нельзя ни вычеркнуть, ни забыть. Оно нет-нет да и напомнит о себе письмом, воспоминанием, встречею, просто мыслью, иногда радостной и гордой, иногда жгуче горькой и стыдной, такой; что лучше умереть, чем пережить всё заново.
Шамраю нечего стыдиться, не за что краснеть. В конце концов он ни в чём не виноват перед Марьяной, может прямо и честно смотреть ей в глаза. Он поедет дней на десять во Францию, пройдётся по дорогам своей молодости, встретится с боевыми друзьями, поговорит с ними за бутылкой лёгкого «Божоле» и вернётся домой, в Суходол, варить космическую сталь.
А Жаклин?
А что Жаклин? Они, конечно, встретятся. Это будет встреча старых и добрых друзей…
Он не обманывает себя?
Скорей всего, нет.
Шамрай шёл по широкой улице большого красивого города с высокими домами по обеим её сторонам, с широкими бульварами посредине, где круглые кроны каштанов образовали длинный тенистый коридор, сплетя ветви над посыпанными ярко-золотым песком дорожками.
В одном из таких домов и его квартира. Наверное, ужин уже стоит на столе, напоминая собой, скорее, художественное произведение. Марьяна любит гостей, тешится своей, всё ещё непривычной ролью хлебосольной хозяйки.
Сейчас он войдёт в свою небольшую квартиру, где всею одна комната и кухня, увидит жену и за ужином, не спеша, расскажет ей о предстоящей поездке. Это, конечно, радость, и Марьяна будет радоваться с ним. Вот, оказывается, всё как просто и ясно, а идти домой всё-таки почему-то не так легко, как обычно.
Жаклин? Да, Жаклин.
По невысоким удобным ступеням поднялся на третий этаж, плоским ключиком открыл знакомую дверь, взглянул на Марьяну и сразу понял – она уже знает всё. Удивительное дело, город огромный, тысяч пятьдесят жителей в нём, а новости распространяются, будто по радио. Беспроволочный женский телеграф работает надёжнее, чем местное радио.
– Добрый вечер, – приветливо сказал Шамрай.
– Добрый, – откликнулась Марьяна. – Я ждала, ждала, уже все жданки съела, а тебя нет и нет.
– В парткоме задержался.
– Знаю.
– И в ателье…
– Тоже знаю. Хороший будет костюм?
– Солидный очень…
– Вот и хорошо. Поедешь в Париж как куколка.
– Вот именно, как куколка, – засмеялся Шамрай и мягким движением привлёк к себе жену и поцеловал её в шею за маленьким розовым ухом, губами отстранив непокорную прядь волос.
– Подожди, ужин остынет.
– Я сейчас, – Шамрай засмеялся, направляясь в ванную.
– Тебе нужно бы подарки с собой захватить, а? – спросила Марьяна, подавая чистое полотенце.
– Кому?
– Товарищам.
– Надо, пожалуй.
Шамрай сел к столу, осторожно и сосредоточенно, так, будто делал дело великой важности, проткнул вилкой налитый соком помидор, разрезал ножом его сочную мякоть, всё это неторопливо, почти священнодействуя.
– У тебя там была девушка?
Марьяна спросила просто и одновременно печально. Разве это для неё так важно? Разве не пролегло между этим вечером и теми далёкими днями больше двух десятков лет?
– Была, – просто ответил Шамрай.
– Красивая?
– Не знаю, как тебе сказать. Для меня тогда она была красавицей.
– А сейчас?
– Не знаю. Очень много лет прошло.
– Сколько ей теперь?
– Должно бы, столько же, сколько и мне…
– Прости, я не хотела…
– Нет, ничего. Почему это тебя интересует?
– Я думаю, ей тоже надо бы приготовить подарок.
Они говорили свободно, просто, как бы не придавая особого значения разговору, а чувства были так напряжены, что казалось, упади какое-то неосторожное слово – и конец всей их жизни.
– Что же ты ей подаришь?
– Не знаю. Ещё есть время, подумаем…
В их квартире кухня одновременно была и столовой. Пожалуй, только в операционных хирургических клиник бывает такая чистота. Правда, чистота стерильная, не такая, как здесь ослепительная, потому что салфетки и полотенца, вынутые из автоклавов, всегда желтоватые, халаты, хотя и белые, но запятнаны то лекарствами, то кровью. В кухне-столовой Марьяны всё сияло такой белоснежностью, о которой хирургам и не мечталось. Скатерть и салфетки туго накрахмалены, голубая эмаль газовой плиты блестит как зеркало. На полочках коробки с солью, перцем, гвоздикой, чаем, корицей, тмином и какими-то ещё только Марьяне известными приправами выстроились, как пузатые барабаны на параде. Медные краны начищены до солнечного блеска. В горшках на окне мясистые и сочные красные бегонии. Всё здесь было чисто, как-то по-особому вкусно, всё говорило о здоровье и ровном хорошем настроении хозяйки.
– Бери, пожалуйста, вареники.
– Спасибо.
– Какой же ей подарок приготовить?
– Не знаю. Почему ты встревожена?
– Нет, что ты. Наоборот, я совсем спокойна, И это очень хорошо, что ты поедешь…
Этот ответ был правдой и неправдой, Шамрай сразу почувствовал волнение жены. Как же её успокоить и можно ли успокоить вообще? А свои собственные чувства он сейчас хорошо понимает?
Жаклин?
Да, Жаклин. Скоро он её увидит, и от предчувствия этой встречи, словно срываясь в какую-то» тёмную пропасть, замирало сердце.
– О чём ты думаешь? – тихо, внешне спокойно спросила Марьяна и отодвинула тарелку.
– О предстоящей дороге, – честно ответил Шамрай. – Спасибо, очень вкусно мы поужинали.
– Правда? – щёки Марьяны зарделись от удовольствия.
– Правда. – Он поднялся из-за стола, перешёл из кухни в комнату, остановился возле широкого, уже потемневшего окна. Из него ещё можно было увидеть берег Днепра и высокие, постоянно окутанные горячей слюдяной мглою, как дымом, доменные печи. Когда из них выпускают шлак, всё вокруг освещается таинственным багряным заревом. Огромная махина – Суходольский завод, из Кривого Рога сюда везут руду, из Донбасса – уголь, Днепрогэс даёт ему целые реки энергии. И всё для того, чтобы из его ворот по звонким, как цимбалы, рельсам катились большие красные вагоны, наполненные стальным прокатом, тонким листовым и фасонным железом, хрупким чугуном и крепчайшей космической сталью.
Марьяна подошла к Шамраю, стала рядом, прижалась к его плечу, словно желая убедиться, тут ли он, никуда не исчез.
– Включить свет?
– Нет, подожди.
Они стояли рядом в сумерках и смотрели, как далеко-далеко, за Днепром, умирают последние отблеска дня.
– Ты меня не бросишь? – повернув к нему лицо, вдруг испуганно спросила Марьяна.
– Что?
– Ты не покинешь меня? – тревожный голос женщины выдал её страх за своё, многими годами выстраданное счастье. Шамрай вздрогнул от жалости и нежности к жене, широким движением обнял её, прижал к своей груди, прикрыв сильными руками, словно защищая от боли и горя.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Марьяна заснула. Её дыхание глубокое и спокойное, как широкая морская волна после шторма. В комнате темнота прорезана слабенькими снопиками света с улицы. Потом чёрный монолит ночи стал едва заметно розоветь – в доменном цехе выпустили шлак. В его багровом отсвете увиделась большая карта Европы на стене, стол посредине комнаты, покрытый скатертью, шкаф с зеркалом, круглый, как земной шар, абажур над столом.
Совсем рядом, на подушке, скорбный во сне профиль Марьяны. Тишина на всей земле. Но почему ты, Роман Шамрай, не можешь заснуть?
Необыкновенным был минувший день. И трудно сказать, может, наступила пора «конденсированного времени», «звёздного часа», о котором тебе, Роман, всегда мечталось, или это только его прелюдия, похожая на далёкие зарницы надвигающейся грозы.
Роман Шамрай закрыл глаза.
Что бы там ни было, а ты должен уснуть. Завтра тебе идти в первую смену. Технология варки космической стали уже в цехе. Нужно хорошенько всё обдумать перед тем, как заложить в печь эту плавку. Такой стали ещё не варил никто.
Не спится. И мысли отвлекаются от цеха, от завтрашней работы, манят куда-то далеко в минувшее, выхватывают из забвения событие, мелодию песни, лицо человека, может, даже, как это ни странно, вкус свекольной баланды, клёклого хлеба с опилками, запахи барака, запомнившиеся много лет тому назад.
Долгая жизнь складывается из секунд, минут, лет. И чаще всего не годы, а именно яркие секунды остаются в памяти навсегда.
Шамрай лежал тихо, потому что каждое его движение отзывалось в Марьяне, и не сон, а что-то похожее на чуткую насторожённую дремоту сковало ему веки. Теперь картины прошлого уже сами, помимо воли, проплывали в его воображении. Словно кто-то посторонний властно распоряжался его мыслями и снами, не очень считаясь, приятно это Шамраю или нет. Некуда бежать от этих воспоминаний – иногда они чётко вырублены в памяти, иногда расплывчаты, затуманены, будто неопытный киномеханик плохо навёл фокус и удаётся рассмотреть лишь тени, слабо напоминающие знакомые кадры.
Дзот – деревянно-земляная огневая точка – это обыкновенная, глубоко выкопанная землянка с потолком в два наката, к её входу вьётся ломаный ход сообщения. В противоположной стене – амбразура с хищным рыльцем пулемёта, жадно вытянутым вперёд. У дощатых низеньких стен ровными рядами сложены зелёные коробки с патронами. В углу ведро с водой, а возле него фанерный ящик – запас сухарей и консервов. На земляном полу скомканы шинели и плащ-палатки. Вместо постели – зелёные ветки сосны, пахнущие смолой.
Из амбразуры, как на ладони, виден километровый отрезок асфальтированного шоссе. Дзот расположен на краю опушки соснового бора, неподалёку от Киева. Перед ним поросшее осокой болото, а дальше ровное поле. Сектор обзора и обстрела идеальный.
В дзоте их двое – лейтенант Роман Шамрай и красноармеец Пётр Могилянский. Дышать в землянке трудно, воздух густо напоен смоляным запахом хвои и дымом махорки. На свете – июль сорок первого года, второй месяц войны.
Дзот над берегом речки – одна из огневых точек в системе уже почти разорванной немецкими танками киевской обороны, которую держат остатки отступивших от границы дивизий. «Почти» не значит совсем. По шоссе, перед дзотом Шамрая, ещё не прорвалась ни одна немецкая машина. Правда, в этом заслуга не только лейтенанта. С другой стороны дороги, в капонире, стоит противотанковая пушка. С артиллеристами у него контакт хороший. Знают своё дело ребята, стреляют умело и точно.
Солнце печёт немилосердно. Над асфальтовым шоссе, кое-где закиданным сухой травою, каким-то мусором и острыми листьями очерета, колышется марево горячего воздуха. Удивительно, как быстро загрязняется шоссе, словно умирает дорога, когда по ней никто не ездит.
Лейтенант Шамрай лежит возле пулемёта на куче удобно сложенных сосновых веток, и марево перед глазами вызывает у него воспоминание. Именно так дрожит и колышется горячий воздух перед поднятой заслонкой мартеновской печи, если, прикрывая от жгучего жара лицо рукавицей, взглянуть в розово-белое раскалённое чрево.
В армию он пошёл с Суходольского завода. Вернуться к мартену, стать не подручным, а настоящим сталеваром ему, наверное, уже не удастся никогда. Оборвала война его планы, быть ему командиром ещё долго, а жаль. Почти год работал он в шахте, потом, послушавшись отца, перешёл на завод. Чтобы стать сталеваром, ему оставалось проработать месяца три и выдержать испытание. Ничего не поделаешь, жаловаться не приходится – забрали в армию. Приближалась война.
Где-то далеко, в самом конце видимого участка шоссе, почудилось движение. Лейтенант взял бинокль. Синеватые линзы ясно показали – через асфальт перебежал человек в серой форме и упал в кювет. За ним второй, третий. До того места ровно тысяча триста метров. Всё ясно: противник сосредоточивает свою пехоту в балочке, метров за семьсот отсюда, а потом под прикрытием артиллерийского огня пойдёт в атаку. Может, даже при поддержке танков. Сегодня это уже не впервой. Необходимо приготовиться!
Лейтенант Шамрай и красноармеец Могилянский составляют «гарнизон дзота». Это звучит гордо и значительно. Десятки таких дзотов разбросаны по правую и левую сторону от шоссе. Сколько из них ещё боеспособны – неизвестно. Связь с командиром укреплённого района оборвалась вчера, но в действии оставался его приказ: держаться до последнего патрона.
– Начнут минут через тридцать, – сам себе пояснил Шамрай, опуская бинокль, – Товарищ Могилянский, пойдите к артиллеристам, предупредите, что в Гороховскую балку просачивается противник. Не знаю, видно ли им то место.
– Есть.
Лицо Могилянского, прозрачно-бледное от усталости и напряжения, заросло редкими щетинками молодой бороды. Под глазами иссиня-чёрные круги. На высоком лбу капли пота. Воротник гимнастёрки широко распахнут, дыхание трудное и прерывистое.
– Приведите себя в порядок.
– Есть, – Могилянский с трудом застегнул пуговицу на воротнике, судорожно поправил ремень.
Потом, согнувшись почти пополам в низких дверях, вышел. Шамрай, взглянув ему вслед, покачал головой. Сдают нервы у парня»
А его собственные нервы как поживают?
Он комендант дзота, у него спрашивать нет необходимости. Он должен выдержать всё на свете и никому никогда даже не скажет, тяжело ли ему давалось это спокойствие.
Снова взял бинокль, присмотрелся. Коробки танков замерли на далёком горизонте, там, где исчезает серое полотнище шоссе.
– Разрешите доложить, товарищ лейтенант? – Шамрай повернулся, взглянул на вошедшего Могилянского: его поразило бледное, как гипсовая маска, лицо бойца,
– Сначала выпейте воды.
Могилянский послушно напился.
– Теперь докладывайте.
– Артиллеристы заметили продвижение противника. По их данным, немцы заняли Бориславку.
Шамрай вынул из планшета карту, развернув, посмотрел: Бориславка находилась от них километрах в двадцати и, как он считал, в тылу. А оказывается… Линия обороны прорвана, и их окружают' Во рту стало сухо, почувствовался горьковатый привкус.
– Значит, закусить сейчас нам сам бог велел, – неожиданно сказал Шамрай, отгоняя от себя тревожные мысли. – Позже, пожалуй, уже некогда будет. Открывайте консервы.
– Как же вы, товарищ лейтенант, можете в такую минуту думать о еде?
– Могу. И вам советую.
– У меня кусок поперёк горла встанет.
Могилянский удивлённо смотрел на Шамрая и видел, как тот спокойно достал из ящика хлеб, банку консервов, положил на ящик из-под патронов, раскрыл нож, принялся резать хлеб. Движения его, как всегда, точны и уверенны. Перед Могилянским был командир, строгий, требовательный, называющий своих подчинённых в такие минуты официально на «вы». Но боец знал и другого Романа Шамрая – весёлого, ясноглазого хлопца, которого хлебом не корми, дай только посмеяться. Тот Роман был не только с ним, красноармейцем Могилянским, – со всем светом на «ты».
В зависимости от того, на «ты» или на «вы» обращался к нему лейтенант, Могилянский точно знал, в каком качестве выступал в данную минуту его командир,
– Ну, давай перекусим. Минут через двадцать немцы начнут атаку. Давай, давай, не тушуйся! Всё равно победа будет за нами!
И вдруг засмеялся спокойно и весело, совсем не думая об опасности.
«Неужели человек в таком положении ещё может смеяться? – спросил себя Могилянский. – Ведь нас ждёт смерть, верная смерть!»
– И ты улыбнись, ну, пожалуйста, – сказал Шамрай, будто подслушав его мысли. – Немцы только о том и мечтают, чтобы мы перестали смеяться. Улыбнись!
– Это что, приказ?
– Нет, не приказ. А ты всё-таки улыбнись. Сам себя убеди, что можешь улыбнуться, себя перебори.
– Победа над самим собой, товарищ лейтенант, всегда бывает самой трудной. Уже забыл, где это вычитал.
– Вот видишь, значит, от университета тоже есть польза. После победы закончишь как пить дать.
– Ты думаешь, мы выживем?
– Я не думаю, я это знаю, – уверенно сказал Шамрай. – А теперь всё-таки улыбнись, хоть самую чуточку.
Губы Петра Могилянского едва заметно дрогнули, раздвинулись. Еле заметная усмешка мелькнула в глазах, и от этого всё лицо парня вдруг изменилось: стало чуть-чуть смущённым и виноватым. Будто стыдно стало за то, что не мог этого сделать раньше.
– Вот, теперь всё хорошо, теперь мы против целой гитлеровской дивизии выстоим, – Шамрай улыбнулся, кивнув на хлеб и консервы. – Теперь ты настоящий боец. Давай, заправляйся, недаром же сказано: «В обороне – харч первое дело».
Он шутил спокойно и весело, будто не было перед ним смертельной опасности. А у самого нервы сжаты в кулак и каждое движение, каждое слово подчинялись железной воле. На сколько может хватить такого напряжения – неизвестно, да и стоило ли над этим раздумывать. Сколько нужно будет, столько и выдержат.
Они сели на земляной пол, поближе к ящику, заменившему им стол.
– Смотри, какая красота!
Шамрай взял с опрокинутой коробки из-под патронов два красных помидора.
Вчера вечером их принесла баба Ульяна из соседнего села. Погоревала, немного поплакала и, когда уходила, быстро, опасаясь, чтобы не обиделись парни, перекрестила их дрожащей рукой.
Шамрай разрезал помидор, посолил, одну половину протянул Могилянскому. И в этот момент ударил первый взрыв.
У Могилянского дрогнула рука, сочный помидор, выскользнув, упал на зелёные сосновые ветви, которыми был устлан пол землянки.
– Ешь, – жёстко приказал Шамрай и протянул бойцу другую половину помидора, – у нас ещё есть время, артподготовка продлится минут двадцать.
– Я… я не могу.
– Надо! Ешь! Вот так, просто, клади кусок в рот и жуй.
Снаряд ударил совсем рядом. Дзот вздрогнул. С потолка сквозь балки наката посыпался песок. Могилянский испуганно оглянулся.
– Не обращай внимания! Ешь.
Теперь эти слова Шамрай говорил уже себе, потому что страх всё сильнее и сильнее стискивал и его сердце. Хотелось сорваться с места, выбежать из этой проклятой норы, спрятаться в тихом, прохладном лесу, где так пряно и терпко пахло дубовыми листьями и дятлы с глухим пулемётным стуком, не обращая внимания на канонаду, усердно долбили прелую кору.
Он подавил в себе это чувство и, рисуясь своим спокойствием, прочной властью над собой, положил в рот хлеб с кусочком леща, пожевав, проглотил и. снова приказал себе: «Ешь!»
Спокойствие, как и паника, заразительно. Только паника охватывает мгновенно, как взрыв, а спокойствие распространяется медленно, тихо завоёвывает свои позиции. Посматривая на командира, успокоился и Могилянский, даже откусил от помидора.
Землянку снова тряхнуло. Запахло чадным тротиловым дымом. Шамрай взглянул в амбразуру: тихое, безлюдное поле, полное июльской красоты и солнечной нежности раскинулось перед его взглядом. Не верилось, что именно из этой видимой полоски тёплого голубого неба падает и падает, целясь в твоё сердце, смерть.
– Минут через десять начнут. Доедай…
Пётр уже овладел собой. Аккуратно вытер хлебной коркой пустую консервную банку. Стараясь сдержать дрожание рук, сложил остатки обеда, завернул в газету и сунул в угол землянки.
Следующий снаряд разорвался над самым дзотом. На счастье, не тяжёлый, гаубичный, а обычный, полковой артиллерии, но и того хватило, чтобы землянка, качнувшись, перекосилась, потом всё-таки выровнялась, выстояла.
– Точно бьёт, зараза, – со злостью сказал Шамрай.
– Это хорошо, – откликнулся Могилянский.
– Что хорошо?
– По теории вероятности снаряд в одно и то же место дважды не попадает. Почти никогда.
– Это по теории. А у нас с тобой практика. Во всяком случае, пусть нам повезёт хоть теоретически. Всё-таки легче. Давай к пулемёту.
Привычно легли они на свои места. Совсем низко над ними гремел и лютовал, будто хотел уничтожить всё на свете, огненный шквал артподготовки. Осколок снаряда, словно злая оса, влетел в амбразуру, хищно впился в свежую балку наката.
Не сказав ни слова, оба надели каски. Тетерь долина перед ними стонала от боли под тёмною завесой фугасных разрывов. Её красота и голубой покой померкли и пропали, словно серой жёсткой кистью стирая живые краски, прошлась по ней война.
– Сейчас пойдут, – сказал Шамрай.
Его чуткое ухо ясно уловило среди грохота разрывов гудение моторов. Так во время грозы, между ударами грома, слышится особенно отчётливо, как жужжат потревоженные мухи.
Последний разрыв вздыбил песок метрах в десяти перед амбразурой, и вдруг, словно обрезанная ножом, смолкла канонада.
Пётр Могилянский взглянул в амбразуру и тихо охнул. Немцы были совсем рядом – метрах в двухстах. Во время артподготовки, невидимые за фонтанами разрывов, они продвигались вперёд, вплотную прижимаясь к огненному валу. Такая тактика требовала большой сноровки и точности, но разве не было у них времени научиться? Разве не было победы над Польшей и Францией, поразбойничали в Европе, было время попрактиковаться.
Четыре небольших танка шли по сторонам шоссе, середина дороги оставалась безлюдной. Под прикрытием танков, пригибаясь, часто падая и вновь поднимаясь, бежали автоматчики.
Шамрай услышал возле себя тяжкое дыхание, оглянулся: лицо Петра изменилось неузнаваемо.
«У меня, наверное, не лучше», – подумал Шамрай. «О… огонь», – старались выговорить губы бойца и не могли.
– Не спеши. Их сначала встретят артиллеристы.
Танки приближались, грозные, бессмысленные уродины, воплощение сокрушающей злой силы, предназначенной для убийства, а наши артиллеристы молчали в своём убежище.
– Что же они…
– Не торопись! – Шамрай выкрикнул это со злостью, напряжённо, будто выплеснул ненависть из сердца, потому что иначе оно могло разорваться. И в это мгновение ударила пушка, раз, другой и третий. Один танк вспыхнул густым багрово-чёрным пламенем, другой остановился. Но две машины продолжали двигаться вперёд, и за ними, уже не прячась, не прижимаясь к земле, поднялись солдаты. Батальон немецкой пехоты пошёл в атаку.
– О… огонь! – просительно сказал Могилянский.
– Подожди, – сквозь зубы ответил Шамрай.
Немецкие солдаты приближались, они падали, но тут
же поднимались и стремительно бросались вперёд, чтобы через некоторое время снова упасть и снова, поднявшись, броситься вперёд на несколько метров. Казалось, сдержать этот грозно приближающийся вал было невозможно.
– Вот теперь: огонь! – сам себе приказал Шамрай, большими пальцами обеих рук нажимая на гашетку. Отличное это оружие, надёжный, не одной войной проверенный, в тысячах боях опробованный пулемёт «максим». Особенно если установлен он в закрытом дзоте – это свинцовая, горячая струя, всё сметающая перед собой.
Пётр Могилянский, подавая ленту за лентой, непрерывно смотрел на поле, на лавину немецкой пехоты, которая то ложилась, то вновь поднималась, почти ритмично, как змея. Вот, высоко вскинув руки, ткнулся лицом в землю один солдат, потом другой, третий. Ещё двое солдат упали с противоположной стороны, совсем не там, куда направлял рыльце пулемёта Шамрай. Это и соседний дзот включился в бой.