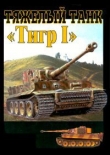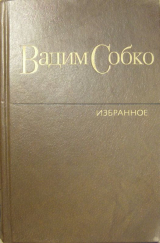
Текст книги "Избранные произведения в 2-х томах. Том 2"
Автор книги: Вадим Собко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 46 страниц)
– Сейчас немец цикорию пустит, – сказал Шамрай. – Эх, кабы у артиллеристов было чуть побольше снарядов!
Он вставил новую ленту, и снова заговорил пулемёт в его сильных, пороховым дымом обожжённых руках.
– Бегут, товарищ лейтенант, смотрите, бегут! – громко закричал Могилянский, показывая на повернувших вспять фашистов.
– Вижу, – ответил Шамрай, огненной струёй, как из тугого брандспойта, поливая гитлеровцев. – Будет им сегодня вечером весёлая перекличка.
– Бегут! – замирая от восторга и ещё какого-то совсем незнакомого чувства, кричал Могилянский. – Бегут, гады! Ура!
– Перестаньте кричать, товарищ Могилянский, – оборвал его Шамрай. – Вот когда в штыковую атаку пойдёте, тогда и крикните.
И он снова сосредоточенно полоснул пулемётной очередью по немцам, которые уже открыто отступали, унося с собой раненых и убитых.
Танки ещё немного постояли и, словно сговорившись, ударили из своих пушек по дзоту Шамрая. Взлетел смерч песка, ломаясь, затрещало дерево, дзот вздрогнул и осел на один бок. Амбразуру почти засыпало, но пулемёт остался исправным. Танки развернулись и, взяв на буксир подбитую машину, скрылись в овраге. Над подожжённым танком тянулся чёрный, постепенно рассеивающийся дым.
– Ну, эту атаку отбили, – сказал Шамрай, вытирая ладонью лицо. – Интересно знать, сегодня полезут ещё или завтра с утра начнут?
– Пусть лезут хоть сегодня, хоть завтра, – выкрикнул с азартом Могилянский. – Всё одно – не пройдут!
В дзоте послышался тонкий свист, какой-то очень домашний, спокойный и уютный.
– Вода в кожухе пулемёта закипела, – добродушно пояснил Шамрай. – Свистит как чайник.
Пётр Могилянский теперь улыбался, весело, бодро. Всё его существо охватила гордая радость первого выигранного боя.
– Вот здорово было бы чайку из пулемёта попить. Это ли не романтика?
– Будет нам ещё романтика, – сухо сказал Шамрай.
И Пётр сразу затих, словно завял. Улыбка ещё дрожала на губах, но в глазах рождалась тревога, смывая с лица все живые краски.
– Вы думаете, товарищ лейтенант…
– Ничего я не думаю. Поживём – увидим.
Шамрай взял бинокль, осмотрел поле. Взгляд натолкнулся на убитого немца. Он лежал у обочины шоссе, вытянув вперёд руку, каска откатилась, ветерок едва заметно шевелил густые русые волосы. На губах запеклась кровь. Открытые голубые глаза смотрели испуганно и удивлённо, словно хотел этот парень с ефрейторскими нашивками понять, что же с ним случилось, и не мог. Лицо немного искривили недоумение и досада: как же так, почему его остановили, не пустили туда, куда он хотел?
– Сколько мы их? – спросил Могилянский.
– Я думаю, шесть-семь?
– Я тоже так считаю. Для точности скажем шесть. Разрешите мне бинокль.
– Бери:
Могилянский припал к окулярам. Шамрай хорошо знал, что тот смотрит только в одну точку – на лицо убитого немца.
– Товарищ лейтенант, – послышался тихий и страшный в своей спокойной рассудительности голос бойца, – это же выходит, что я убивал людей. Вы понимаете, мы с вами убивали людей…
– Не людей, а фашистов. В этом есть некоторая разница.
– Но ведь они тоже люди…
– Нет. Они не люди, они – фашисты. И если ты его не убьёшь, он придёт и, не раздумывая долго, убьёт тебя с твоими распрекрасными мыслями.
– И всё-таки это страшно – убивать.
– Значит, ему можно безнаказанно убивать беззащитных людей?
– Нет, просто я думаю, что это противоестественно – война.
– Да, хорошего мало, – ответил. Шамрай, и тревожное молчание заполнило землянку.
Из щели в потолке, пробитой осколком снаряда, тонкой золотой струйкой сыпался песок. Точно так, как в старинных песочных часах. Вот струйка стала тоньше, ещё тоньше, сейчас, кажется, высыплется весь песок и тогда, пожалуй, наступит конец. Сколько его там осталось, этого песка, никто не знает. И это, пожалуй, лучше, чем знать, потому что жить, зная минуту своей смерти, просто невозможно.
Солнце уже садилось. Прохладные тени протянулись на поле. Тонко зазвенели комары. Могилянскому этот звон показался трагически печальным. Что с ним происходит? Ведь это самые обыкновенные комары. Довоенные мирные комары.
– Сегодня, скорей всего, атаки больше не будет, – с надеждой в голосе сказал он.
– Да, – согласился лейтенант, – пожалуй, не будет. В этом месте. В другом попробуют…
Они слышали далёкий гром канонады где-то слева от дороги, а потом и позади них, но увидеть всю извилистую, во многих местах уже прорванную и снова восстановленную линию фронта не могли. Однако им казалось, что атаки немцев отбили всюду так же, как это сделали они. Потом из глубоких тылов подтянут резервы… И победа будет за нами. Эти слова совсем недавно сказал Сталин. Да, победа будет за нами, это правда, и очевидное тому доказательство вон тот молодой немецкий солдат, который лежит сейчас среди поля, неловко подвернув руку, в то время как они, Шамрай и Могилянский, живые и здоровые, сидят в дзоте и готовы к бою.
Послышались шаги. Слева от дзота кто-то осторожно шёл по песку.
Шамрай с наганом в руке выскочил из дзота в траншею.
– Стой, кто идёт?
– Свои, товарищ Шамрай.
Политрук роты Грунько, коренастый, грузный человек, спрыгнул в траншею. Поздоровался. Пётр Могилянский вытянулся рядом с Шамраем.
– Ну, как вы здесь? – спросил политрук.
– Всё в порядке.
– Отлично воевали. За точное выполнение приказа командование объявляет вам благодарность.
– Служим Советскому Союзу.
– А теперь послушайте меня, товарищ Шамрай. Вам, товарищ боец, можно отойти к пулемёту.
Он подождал немного, пока Могилянский исчез в чёрном провале входа в дзот, потом широким движением обнял Шамрая за плечи, похлопал по спине, чуть помолчал, подыскивая нужные слова, сказал:
– Обстановка, браток, усложнилась. Противник сконцентрировал огромные силы возле Голосеевского леса и, вероятно, завтра начнёт прорыв.
– Возле Голосеевского леса?
– Да, бои уже идут на окраине Киева. Но именно там-то и необходимо остановить фашистов. Командование стягивает туда артиллерию и танки. Артдивизион с ваших боевых порядков ночью перейдёт на другие огневые позиции. Правда, по данным разведки, немцы перебрасывают туда же свои танковые батальоны. На вашем участке танковых атак, очевидно, больше не будет.
Грунько помолчал, давая лейтенанту возможность понять масштабы боёв и всю трагичность сложившейся обстановки.
– С нашей линии обороны командование снимает большую часть огневых средств, оставляя лишь заслоны на дорогах. Вам, лейтенант, приказано оставаться здесь и удерживать шоссе до двадцати одного часа завтрашнего дня. После чего отойти в район Беличей.
– Рядом со мной будет кто-нибудь?
– Заслоны остаются на всех дорогах.
Значит, ближайший пулемёт будет отстоять от него километра за полтора. Ничего не скажешь, «надёжная» поддержка. Этот приказ, собственно говоря, не что иное, как приговор им, Шамраю и Могилянскому.
Но с этой точки зрения каждый приказ на войне, каждая команда подняться с земли и броситься в атаку – не что иное, как смертный приговор для сотен, а может, и тысяч бойцов. Иногда для того, чтобы через вражескую оборону прорвался один батальон, должна лечь костьми целая дивизия. Поэтому закономерна гибель маленького подразделения, прикрывающего отход целой армии. Тут всё справедливо. Сам Шамрай недавно вырвался из-под Львова только потому, что полки пограничников полегли, прикрывая отступление армии. Таков закон войны. Справедливо, но на сердце от этого не легче.
– Наш КП будет у посёлка Беличи, на западной окраине, – сказал Грунько, хорошо зная, что лейтенант никогда не придёт на околицу Беличей. Шамрай всё отлично понимал и никого не осуждал. Если бы ему самому пришлось отдавать приказ, он говорил бы точно такие же слова и таким же тоном.
– Ну что ж, тогда будем держаться до двадцати одного часа, – повторил он. – Хорошо, если немцы действительно сюда не бросят танки.
– По данным разведки…
– Да, конечно, по данным разведки. Хорошо, будем держаться. Так и передайте: будем держаться.
– До скорого свидания, – Г рунько протянул Шамраю большую сильную ладонь.
– До скорого свидания.
И хотя оба великолепно знали, что этого свидания никогда не будет, что они, обманывая друг друга, лишь стараются успокоить себя, пожатие рук было сильным и дружеским.
– Ничего передавать не нужно?
– Нет, не нужно. Письмо отцу я вчера послал на ППС.
– Ну и отлично.
Грунько повернулся и, стараясь не смотреть на Шамрая, не оборачиваясь, пошёл к лесу, где вскоре и исчез в надвигающихся лесных сумерках.
Лейтенант постоял мгновение, разглядывая, как далеко за полем гаснут последние солнечные лучи, и направился к дзоту. Амбразура выходила прямо на запад, и поэтому в землянке ещё держался слабый розовый свет. Взглянув в побледневшее лицо Могилянского, Шамрай понял – боец всё уже знал. Может, услышал он, насторожённый в минуту смертельной опасности, их разговор с политруком или просто догадался.
– Отходить будем завтра в двадцать один час, – сказал Шамрай. – Возьми вон там мою фляжку.
В такой вечер беречь несколько глотков водки в алюминиевой фляжке было бы просто глупо.
Они выпили, не морщась, не чувствуя вкуса водки, и молча съели консервы, думая о завтрашнем дне. Ночь опустилась безлунная, душная ночь. Где-то далеко за Днепром приглушённым громом пророкотала гроза. Лес за стенами землянки ожил, зашевелился. Послышались голоса, треск ветвей, слова команды, конское ржание.
– Что это? – встревоженно спросил Могилянский. – Кажется, артиллеристы отходят? А мы?
– Отойдём завтра, в двадцать один.
Вскоре стихли осторожные голоса и скрип колёс по песку, наступила полная тишина. Филин пролетел на своих бесшумных крыльях, опустился на дерево, крикнул зловеще, пронзительно, но и это не нарушило тишину, скорее даже усилило её.
– Будем спать, – сказал Шамрай. – Сначала вы, товарищ Могилянский, до двух часов, потом я до четырёх. А там посмотрим.
– Все отошли? – спросил боец.
– Нет, не все. Мы с вами остались. Ложитесь.
– Почему именно нас оставили?
– А почему кого-нибудь другого?
– Да, это верно…
Могилянский примостился поудобнее на полу, накрылся шинелью и затих.
Шамрай осторожно вышел, стал возле дзота. Широкое поле, освещённое светом звёзд, расстилалось перед ним. Скоро появится луна, и ночь станет сказочно красивой, будто нарисованной художником…
Лейтенант утратил ощущение времени или, может, задремал вот так, с открытыми глазами, напряжённый, как боевая пружина перед спуском.
Между тем небо за лесом начало светлеть и проглянул серый мглистый рассвет. Шамрай вздрогнул, тревожно оглянулся, взглянул на часы – четвёртый. Поднялся на ноги, нервно размял затёкшие мышцы, крикнул:
– Могилянский, вставайте!
Боец выскочил из дзота.
– Умойтесь, будем встречать утро, – сказал Шамрай. Спустился в землянку, оглядел пулемёт, приготовил патроны. Через силу принудил себя и Могилянского съесть галеты, выпить воды.
Далёкое гудение мощных моторов послышалось за стенами землянки. Шамрай спокойно подумал – танки. Вот тебе и данные разведки.
Взглянул на Могилянского. Лицо, правда, побледнело, но губы не дрожали. Твёрдые, как жёлуди, желваки перекатывались на щеках. Видно, волнуется и боится страшно, но владеет собой полностью. Вот и приходит боевой опыт к парню.
Лейтенант ещё раз взглянул на бойца, потом развер-нул планшет, вынул блокнот, написал несколько слов, вырвал листок, сложил пополам и протянул Могилянскому.
– В штаб, бегом! На западную окраину, посёлок Беличи.
– Товарищ лейтенант!
– Бегом! В штабе должны знать, что здесь танки!
– Неправда, вы меня… жалеете?
– Бегом, пока есть время, – уже не крикнул, а исступлённо прошептал Шамрай, и лицо его стало таким страшным, что Могилянский помимо воли послушался.
Вот на изломе траншеи промелькнула его фигура, ещё раз показалась между сосновыми ветками и исчезла. Шамрай едва заметно улыбнулся.
– Вот теперь повоюем.
Оглядел своё оружие. Что может сделать пулемёт против танка? А вот солдатам, которые обычно едут в грузовиках за танками, он ещё может показать свою силу. И для этого нет необходимости быть за пулемётом двоим.
Шамрай смотрел, как нахально мчатся по шоссе немцы. Вот осталось сто метров, вот они уже рядом с дзотом. Сыплется песок сквозь доски, гудит земля над головой. И в мозгу, как надоедливая пчела, бьётся одна мысль: «Не сорваться! Не выдать себя!»
Прошли танки. Приблизился первый грузовик. Двадцать солдат сидят в кузове ровно, будто гвозди, вбитые в доску. Сколько вас останется в живых через пять минут?
Пулемёт словно захлебнулся, такой злой была первая очередь. Всех он скосил или нет? Из машины солдат как ветром сдуло. А может, ещё живы, попрятались? Сейчас прошьём борта, чтобы там ни одна мышь не схоронилась. Ну как, увидели Киев?
Неожиданно сзади, возле самого входа в дзот, разорвалась граната. Горячая волна ударила лейтенанта в затылок, и свет померк в глазах.
Немецкие танкисты ворвались в развороченный взрывом дзот, вытащили Шамрая и долго били его бесчувственное тело ногами в тяжёлых, кованных железом ботинках.
Потом подошёл офицер, недовольно поморщился, что-то сказал. Шамрая бросили в машину и быстро повезли по захламлённому шоссе в немецкий штаб,
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Расположенный в западных отрогах польских Карпат лагерь военнопленных Лаундорф лежал на теле земли как гнойный струп. Всё – по немецким стандартам. Ток высокого напряжения в колючей проволоке, туго натянутой между тонкими железобетонными столбами. Двадцать бараков в два ряда. Просторный апельплац. Административные корпуса, а за ними здание из красного кирпича с высокими трубами – крематорий.
И всё-таки это, как оказалось, не самый страшный из гитлеровских лагерей, не Майданек и не Освенцим, куда привозили людей только для того, чтобы уничтожить. В Лаундорфе пленных держат долго, на работы не посылают, и чёрный дым над кирпичной трубой вьётся не каждый день. Гражданских пленных здесь нет, только советские командиры и бойцы.
Над бараками, над колючей проволокой ограды, над зелёными Карпатами ранняя весна 1942 года. Гитлеровцы придавили железной пятой всю Европу. Их дивизии под Москвой и Ростовом.
На апельплаце, ещё мокром от талого снега, вытоптанном сотнями тысяч раненых, больных ног, – четыре тысячи пленных, ободранных, небритых, изнурённых. Комиссаров и политработников здесь нет, всех выявило и уничтожило гестапо, остались только строевые командиры, сержанты, бойцы.
На петлицах истлевших, почерневших от пота и крови гимнастёрок можно увидеть треугольники, квадратики, иногда даже «шпалы» – маленькие красные прямоугольники, знаки старшего командного состава.
Роман Шамрай стоял на апельплаце, с нетерпением ожидая, когда закончится утренняя перекличка и можно будет вернуться в барак. Холодный пронзительный мартовский ветер пробирал до костей. За лагерную зиму похудел лейтенант так, что, глядя на него, можно было изучать строение скелета. Ботинки, чудом державшиеся на ногах, вконец разбиты и стоптаны. Гимнастёрка истлела, уцелел лишь воротник, на нём видны петлички с двумя красными кубиками, обрамлённые потемневшим золотым кантом. Лицо, покрытое густой золотистой бородой, осунулось и побледнело, щёки запали, и от этого неестественно большими стали светло-синие глаза. Волосы отросли, как у дьякона, на затылке – тёмно-русая грива.
Над крыльцом штаба, куда ведут четыре бетонные ступени, громкоговоритель, передающий во время переклички приказы коменданта. Что они услышат сегодня?
На апельплаце их всегда держат полтора-два часа, за это время человек успевает промёрзнуть до костей. Зубы начинают стучать, как цимбалы. На этот раз пленные стояли уже два часа, а фельдфебель войск СС Арнульф Шнейдер всё прохаживался да прохаживался вдоль выстроенных шеренг, словно ему бог знает как нравилась эта прогулка.
Четыре тысячи человек в его власти. Делай что хочешь. Всё дозволено! Не понравилось лицо пленного или выражение его глаз, пистолет в руки – и нет человека. И никто не спросит, почему он это сделал.
От сознания собственной неограниченной власти эсэсовцы кажутся всегда немного пьяными. Ощущение безмерного права туманит голову сильнее вина. Глаза мутнеют, с их неподвижным осоловелым взглядом встретиться страшно.
Фельдфебель резко остановился, пристально вглядываясь в ряды измученных, небритых, страшных людей. Что это такое? Неужели показалось ему или в самом деле в чьих-то прищуренных глазах мелькнула злая усмешка? Рука невольно потянулась к пистолету. Если кто-то ещё может усмехаться в лагере Лаундорф, это значит, что фельдфебель Шнейдер работает неудовлетворительно. Кто же это? Не выстрелить ли наугад? Пожалуй, сегодня нельзя.
Комендант лагеря и ещё один пожилой человек в странной форме вышли из штаба, остановились на крыльце. Солдат поспешно поставил перед ними микрофон на длинной, похожей на опрокинутую пальму треноге.
– Ахтунг, – проревел фельдфебель Шнейдер, хотя и без того вся площадь замерла, затаив дыхание. На невысоком, слегка начинающем полнеть человеке, стоявшем рядом с комендантом, скрестились все взгляды. Широкий командирский ремень с пряжкой без пятиконечной звезды туго стягивал его сильную фигуру. С воротника гимнастёрки петлицы аккуратно спороты. На зелёном полевом картузе ни звезды, ни немецкой кокарды. Лицо хорошо откормленное, простое и одновременно хитрое.
«Такими когда-то у нас в театрах кулаков представляли, – почему-то подумал Шамрай. – Кто он, этот дядя?»
– Ахтунг, – повторил комендант лагеря и отступил от микрофона.
– Внимание! – сказал по-русски человек в гимнастёрке, занимая место коменданта. – Слушайте меня все! Я, полковник Лясота, один из первых понял, в чём заключается счастье и свобода нашей родины, и потому сейчас организую полки новой армии, которая должна будет вместе с нашими доблестными немецкими союзниками добить ненавистный большевизм, уничтожить Советскую власть и, наконец, наладить нормальную жизнь в многострадальной России. Мы создаём не только русские, но и национальные полки. Украинцы могут сражаться за свою землю, грузины – за свою, узбеки – за свою, русские – за свою, но все вместе против антихристов-большевиков.
Он говорил долго, разъяснял условия службы в новой армии, подробно рассказывал об оплате, питании, одежде, хотя, собственно говоря, мог бы ничего этого и не говорить.
Пленные сразу поняли всё. На протяжении нескольких месяцев из них, как выяснилось, продуманно и упорно готовили предателей. Сразу понятными стали появление и специальной газеты, и радиопередач, и твёрдых, как камень, галет, которые по воскресеньям выдавались к миске тёплой бурды, называемой супом.
Значит, сейчас нужно решить: остаёшься ты в лагере, обречённый на медленную смерть, или снова берёшь в руки оружие и идёшь в бой, только на этот раз не против немцев, а против своих, советских людей.
Роман Шамрай решил всё сразу. Он умрёт здесь, в лагере, с голода или от пули, но против своих воевать не станет. Гадать тут нечего. Господин Лясота может стелить перед ними мягкие ковры, но все они ведут к предательству. А этот путь не для Шамрая. Шутник, оказывается, этот полковничек!
Полковник перешёл от обещаний к угрозам.
– Немецкое командование отдало вас в моё полное распоряжение. Всех, кто не согласится принять участие в последнем и окончательном разгроме большевизма, я переведу в лагеря строгого режима, – звенел его голос. – Вы знаете, что это такое…
Да, это они хорошо знали. О лагерях уничтожения, откуда люди не возвращаются, рассказывали много. Фашисты не станут нянчиться с военнопленными. Своё обещание они выполнят.
Лясота жадно вглядывался в толпу, стараясь понять настроение этих молчаливых, мрачных людей. Убедили ли его слова? Дошли ли до сердца угрозы?
Ничего не прочитаешь на этих хмурых, бородатых лицах.
Может, всё-таки подействовали и обещания, и угрозы? Сдаётся, можно рискнуть и сейчас же спросить, кто согласен? Было бы настоящим триумфом, если бы согласились все. Да нет, на это нечего надеяться. Полковник имеет опыт. Соглашаются единицы. Правда, в этом лагере проводили подготовительную работу, возможно, она даст какие-нибудь результаты?
Полковник уже и рот раскрыл, чтобы решительно выкрикнуть: «Кто согласен, поднимите руки», как вдруг щёлкнул зубами, чуть было не прикусив язык. В глубине замерших шеренг, в море бородатых лиц сверкнула ехидная усмешка. Полковник сразу же отказался от своего намерения. Усмешка в лагере, на поверочной площадке, равносильна гранате. Там, в бараках, они, может, даже смеются, хотя, видит бог, радоваться им нечему. Но усмехаться здесь, на апельплаце, в присутствии господина коменданта – дерзость неслыханная!
А может, ему показалось?
Пробежал взглядом по шеренгам. Лица хмурые, исстрадавшиеся, где уж улыбаться этим тонким, в ниточку вытянутым губам? И всё-таки усмешку он видел. Не в этих ли ярких голубых глазах лейтенанта? Может, она спряталась в склоченных бородах его соседей? Значит, ещё рано ставить решительный вопрос. Нужно дать немного времени, чтобы подумали, оценили, взвесили.
– Мы могли бы сразу спросить вас, обласкать добровольцев, а всех несогласных немедленно отправить в концлагеря, – гремел в микрофон голос полковника, – но охваченные гуманными чувствами не сделаем этого. На размышления даётся двадцать четыре часа. Всё.
– Разойтись! – взревел Шнейдер, и голос его все услышали значительно отчётливее, чем хрипение громкоговорителя.
Молчаливые и сосредоточенные вернулись в свои бараки пленные. Нары возвышаются одни над другим, в три яруса. На каждой полке по двое. Духота нестерпимая. Испарения креозота смешиваются с запахом потного, давно не мытого тела, и от этого густого смрада кружится голова, останавливается дыхание, сердце замирает в груди и мысли становятся слабыми и безвольными.
В тот день на обед, словно показывая, какая роскошная жизнь может раскрыться перед пленными, им дали впервые не обычную баланду, а гороховый суп из концентратов.
– Осуждённым на смерть перед казнью во все века давали хорошенько поужинать, а иногда и выпить, – сказал, влезая на нары, артиллерийский капитан Иван Колосов, давний лагерный друг Шамрая.
– Не болтай лишнего, – ответил Шамрай. – Мы уже видели её, смерть-то. Жаль, мало времени дал полковничек на раздумье.
– Почему?
– Три дня ели бы гороховый суп.
Барак жил своей обычной жизнью, будто ничего не случилось на апельплаце, но в мозг каждого раскалённым стальным буравом ввинчивалась одна и та же мысль.
Минуты шли за минутами, исчезая удивительно быстро, и поэтому казалось, что времени остаётся очень мало, чтобы найти ту единственную правильную дорожку, которая выведет тебя из лагеря. Выбрать её, пожалуй, так и не удастся.
Молчание длилось до самой вечерней переклички. На этот раз Шнейдер не задерживал пленных на апельплаце. Всё окончилось за полчаса. Разговор повели после проверки.
– Ну что же мы решили? – тихо спросил Колосов, когда железные двери барака закрылись наглухо.
– Нужно бежать, – решительно сказал Шамрай. – Живыми отсюда мы не выйдем.
– Куда?
– Не знаю куда, но бежать.
– Конечно, можно было бы согласиться с Лясотой, взять оружие и в первом же бою перейти к нашим. Но эта игра не для меня, – заявил Колосов.
– Правильно, такая игра – не для нас. Что же тогда остаётся?
– Ты уже сказал – бежать.
– А ты, капитан, знаешь, как это сделать?
Шамрай умолк, затих и капитан Колосов. Нары уз-кие, лежать на них вдвоём можно только боком, если один ляжет навзничь, для другого не остаётся места. Люди будто врастают один в другого.
Но как бы близко ни смыкались тела, мысли оставались у каждого свои. Какие? Если прислушаться, весь барак наполнен короткими напряжёнными разговорами. О чём? О близкой смерти? Или о жизни? О подвиге или о предательстве? Казалось, что напряжение возрастает с каждой минутой и достаточно одной искры – случая, злого, резкого слова – и тишина взорвётся, а люди, охваченные безумием, забыв о пулемётах, часовых, об убийственном токе в колючей проволоке, бросятся на ограду, надрывая горло, движимые одним желанием – вырваться из когтей смерти. Массовый психоз, как хищный зверь, подступал бесшумно, он был близко, где-то совсем рядом… И если бы кто-нибудь в этот миг крикнул: «Бейте гадов!» – все, не раздумывая, кинулись бы убивать охрану.
– Нужно что-то предпринять, – сказал Колосов. – Иначе ребята не выдержат… Тогда гибель.
– Вы-дер-жим, – хрипло ответил Шамрай. И сам не узнал своего голоса.
– Начинай песню, – приказал Колосов.
– Песню? Какую? – удивился Шамрай.
– Какую хочешь. Только чтобы все знали слова.
Чем может сейчас помочь песня? А вдруг… вдруг Колосов прав и только песня сможет снять испепеляющее душу напряжение, выпустить его, как пар из перегретого котла. Только какая же может быть песня? И вдруг Шамрая осенило.
– Шумел камыш, деревья гнулись. А ночка тёмная была… – громко запел он.
Сначала барак замер, не в силах понять, что случилось? Почему запели? И именно такую песню? Может, кто-нибудь сошёл с ума? Потом мотив, как эхо. отозвался у дальней стены барака, песню подхватили сразу несколько сильных голосов с каким-то радостным и исступлённым ожесточением.
Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра!
Теперь две сотни голосов пели, в каждое слово вкладывая всю свою беспредельную тоску, страх смерти и желание хоть как-нибудь заявить о своём человеческом праве на жизнь. Песнь охватывала их души, как огонь сухую солому, чтобы весёлыми и злыми искрами, взлетев в небо, покорить весь мир своей буйной горячей силой и, припав к земле, сразу умереть.
Песня окончилась, но успокоение не наступило. Они должны были петь, потому что молчание для них было хуже смерти. И песню начали снова. Ту же самую, ещё исступлённее, ещё неистовее. Только этим пленные могли выразить свой протест, доказать, что и они люди…
А нервы натягивались всё туже. Что-то всё-таки должно было случиться, и ожидание этого стало острым и ощутимым, как физическая боль.
Нары вытянулись в два ряда. Между ними во всю длину – двухметровой ширины проход. Над ним электрические лампы, горящие и днём и ночью. Их наглый и резкий, как удар ножа, свет неумолимо выворачивал наизнанку пропитанное креозотом нутро барака.
В перерыве между двумя куплетами, песни, когда в бараке возникла мгновенная тишина, все услышали, как осторожно с третьего этажа нар на пол соскочил невысокий смуглый человек. Он, ударив в ладоши, высоко подпрыгнул и легко пошёл вдоль нар по проходу, то поднимаясь на носки, то припадая на колени, то гордо поводя плечами. Лейтенант Мосашвили танцевал лезгинку. Глаза большие, чёрные, полные сумасшедшего огня, широко распахнуты. Бледное лицо заросло густой бородой. Худой и измождённый, словно прокалённый в огне, он танцевал с увлечением, вдохновенно. С его костлявых плеч спускалась изодранная в лохмотья гимнастёрка, на ногах какие-то опорки. Но этого никто не видел. Сейчас перед пленными танцевал красавец горец, в мягких, как перчатки, сапожках, в чёрном бешмете с белыми газырями, ту го перехваченный по узкой талии ремнём с украшениями накладного серебра. Косматая чёрная папаха плыла в воздухе. Ноги выбивали чечётку, кинжал сверкал, всему миру показывая своё блестящее жало…
Вдруг распахнулись настежь широкие двери барака, будто от свежего мартовского ветра. На пороге стоял ефрейтор Любке с автоматом в левой согнутой руке. За ним двое солдат.
Некоторое время он стоял неподвижно, глядя, как танцует Мосашвили. Потом скомандовал:
– Хальт!
Лейтенант не расслышал приказа. Он ничего не слышал. В его ушах звучала знакомая вихревая музыка, пели барабаны, над головой сияли родные звёзды Грузии, и он самозабвенно танцевал лезгинку. Только смерть могла остановить его.
Любке презрительно поморщился, потом повёл автоматом, и сразу огненные цветки вспыхнули на стальном остром рыльце. В бараке стояла такая тишина, что выстрелы не сразу дошли до сознания, они показались бесшумными.
Мосашвили высоко вскинул руки и упал навзничь на деревянный пол. Его ноги ещё танцевали, и, пожалуй, никто из пленных не видел ничего страшнее этого бешеного ритма лезгинки со смертными конвульсиями пополам.
Барак замер, затаив дыхание. Любке оглядел всех, проверяя, не нужно ли выстрелить ещё, потом указал на труп. Солдаты схватили мёртвого за ноги и выволокли наружу. Любке постоял прислушиваясь.
Потом, величественно повернувшись, вышел, хлопнув дверями.
– Вот и нет Мосашвили, – сказал Колосов. – Кто следующий, я или ты?
– Всё равно. Нам отсюда живыми не выйти. Мосашвили хоть умер красиво, а нас с тобой пристрелят как бездомных собак.
И замолчали оба, думая о завтрашнем дне, о хитром кулацком лице полковника Лясоты и его предложении снова взять в руки оружие.
Нет, это не для них, и думать нечего. Итак, значит, смерть? Значит, смерть. А если попробовать убежать? Разве это не верная смерть?
И всё-таки стоит рискнуть. Смерть с надеждой на свободу куда легче, чем жизнь в ожидании смерти от пули, цинги или голода.
На рассвете их выгнали на апельплац. Серый мартовский рассвет неохотно поднимался над Карпатами.
Комендант и полковник Лясота вышли на крыльцо в восьмом часу. Пленные затихли, притаились.
– Внимание, – сказал Лясота. – Двадцать четыре часа, которые вам дали на размышление, прошли. Кто хочет взять в руки оружие, чтобы вернуться на родину и громить большевиков, поднимите руки.
У него был опыт таких бесед. Нечего ждать, чтобы над шеренгами поднялся лес рук.
– Ну смелее, смелее! Поднимайте руки, поднимайте! – повторил полковник.
Над огромной четырёхтысячной толпой, запуганной и дисциплинированной пулемётами, он увидел десятка три несмело вскинутых рук.
– Выше, выше! – командовал полковник.
Две руки неожиданно опустились. Комендант посмотрел на Лясоту иронически. Он вспомнил предшествующие случаи, на этот раз добровольцев тоже будет до смешного мало.
– Настоящие русские патриоты! Выйдите вперёд! – патетично выкрикнул Лясота.
Двадцать семь пленных вышли и остановились перед крыльцом. Шли они, потупив глаза, между шеренгами пленных проходили боязливо, словно ожидая и боясь удара.
– В одну шеренгу становись! – скомандовал Лясота, и они поспешно выстроились перед ним, желая найти поддержку друг в друге, почувствовать рядом плечо единомышленника по измене.
– Кру-гом! – гремел Лясота.
Они повернулись.
– Я поздравляю вас, земляки, со вступлением в армию, которая поможет освободить нашу многострадальную отчизну от тирании большевиков. Взгляните перед собой, вы видите людей, которые чёрною неблагодарностью ответили на милость победителя, на то, что им даровали жизнь. Они просчитались. Жизнь им не будет дарована. Знайте, я предложил господину коменданту расстрелять каждого третьего из этих болванов, и он согласился со мной. Теперь вы видите, кто выиграл и кто проиграл?