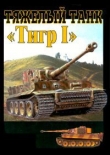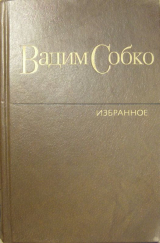
Текст книги "Избранные произведения в 2-х томах. Том 2"
Автор книги: Вадим Собко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 46 страниц)
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
«Если хочешь узнать человека, дай ему власть, хоть на один день», – Шамрай вспомнил эту старую пословицу, глядя на Скорика.
Шамраю даже показалось, что Скорик закрывает глаза, прислушиваясь к своему голосу. Да, для такого подонка, видно, истинное наслаждение владеть судьбами, жизнью и смертью этих несчастных людей. Двести пленных седьмого барака принадлежат ему одному. Он всемогущий царь и бог, что хочет, то и делает. И здесь, как видно, комендант и его заместитель в обычные бытовые дела лагеря не вмешиваются. Лишь бы был порядок и дисциплина. Лишь бы исправно выполнялись наряды на работу и не было побегов.
Пленные «рассчитались» по номерам: всё в порядке, все на месте.
– На-пра-а-во! Седьмой барак за мной ша-го-ом арш! – скомандовал Скорик,
По рядам пленных пробежала волна сдержанного вздоха. Покорно двинулись они вслед за блоклейтером зачем-то в конец лагеря, где двор заканчивался склоном неширокого оврага.
Остановились возле ограды, в углу, недалеко от вышки, на которой отчётливо виднелось короткое рыльце пулемёта. Возле пулемёта молодой немецкий солдат. Охраняют лагерь французы, но пулемётов им не доверяют.
Лагерь лежал у подножья горы, а дальше, внизу, в долине, раскинулся город Терран, тихий и спокойный в последнем сиянии апрельского дня. Высоких зданий не видно – трёхэтажный дом считался чуть ли не небоскрёбом. На площади – мэрия и церковь с часами. Вечером удары медного колокола доносились до лагеря. Улочки, извилистые, узенькие, как ручейки, сбегались к площади. Дома стояли, прижавшись вплотную один к другому: земля в центре дорогая. Зато окраины потонули в зелени, и двухэтажные весёлые коттеджи выглядывали из-за деревьев, словно играли друг с другом в прятки. За ними стояли высокие бензобаки нефтехранилища. Ещё дальше, на север и на юг от Террана, – терриконы двух шахт. А вокруг возвышались не горы, а отлогие холмы, местами покрытые негустым леском или заплатами чёрной пахоты и ярким изумрудом озимых. Маленькая голубая речка, как узкий кушачок, опоясывала город. Пейзаж ничем не приметный, мирный, нежный и какой-то очень покойный и в то же время ярко-красивый, как и все в природе бывает ярко и красиво тёплым весенним вечером, при закате солнца.
Лагерь на окраине Террана уродовал город, вгрызался в его тело, будто раковая опухоль, но с этим все, видно, давно свыклись.
Между лагерем и городом небольшая, пожалуй метров в сто шириной, рощица. Можно считать, лагерь отгородился от Террана этой зелёной стеной.
Считать, конечно, можно. В действительности же жизнь города, как потом убедился Шамрай, прорывалась в лагерь и каждая лагерная трагедия сразу становилась известной всему городу. Здесь не было тайн. Да и о каких тайнах могла идти речь, если главное, что всех тогда интересовало – события на фронте, – не было секретом. Каждая новость мгновенно разносилась по городу и лагерю. Её не могли сдержать ни колючая проволока, ни охрана, тем более что часовые у ворот – французы. Они в душе глубоко презирали своих хозяев, как говорится, держали кукиш в кармане.
– В одну шеренгу! – раздался голос Скорика, прерывая мысли Шамрая, смотревшего на город.
Пленные послушно вытянулись в один нескончаемо длинный ряд. На правом фланге шеренги стоял чуть ли не двухметровый Колосов. Кто там притулился на левом? Разобрать невозможно. Сумрачные лица, давно не бритые бороды и драные жалкие лохмотья.
– Смирно! – Скорик шёл вдоль шеренги замерших насторожённых людей. Взглянул на Гиви Джапаридзе, протянув руку, схватил за лохмотья и, вырвав из строя, отбросил метра на два. Джапаридзе не удержался на ногах, упал, потом с трудом поднялся. Глаза от ненависти налились кровью. В горле слышалось глухое хрипение.
А Скорик, не обращая внимания на сержанта, даже не оглянувшись, шёл дальше, зорко вглядываясь в шеренгу. Увидев ещё одного ослабевшего, с трудом державшегося на ногах пленного, он и его вырвал из строя, потом ещё и ещё…
Пять человек, страшных, обросших, измождённых до пугающей худобы, стояли перед замершим в томительном ожидании строем. Солнце клонилось к горизонту, заглянуло в лица измученных людей. И глаза пленных, глубоко запавшие в орбитах, показались стеклянными, неестественно большими.
Как они ещё жили и чем – понять было невозможно. Они стояли плечом к плечу, опираясь друг на друга, – так было легче держаться на ногах.
Блоклейтер прошёлся вдоль строя, резко повернулся и снова прошёлся, пристально всматриваясь в пленных: не пропустил ли кого. Глаза его, как острые жала, впивались в бледные лица с опущенными прозрачными голубыми веками и горько сомкнутыми ртами. Такой взгляд – один только взгляд – мог причинить острую боль.
Нет, никто не пропущен. Павел Скорик повернулся спиной к шеренге. Усмехаясь, взглянул на пленных, которых сам вывел из строя, склонил голову, рассматривая их.
– Нечего сказать, хороши красавцы!.. Коваленко, музыку!
На простой глиняной дудочке-окарине какой-то пленный – Шамрай не мог рассмотреть, кто именно, – старательно и угодливо начал играть весёлую немецкую песенку «Розамунда».
В предвечерней тишине окарина звучала пронзительно громко, омерзительно ввинчиваясь в уши, раздражая и без того натянутые нервы и предвещая беду.
– Ну, что же вы не пляшете? Для кого же мы играем? – громко спросил Скорик этих пятерых узников. – Порядка не знаете?
Пленные стояли неподвижно: им было не до пляски.
– А ну, давай, доходяги! – крикнул Скорик. – Веселей!
Один из пленных покачнулся, попробовав поднять ногу, и чуть было не упал.
– Я его сейчас задушу, собаку, – сквозь стиснутые зубы прохрипел Шамрай.
– Спокойно. У него пистолет. – Стоявший рядом капитан Колосов стиснул кисть Романа.
– Давай! – вновь скомандовал Скорик.
В его руке, со свистом рассекая воздух, взвился ремённый хлыст, и всем почудилось, что это не один, а десять хлыстов полосовали вечернее небо, – так остервенело размахивал Скорик своей плёткой. Удары хлыста ложились на землю возле ботинок пленных, и те, спасая своё ноги, подпрыгивали, изгибались и вновь подпрыгивали, стремясь уклониться от плётки… Со стороны казалось, будто несчастные танцевали какой-то дикий и странный танец.
– Давай, давай! – кричал азартно Скорик.
Он уже её хлестал землю нагайкой, а пленные всё же судорожно, вымученно топтались под весёлый ритм песенки.
И вдруг над лагерем, над вытянувшейся шеренгой, над Терраном и, казалось, над всем миром прозвучал весёлый, захлёбывающийся от восторга смех. Это было так противоестественно и невероятно, что даже Скорик, вздрогнув, на мгновение остановился, не понимая, что случилось.
– Молчать! – крикнул он.
Но смех не утихал.
– Молчать! – заревел блоклейтер, взглядом пронзая шеренгу.
– Посмотри-ка вверх, – спокойно прогудел бас Колосова, и сразу сотни голубых, серых, карих, чёрных глаз, широко распахнутых от испуга и тревоги, устреми лись к вышке.
Там, возле пулемёта, стоял во весь рост, заливаясь истерическим смехом, невысокий белобрысый, ещё совсем молоденький немец в аккуратном мундире. Значок «За зимнюю кампанию 41-го года» поблёскивал на его груди. Видно, щедро, не скупясь, проморозила его нервишки звонкая подмосковная зима, видно, и по сей день мерещились ему жуткими бессонными ночами залпы «катюш», если врачи оставили его в тылу для несения караульной службы.
Немец хохотал исступлённо, а Коваленко всё играл и играл свою весёленькую «Розамунду», и каждый куплет вызывал у часового новый неистовый приступ смеха. Солдат смеялся в такт песенки, судорожно обессиленными руками хватался за живот, не сводя с пленных сумасшедших, вытаращенных от ужаса глаз.
– Отставить музыку! – приказал Скорик, но Коваленко не расслышал этой команды. Он старательно дул в свою глиняную дудку, выполняя приказ блоклейтера.
Скорик подбежал, вырвал из его рук нехитрый инструмент, музыка оборвалась.
Но взрывы смеха по-прежнему доносились с вышки, леденя душу. И уже заползал в сердце страх, росла, как пламя на ветру, тревога: а не припадёт ли этот безумный немец к пулемёту и не полоснёт ли очередью по шеренге, не разбирая, где пленные, а где блоклейтер.
– Смирно! – истошно крикнул Скорик по-немецки, и смех тотчас прекратился, будто ножом его отрезало. Привычное слово команды заткнуло судорожно вздрагивающее горло безумного солдата, как тугой кляп. Воцарилась жуткая тишина. Обессиленно обмякнув, часовой навалился всем телом на свой пулемёт. Послышалось его тяжёлое, всхлипывающее дыхание.
Пленные застыли с широко открытыми глазами. Им приходилось видеть и пытки, и внезапную смерть, они и сами фактически медленно умирали, но безумный смех наводил на них ужас, предвещая катастрофу. Психические припадки заразительны, как повальная болезнь. В лагерях, где нервы людей перенапряжены, истерия одного человека рождает иногда массовое безумие. Случалось, что люди, охваченные всеобщим психозом, одержимо, без мысли, без страха, лезли по трупам на пулемёты. Скорик знал подобные случаи и потому поспешил увести своих «подопечных» подальше от опасной вышки.
– К кухне, – скомандовал он, зная, как благотворно влияет на людей эта команда. – А вы, – он указал на Гиви Джапаридзе и стоявших с ним четырёх пленных. – Идите за мной.
– Что он с ними сделает? Расстреляет? – шёпотом спросил Шамрай у Колосова.
– Нет, хорошенько накормит, – тихо ответил тот. – Ни черта у него не поймёшь…
– А мы, – спросил Шамрай, с трудом приходя в себя после этой жуткой сцены. – Мы будем ужинать?
– Будем, – Колосов едко усмехнулся. – Распускай пояс, сейчас наешься от пуза.
Перед кухней на длиннющей скамье уже стояли, выстроившись в ряд, алюминиевые чашки с бурдой, которую называли супом. Возле каждой лежал кусок суррогатного хлеба. Вес – точно сто пятьдесят граммов.
Пленные подходили к этой длинной лавке. Похлебать суп и съесть кусок хлеба – на это требовалось всего несколько минут. В конце дворика, тоже высокая лавка – на неё нужно было поставить пустые чашки.
Задерживаться нельзя. Эта процедура смахивала на конвейер. Две порции не возьмёшь: дежурный блоклейтер следит за каждым движением пленного.
– Ну вот и повечеряли, – невесело сказал Колосов, поставив на деревянную стойку пустую посудину. – У тебя что, нет ложки?
– Нету, – ответил Шамрай. Ему пришлось просто выпить этот вонючий суп. – Откуда ей быть?
– Возьми мою. У меня две.
– Спасибо.
Они молча направились к своему бараку. Голод немного угомонился. Пленные давно уже привыкли к постоянному чувству голода – в желудке будто сидит ненасытная жаба и гложет, гложет, проклятая… О том, чтобы наесться досыта, искушённые лагерники даже и не мечтали.
Теперь в бараках горели электрические лампочки: незадолго до темноты включили освещение. При ярком свете грязное омерзительное нутро барака выглядело страшнее, чем днём. Сделай шаг – и всё: тебя сейчас же проглотит огромное чудище, и навсегда пропадёшь в его чёрном, смердящем чреве.
– Неужели этому никогда не будет конца? – спросил Шамрай Колосова.
– Конец будет.
– Когда?
– Когда наши разобьют Гитлера.
– А мы?
– Что мы?
– Что мы для этого делаем? – Шамрая била нервная дрожь.
– А что мы можем сделать?
Шамрай не ожидал такого ответа. Он ссутулился и затих.
– Не теряй надежды, парень, – пытался подбодрить его Колосов.
– На что?
– Не знаю…
– Тогда и молчи, коли не знаешь, – огрызнулся Шамрай.
– Хорошо, будем молчать, – согласился капитан. Казалось, ничто на свете не могло вывести его из равновесия.
Они вошли в барак, и сразу их встретили возбуждённые, сверкающие глаза Гиви Джапаридзе.
– Я убью его, я непременно его убью, – прохрипел сержант. Он сидел на нарах и со злобой, до боли стискивал кулаки.
– Успокойся и хорошенько выспись, – посоветовал Колосов, – ещё неизвестно, добро или зло причинил тебе Скорик.
– Как же так? – Гиви подскочил как ужаленный.
– А вот так. Ты давеча умирать собрался, лежал ко всему равнодушный, а теперь, гляди, убивать готов. И злость, и сила нашлись… Ненависть, сержант, великое дело.
– Что ж, мне, выходит, ещё и благодарить этого выродка надо? Что-то я тебя не пойму, Колосов…
– А тут и понимать нечего, – устраиваясь на нарах, ответил капитан. И сказал Шамраю: – Давай спать. Завтра тебе выходить на работу. Труд нелёгкий, силы понадобятся. Спи.
– Спокойной ночи, – впервые за долгое время пребывания в плену пожелал Роман Шамрай.
– Здесь, лейтенант, не бывает спокойных ночей, – заметил Колосов. – Но всё-таки спокойной ночи.
Шамрай вытянулся во весь рост на жёстких нарах, и только что пережитая страшная сцена встала перед его глазами: высокая вышка с пулемётом чётко проступает на фоне багрового зарева закатного неба и на вышке аккуратный, в застёгнутом на все пуговицы мундире немец, он заходится от истерического хохота, простирая к небу худые, совсем детские руки…
И тут же всё поглотила сонная душная темнота. Но ненадолго, Шамрай будто закрыл и тут же открыл глаза – такой короткой показалась ночь.
– Вставай, – прогудел над его ухом бас Колосова. – На работу пора.
– Ведь ещё не звонили, – недовольно пробормотал Шамрай.
– Сейчас зазвонят. К кухне первые подойдём… Первым, как правило, дают порцию чуть-чуть побольше.
Это сообщение возымело действие. Шамрай тотчас спустил с нар ноги. Голод проснулся вместе с ним, вечный, лютый, как зверь, голод.
– Давай поживей умываться, – командовал Колосов.
– Здесь ещё и умываются? – удивился Шамрай. – Может, и мыло есть?
– С мылом помоешься в душевой, после смены. Пошли быстрее.
Роман смотрел и не узнавал Колосова. Не иначе как подменили человека. В чём дело? Неужели капитану хочется поскорее очутиться в шахте и взяться за работу? Ходит по бараку, будит, подгоняет измученных, невыспавшихся людей. Перед начальством выслуживается, что ли… Этого ещё не хватало.
В большой, без окон, освещённой яркими лампами комнате в стены были вмонтированы десять кранов и из каждого серебристой струйкой звонко лилась вода.
Шамрай, осторожно ступая, чтобы не упасть, прошёл по чёрному, скользкому от постоянной сырости цементному полу, сбросил пиджак, рубашку. Господи, до чего же он худой, обмыть да в гроб положить. Все рёбра хоть пересчитай, а шея – тонкая и жалкая, как у цыплёнка. Воротник гимнастёрки, что хомут, болтается на шее.
– Бережёшь? – Колосов, кивнув на воротник, улыбнулся.
– Берегу, – твёрдо ответил Шамрай.
– И правильно делаешь, – тоже твёрдо проговорил капитан. – А теперь мойся. Вода – друг человека, а чистота – залог здоровья.
Колосов тоже снял свой драный бушлат. Нет, не очень-то выслужился он перед немцами, не жирно содержат они своего слугу. Тоже наглядное пособие по анатомии: кожа да кости. Правда, великан, даже худой, остаётся великаном. Ростом Колосов вымахал с коломенскую версту, метра два будет.
После умывания Колосов выстроил свою бригаду быстро, умело, как некогда свой дивизион. И удивительное дело, никто не возмутился, не огрызнулся, наоборот, все смотрели на него дружелюбно. «Конечно, ссориться с будущим лагерным начальством ни к чему, куда выгоднее ладить, но всё-таки… – сокрушённо подумал Шамрай. – Подхалимы чёртовы, шкурники. Убили в вас чувство человеческого достоинства. За тухлую похлёбку готовы продаться с потрохами… Ну нет, касатик, с Шамраем у тебя так не выйдет… Хоть ты, как видно по всему, и будущий блоклейтер, Шамрай не будет стелиться перед тобою. Не на того напал!»
Только сейчас заныл, зарыдал рельс. Рановато поднял их всех служака. В последнюю минуту в дверях барака появился Джапаридзе.
– Возьми и меня в шахту.
«Чудеса, и этот рвётся», – удивился Шамрай.
– А кто вчера смерти хотел? – напомнил Колосов. – Давай, становись. Шагом марш!
Колонна пленных, девяносто шесть человек, выстроенных по четыре в ряд, двинулись к кухне. Снова миска синеватого супа из солёной рыбы и кусок хлеба.
– А обедать где будем? – спросил Шамрай.
– В шахте угольком закусим, – усмехнулся Колосов. – Это тебе и обед, и завтрак.
– Там же работать надо.
– Ещё как. Хлеб весь не ешь, половину в шахту возьми, – посоветовал капитан.
– Вот этой глупости от меня не дождёшься, – ответил Шамрай. – Я учёный. На завтра запасов не оставляю, потому что этого «завтра» может и не быть.
– И то правда, – добродушно согласился Колосов.
«Странно всё-таки, отчего у человека здесь, в лагере, может быть хорошее настроение?» – продолжал удивляться Шамрай.
Появился Скорик, глаза припухли от сна или от бессонницы, не понять. Оглядел бригаду. Колосов подошёл к нему.
– Сколько?
– Девяносто шесть.
– Хорошо. Веди.
Через ворота колонна прошла без контроля. Просто француз, одетый в какое-то немыслимое сочетание немецкой и французской полицейской формы, пересчитал военнопленных и запер за ними ворота. Появились четверо конвоиров-полицейских; двое по сторонам и двое – в хвосте колонны. Скорик и Колосов впереди.
«Убежать отсюда проще пареной репы», – подумал Шамрай.
Машинально опустил руку в карман пиджака. Заветный гвоздик на месте, никуда не делся, значит, всё в порядке. Колонна шла быстро, и Шамраю снова показалось, что все пленные почему-то спешат в шахту. Неужели торопятся приняться за работу? А если нет, то что их там привлекает? Всё было странно и непонятно. Откуда у советских людей могло появиться желание работать на фашистов? Неужели так сломили, покалечили волю этих красноармейцев, старшин, командиров гитлеровские лагеря?
Сотни противоречивых мыслей и подозрений, тысячи тревожных вопросов раздирали сердце Шамрая. А вокруг уже просыпалось утро – старое, как мир, и всегда сказочно новое рождение весеннего дня. За далёкими сизовато-сиреневыми холмами всходило солнце, и ночной туман белыми прозрачно-густыми реками хлынул в долину. Высокое облако, освещённое нежно-розовыми лучами, словно смутясь, растаяло в небесной звонкой синеве.
Шахтёрский, закопчённый угольным дымом пропахший Терран уже давно не спал. Хитровато подмаргивая, светились окна домиков на окраине, улицы наполнялись молчаливыми хмурыми людьми: это на смену тля шахтёры.
«Может, мы пройдём по улице Бордо?» – подумал Шамрай. Но колонна пленных, не доходя до города, свернула в сторону. Возле шахты минут пять ждали, пока пройдут вольные рабочие. А потом Скорик скомандовал:
– Проходи!
Когда-то, может, это была и приличная шахта. Во всяком случае, на душевую, куда заглянул Шамрай, хозяева не поскупились. Длинные ряды цементных скамеек. Пол выложен белой плиткой. Из душевой даже пахнет мылом. Там, пожалуй, после работы удастся помыться горячей водой. Шамрай вошёл в раздевалку и испуганно отшатнулся. Ему показалось, будто под крышей раздевалки висели люди. Ноги в башмаках беспомощно высовывались из грубых брезентовых штанин. От каждого к гвоздику, вбитому в балку, тянулась перекинутая через блок верёвка. Колосов дёрнул за узелок. Один из «повешенных» упал к ногам Шамрая, стукнувшись каской о пол, и оказался комплектом шахтёрской спецодежды. Шамрай вздохнул облегчённо: выходит, во Франции её не прячут в шкафчики, а вешают под потолок.
– Всё подобрал себе? – спросил Колосов, заглянув в раздевалку.
– Все на месте, – Шамрай уже надел брезентовую куртку и штаны. Каска с фонариком удобно пришлась по голове. – А где аккумулятор?
– Всё знаешь, – Колосов ловко, одним движением широких плеч, надел куртку. – Перед спуском получишь. Ты в шахте кем работал?
– Кайло в руках держать умею.
– А пневматический молоток?
– Приходилось. Врубовые машины здесь есть?
– Нету. Техника у здешних хозяев замерла на отбойных молотках. Это тебе не Донбасс. Врубовая машина – вещь дорогая, а рабочая сила – даровая. Вот и соображай.
Вокруг стоял привычный говор, люди, тихо переговариваясь, быстро и умело переодевались. И опять Шамраю показалось по какому-то еле заметному оживлению – пленные рвутся в шахту. Что за чёрт? Тут что-то не так. Необходимо хорошенько присмотреться, всё понять…
– Салют, папа Морис! – вдруг во всё горло могучим басом крикнул Колосов. И Шамрай вздрогнул. «Морис? Интересно… Впрочем, мало ли во Франции Морисов…»
Перед Колосовым, посматривая на капитана снизу вверх, как на крепостную башню, стоял невысокий кряжистый человек в брезентовой шахтёрской робе. Каску с фонариком он держал в руке, и Шамрай мог рассмотреть его лицо.
Ничего особенного в этом лице не было. Просто хорошо выбритый и вымытый сорокапяти летний мужчина, уже немного седоватый, круглолицый. Пожалуй, любит выпить и вкусно поесть. Полные губы под тёмными усиками, которых ещё не коснулась седина; глаза серые, острые, насторожённые и одновременно весёлые, словно в любом, даже самом грустном положении, папа Морис хочет найти повод для весёлой шутки. По всему видно, сильный и здоровый, как буйвол…
– Кто это? – тихо спросил Роман у соседа.
– Морис Дюрвиль, горный мастер.
Ноги Шамрая будто приросли к кафельному полу.
– Морис Дюрвиль?
– Да, Морис Дюрвиль, – сосед не обратил особого внимания на вопрос Шамрая.
– А где он живёт?
– Откуда я знаю. В Терране, конечно. А тебе зачем знать? Он тебе что, отец родной?
– Нет, бабуся, – Шамрай уже овладел собой, но взгляда оторвать от Дюрвиля не мог.
– У нас новичок, – сказал Колосов, указывая на Шамрая.
– В шахте работал? – серьёзно и в тоже время весело спросил Дюрвиль.
– Работал.
– Где?
– В Донбассе.
– Рекомендация первоклассная, – Морис Дюрвиль засмеялся, вынимая откуда-то из-за шкафа отбойный молоток. – Эту машину знаешь?
– Знаю.
– Очень хорошо. Считай, одним, шахтёром стало больше во Франции. Рад тебя приветствовать на шахте «Капуцын»… Под землёй увидим, чего ты стоишь. Счастливо…
И отошёл от Шамрая, занятый своими делами.
– Все готовы? – спросил Колосов. – Пошли в аккумуляторную.
Во Франции каждый шахтёр имеет свой аккумулятор с номером, спускаясь в шахту, берёт его, а после смены ставит подзаряжаться на стенд. Пленные были лишены этого права. Им нет доверия. И аккумуляторы, и обыкновенные старые «шахтёрки» – «лампочки Деви», они ежедневно получали и сдавали в аккумуляторную, или, как говорят шахтёры, в «ламповую».
Пленные по одному проходили перед широким окном аккумуляторной. За металлической сеткой стояла девушка, выдавала плоские, свинцово-тяжёлые аккумуляторы, похожие на заряды спрессованной, хорошо упакованной взрывчатки, и ещё находила при этом для каждого пленного доброе слово.
– Смотрите-ка, новенький, – проговорила она, когда подошёл Шамрай. – Ну что нового на фронте?
– Я уже два года в плену, – глухо ответил Шамрай.
– А-а, значит, героя войны из тебя не вышло, – пошутила девушка. – Ну, бери свой аккумулятор и спускайся под землю.
Она подала Шамраю аккумулятор, он протянул руку и тогда увидел её глаза. Большие, тёмно-синие, они казались бездонно глубокими. Лицо девушки не было красивым в обычном понимании этого слова. Крупноватые губы, тонкий нос с горбинкой, чуть тяжеловатый, острыми линиями очерченный подбородок, высокий чистый лоб под тёмными волосами. Сама хрупкая, как девочка, но высокая и, пожалуй, сильная. Руки, кое-где обожжённые кислотой, колдуют над аккумуляторами быстро и умело. Лет ей двадцать, а может, и меньше…
Щёки Шамрая неожиданно порозовели, потом стали пунцовыми.
– Ха-ха-ха! – девушка весело рассмеялась. – Ты, парень, оказывается, ещё краснеть не разучился. Прямо красная девица!
– Да нет, отвык, пожалуй, – глухо сказал Шамрай,
– В шахте привыкнешь, – она улыбнулась ему и, передавая аккумулятор следующему пленному, забыла о Романе Шамрае.
– Кто эта девушка? – спросил лейтенант пленного.
– Жаклин Дюрвиль – дочка нашего мастера.
– Папы Мориса?
– Да. Я тебе скажу, язычок у неё – бритва. Так обожжёт – долго болит. Учти.
– Я уже успел это почувствовать, – признался Шамрай.
Возле входа в клеть шахты стояли Скорик, Колосов и Дюрвиль. На чёрной доске, как щетина на щётке, были набиты гвозди. Перед входом в клеть каждый шахтёр вешал на гвоздик свой медный, похожий на большую монету номер. Выходя из шахты, снимал и бросал в щель ящичка. Система простая и примитивная, но точная.
Взглянешь на доску и сразу увидишь, сколько шахтёров осталось в шахте и кто именно. Выход только один – через главный ствол. Шахтёры в шахте, что мухи в бутылке: убежать невозможно.
Колосов, Шамрай и Дюрвиль вошли в клеть последними. Скорик остался на поверхности. Махнул на прощание рукой, посмотрел, как проваливается в темноту железный ящик, как бегут бесконечными змеями тросы, окинул взглядом доску и пошёл в лагерь. Вечером он снова придёт сюда с ночной сменой. И так каждый день, смена за сменой, будто на свете совсем нет войны, а немцев не разгромили в Сталинграде.
Есть что-то от пугающей торжественности кафедрального собора в тишине огромного подземного завода, который называется шахтой. Эта тишина таинственна и опасна. Сотни метров земли, нависшие над головой, неподвижны и грозны. Они угнетают, не дают свободно вздохнуть. Где-то тихо падают звонкие капли воды. Тепло и душно. Среди других приглушённых, слабых звуков особенно различимо какое-то звонкое бульканье, будто из опрокинутой бутылки вынули пробку – это из пластов вырывается рудничный газ метан.
Романа Шамрая шахта не пугала. Пусть даже газовая. Не всё ли равно. В Донбассе немало газовых шахт. Эта сравнительно неглубокая, метров триста, не больше. Угольный пласт сантиметров восемьдесят, но не очень крутой. Ничего особенного. Вот, может, система крепления несколько другая.
Всё это Шамрай заметил почти механически. А главная его мысль, как оса, билась возле вопроса: как очутиться наедине с Дюрвилем? Неужели не удастся?
Удалось. Из освещённого шахтного двора они вошли в темноту штрека. Фонарики, вмонтированные в каски, засветились. Теперь смена напоминала светлячков, медленно передвигающихся в ночной темноте. Колосов прошёл вперёд. Шамрай, приотстав, поравнялся с Дюрвилем. Осветил, чтобы не ошибиться, увидел полные сочные губы под аккуратно подстриженными усиками. И спросил:
– Вы живёте на улице Бордо, дом девять?
– Да. – Дюрвиль удивлённо взглянул на Шамрая. – Ты кто такой?
– Новый.
– А-а… Что же тебе надо?
Шамрай вынул из кармана затейливо скрученный гвоздик и, как таинственный талисман, протянул на ладони Дюрвилю.
Тот посветил фонариком, внимательно посмотрел, повертев гвоздик между пальцами.
– Что это такое?
– Гвоздик.
– Ну и что?
– Его просил передать вам Клод Жерве.
– Для чего? Кто такой этот Клод Жерве?
– Вы не знаете?
– Нет.
Шамрай почувствовал, как оборвалось его сердце и медленно, с каждой минутой набирая скорость, падает в тёмную бездонную пропасть.
– Извините. Я, наверное, ошибся.
– Скорей всего, – безучастно сказал Дюрвиль и прибавил шагу. – Не отставай, не отставай!
Шамрай шёл как во сне, не чувствуя, не ведая, куда идёт. Его выстраданная надежда рассыпалась в прах, как маленький домик от тяжёлой авиабомбы.
Они дошли до лавы, и здесь Колосов и Дюрвиль, будто с ума посходили, развели бурную деятельность. Расставили мгновенно по местам людей, всё организовали споро, умело, словно после этой смены их ждали высокие награды, по ордену – не меньше.
«Чего они стараются!» – подумал Шамрай. И как ни было горько, ответ напрашивался только один: «Конечно, перед хозяевами, перед немцами выслуживаются»…
Он работал отбойным молотком, умело сбивая вниз куски угля. Они по рештакам сползали на нижний штрек. А там уголь грузили в вагонетки.
Колосов часто появлялся возле Шамрая. Даже крепления помогал ставить. Лицо чёрное, зубы сверкают белизной, улыбка довольная.
– Хорошо работаешь, лейтенант.
«Хорошо работаешь»… дать бы тебе отбойным молотком по зубам. Знал бы, как ухмыляться. Сволочь… Ну, ничего, дождёшься своего».
Потом Колосов куда-то пропал. И только часа через два снова неожиданно появился, как бес из бутылки выскочил. Опять подгоняет, сам помогает, покрикивает. Только кнута в руках нет.
Глаза бы не смотрели на этого немецкого прихвостня.
Шамрай тщетно пытался заглушить работой свои горькие мысли. Теперь он думал о злой насмешке Клода Жерве. Какой же он, Роман, был наивный. Поверил… Лучше уж не вспоминать. Хватит, ещё рехнёшься. И всё-таки что-то странное творится здесь у него на глазах. Кажется ему или в самом деле так: в лаве работают не все пленные, которые пришли сюда. Почему-то исчезает то один, то другой сосед. Хотя все через некоторое время возвращаются на свои места и снова как ни в чём не бывало принимаются рубать уголь.
– Где ты был? – спросил у одного из них Шамрай.
– Внизу. Уголёк, браток, грузил, – почти весело прозвучал ответ.
Довольно! Пусть Колосов из кожи лезет, Шамраю спешить некуда. Ему это подхалимство ни к чему. Выслуживаться перед Скориком или перед Колосовым он не намерен. А это странное, бодрое настроение бригады всё-таки легко понять и объяснить: люди просто истосковались по работе.
– Перерыв, – вдруг скомандовал Колосов и подошёл к Шамраю. – Держи, вот тебе кусок хлеба.
– Иди ты, знаешь куда! – с ненавистью выкрикнул Шамрай. И отполз в сторону. Лучше умереть с голоду, нежели брать милостыню от этого не в меру старательного капитана.
Час отдыхали. И весь час Шамрай в растерянности мял пальцами проклятый, теперь не нужный, хитроумно завязанный гвоздик, и мысль о смерти не казалась ему страшной и нелепой.
Потом снова послышался голос Колосова. И снова пришлось взять в руки тяжёлый, как гиря, пневматический молоток и приставить его стальное остриё к чёрной груди угольного пласта.