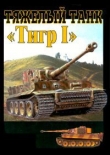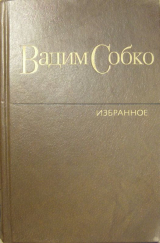
Текст книги "Избранные произведения в 2-х томах. Том 2"
Автор книги: Вадим Собко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 46 страниц)
– Значит, Маринку ты огорчить не можешь, а у меня вырвать душу? На это ты способна?
Слова прозвучали отчаянно.
– Если хочешь знать – да. Она моя дочь, и я ей мать…
Лука сидел на тахте, и свет, туманясь, медленно плыл перед его глазами. Значит, пропали его мечты. Такие надёжные, они оказались всего лишь мыльными пузырями, большими, разукрашенными всеми цветами радуги. Лопнул пузырь, как только коснулась его реальная жизнь, даже мокрого места не осталось… Голос Оксаны долетал до него странно тихим, будто меж ними пролегла пропасть.
– Поставь себя на моё место, хоть на минуту. Представь, что у тебя есть сын, и ты хочешь отнять его, пусть не у любимой, но всё-таки матери…
Лука не мог этого понять и представить, сейчас ему хотелось только кричать от неожиданного и мучительного горя.
– Что же делать? Что же делать?
– Оставить всё, как есть. Мы с тобой счастливы?
– Да, счастливы.
– Так давай же возьмём от этого счастья всё, что так щедро подарила нам судьба.
– Мне надоела эта Марьяна Васильевна…
– Что она сделала тебе, кроме добра? – удивилась Оксана.
– Прости, я не прав. Как ты не понимаешь…
– Я всё хорошо понимаю, но пойми и ты, мне больно говорить тебе всё это. Невыносимо больно.
– Нам так хорошо было бы там… Она такая хорошая, моя комната.
– Мы сегодня же отпразднуем твоё новоселье. – Оксана попробовала улыбнуться.
– Хорошо, мы отпразднуем сегодня, – покорно согласился Лука, но в голосе его не было радости.
И снова потянулись недели, складываясь в месяцы, годы. И всё это время самым неприятным днём для Оксаны была суббота, когда Лука не принадлежал ей. Она это чувствовала, сердцем чувствовала его растущее отчуждение. Нет, внешне он оставался тем же – ласковым, преданным, послушным, но в душе его просыпалась независимость: он делал то, что хотел, поступал так, как считал нужным. Конечно, было бы. несправедливо, может, даже жестоко требовать от Луки полной покорности. Оксана это понимала, умом понимала, но сердцем… И хотя знала, что Лука идёт не на свидание с другой женщиной, а потому о ревности не может быть и речи, ничего поделать с собой не могла. Да, говорила она себе, у Луки есть искалеченный войной отец, к которому совсем не часто, всего один раз в неделю ходит сын. Но именно в этот день Лука был свободен от её, пусть сладкой, радостной, но всё-таки власти… Думать об этом было неприятно.
Так рядом с любовью родились раздражение и едва заметная, спрятанная на дне сердца, как маленькая ядовитая змея, жестокость.
Оксана не могла понять самоё себя. Откуда такое чувство? Ведь Лука самозабвенно любит её, бросится в пропасть – скажи только слово… Что ещё нужно? А нужно, чтобы в субботу в четыре часа он был с нею, чтобы всегда для неё был свободен, чтобы не было минуты. когда он, с трудом выдавливая из себя напряжёнными, жёсткими губами, произносил: «Нет, я не могу, я занят».
Однажды она решила посмотреть на госпиталь, который имел такую огромную власть над её любимым. Это было летом. Шёл уже четвёртый год с того новогоднего вечера, когда они познакомились. Странно, почему она тогда с первого взгляда всё решила? Что почувствовала, что распознала в этом парне, в его худощавом, с крупными чертами, может, не очень красивом, но, бесспорно, выразительном лице?
Сейчас трудно ответить, да и вообще нужно ли отвечать. Любовь пришла позже. Любовь? Да, любовь. Значит, она ещё способна влюбляться? Мало ей горького опыта, когда она, девчонка, увлечённая не столько блестящим капитаном-лётчиком, сколько самой атмосферой, в которой он жил, – скоростными полётами, постоянным риском и удалью, смехом и бесшабашностью его друзей-пилотов, – сотворила себе кумира и сама его потом развенчала. Капитан перестал летать, и вдруг она увидела в нём обыкновенного, скучного человека…
А Луку Лихобора она полюбила по-настоящему? Да, и лучшее тому доказательство – её ревность, её нетерпимость к субботним, неподвластным ей вечерам. А может, это не любовь, а просто удовлетворение, которое она испытывает от ощущения своей полной власти над другим человеком, и потому малейшее неповиновение воспринимается ею как смертельная обида?
Оксана была достаточно умной, чтобы поставить перед собой эти вопросы, но ответить на них пока не спешила: ответы могли оказаться не в её пользу. В госпиталь она всё-таки пошла, чувствуя, что дальше не сможет жить спокойно, не узнав, какая сила оказалась сильнее её красоты. Пошла, посмотрела и вернулась домой тихая, испуганная. На миг попробовала представить себя в такой палате, заживо похороненной, и содрогнулась от ужаса.
Теперь она понимала Луку, но простить почему-то всё равно не могла, а главное, не хотела. Для неё он постепенно становился частью того страшного мира страданий и горя, о котором даже не хотелось вспоминатъ…
– Ты знаешь, – весело сказал Лука, когда они вновь встретились, – меня сделали профсоюзным вождём, избрали председателем цехового комитета. Как видишь, я теперь высокое начальство, так что слушайся меня во всём и трепещи!
– Да я уж и так стою по стойке «смирно»…
Лука усадил Оксану на тахту, взял её тёплые руки и, гладя их, сказал:
– О начальстве я, конечно, чепуху сморозил– Какое там начальство!.. А если серьёзно, то можно действительно сделать немало интересных дел.
– Например?
– Ну, скажем, половину рабочих цеха обеспечить путёвками на курорт. Неплохо, а?
– Вы так богаты?
– Представь себе, очень! Сам удивился. Нужно только этими средствами распорядиться по-разумному, с пользой.
Всё это мелочи в сравнении с тем, что пришлось увидеть ей, Оксане, в госпитале. А курорты, профсоюзные деньги… Ерунда всё.
Лука потянулся к Оксане, хотел обнять. Она отстранилась.
Комната была полна золотого света. Тахта, стол, книжный шкаф, где две полки занимали тяжёлые альбомы, – больше ничего нет. Раньше Оксана не обращала внимания на скромность обстановки жилища Луки, а в этот раз оно показалось ей на удивление бедным и неказистым. Может, и сам Лука не такой уж интересный, может, она просто выдумала его?
Оксана, как всегда, не стесняясь своей наготы, ходила по комнате, красуясь собой, своей статной фигурой, латкой походкой, невольно отмечая, как каждое её движение, каждый взгляд, улыбка отражаются в глазах Луки, как растёт в них радость, восхищение.
– Ты удивительно расцвела, – тихо сказал Лука. – Такой красивой я тебя ещё никогда не видел.
– И я даже знаю, почему расцвела, – усмехнулась Оксана.
– Не понимаю…
– И не надо, чтобы ты понимал. Это не твоё, это – только моё дело. Весна на меня так действует, понимаешь, весна!
Она снова прошлась по комнате, потом села на тахту и сказала, не отрывая взгляда от пола:
– Я была в госпитале.
– У отца?!
– Нет, я была в других палатах. Всё равно, это ужасно… И я боюсь. Я боюсь за нашу любовь… Я тебя очень прошу, я знаю, что это не просто, но обмани меня. Отмени ты эта свои свидания с отцом по субботам. Сделай так, чтобы я не знала, когда ты бываешь там и бываешь ли вообще. Он – твой отец, и бросить его или забыть о нём ты не имеешь права, но сделай так, чтобы я не знала!
– Почему? – Лука сдвинул брови.
– Почему? Я сама спрашиваю себя об этом и не нахожу ответа. Постепенно ты для меня становишься частью того страшного мира. Он – война и страдание. Я знаю, что те люди – герои. Разумом я всё это понимаю и преклоняюсь перед ними… Но есть ещё какая-то сила, которую я не могу побороть. Я здоровая, молодая, и любое уродство мне противно… Я не знаю, откуда берётся это чувство, но оно, как ни странно, переносится на тебя, и мне очень тяжко… Одним словом, я прошу тебя, измени дни этих свиданий… Обмани меня…
– Это не вся правда, Оксана.
Оказывается, он знал о ней значительно больше, чем она представляла. Может, он и в мыслях её и в поведении, разобрался точнее, чем она сама? Может, чувствовал жажду безграничной власти, мысль о которой даже от себя самой прятала Оксана?
– Ты сделаешь так, как я прошу?
– Нет, – тихо ответил Лука. – Всё останется по-прежнему.
Оксана потянулась к своему лёгкому платьицу, не спеша, как бы подчёркивая каждое своё движение, взяла туфли.
– Мы не будем больше встречаться? – спросил Лука.
– Нет, будем. – Женщина вздохнула. – Это ты ничего не хочешь сделать для меня, А я для тебя готова на всё. Ничто не изменится.
А на самом деле изменилось всё. Они ещё встречались несколько раз, но в сердце Оксаны закипало недовольство.
И однажды, это было в начале июня, она не выдержала и сказала по телефону:
– В субботу в четыре я жду тебя в вестибюле метро Крещатик.
– Я не приду, Оксана.
– Как хочешь. Я буду ждать тебя, но недолго.
– Понимаю. Это конец?
– Не знаю. Всё будет зависеть от тебя.
И положила трубку.
Да. теперь всё зависело только от него. Что же он решит? Суббота послезавтра. Есть ещё время подумать. Две бессонные ночи и три длинных дня.
Будто на острую иглу натыкаешься на вопрос: куда ты пойдёшь в субботу, Лука Лихобор? Ты знаешь ответ, но от этого на сердце не становится легче. В субботу ты пойдёшь в госпиталь. Оксана подождёт тебя минут пять, не больше. В тёмных глазах на мгновение сверкнёт гнев, потом мелькнёт её яркая, лёгонькая юбочка, и навсегда уйдёт эта женщина из твоей жизни, Лука Лихобор.
Понять это больно, но изменить что-нибудь невозможно. Ты перестал бы уважать себя, плюнул бы себе в сердце, если бы у тебя не хватило силы воли пойти в назначенный час к отцу…
И что же, значит, всё?
Да, всё. Такой непокорности Оксана не простит. А ты иначе поступить не сможешь. Внешне ничего не изменилось бы, передвинь ты время свидания, но в действительности изменилось бы всё, пропало бы самое главное – уважение человека к самому себе, к своему решению, к своему слову. Оксане ты должен быть благодарен. Она сама приучила тебя к точности…
И Лука пошёл в госпиталь к отцу.
– Что с тобой? Беда какая-нибудь? – сразу заметил тот.
– Нет, откуда ты взял? – удивляясь, что говорит спокойно, ответил Лука.
– Что-нибудь с девушкой? Не горюй, пройдёт, – утешил его отец.
– Да, конечно, обойдётся. – Лука скользнул взглядом по часам. Четыре часа и пять минут. Оксана больше не ждёт. Всё.
– Не хочешь рассказывать?
– Нет, не хочется.
– Очень болит?
– Меньше, нежели думал.
– Ничего, пройдёт, – задумчиво проговорил отец.
Они помолчали, потом Лука заговорил о заводе, о товарищах, пробыл с отцом, как всегда, до самого вечера.
В семь часов, когда послышались короткие, похожие на кукование кукушки сигналы точного времени, поднялся. Хотелось быстрее очутиться у себя в комнате, остаться одному, подумать.
– Когда ты придёшь? – о чём-то догадываясь, спросил отец.
– Как всегда, в субботу, в четыре, – ответил сын.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Он вышел из небольшого домика, который назывался корпусом номер семь, и на мгновение остановился. До захода солнца ещё далеко, идут самые длинные дни года, и воздух между редкими соснами полон тёплого и тихого света. Там, в палате, ещё продолжалась война, а здесь был глубокий, спокойный и надёжный мир.
Возле корпуса на скамейке сидела, закрыв лицо ладонями, девушка, её маленькая и худенькая фигурка, низко склонённая голова содрогались от рыданий.
Лука Лихобор знал, что такое горе, и, может, именно поэтому не мог пройти мимо него спокойно. Ну разве мало причин у девушки для того, чтобы горько расплакаться вот здесь, на территории госпиталя? В конце концов, какое ему дело? Он бы и сам сейчас сел рядом с ней, спрятал бы лицо в ладони… Нет, он плакать не будет. Его беду легко поправить. Стоит только войти в первый попавшийся автомат, позвонить Оксане, попросить прощения, сказать, что не может жить без неё, а потому согласен прийти на свидание, когда ей будет угодно, даже в четыре часа в субботу. Да и ходить далеко не нужно, телефонная будочка стоит при входе в госпиталь, раскрашенная красной и оранжевой краской, праздничная и весёлая… Но к телефону он не подойдёт. Лука направился к скамейке, дотронулся до плеча девушки.
– Почему ты плачешь? – спросил он.
Не отнимая ладоней от лица, девушка тряхнула головой, проговорила, что не хочет никого видеть, не хочет ни с кем разговаривать. Но Лука, не обратив внимания на её слова, сел рядом и, обхватив руками тонкие запястья, отстранил ладони от её заплаканного и в эту минуту некрасивого лица.
– Ну чего ты ревёшь?
– А тебе какое дело? Не всё ли равно?
– Всё равно, конечно. Только смотреть неприятно.
– Ах, тебе неприятно смотреть, как я плачу? Да? А им приятно всю жизнь, до самой смерти вот так… Приятно? Не можешь ты этого понять, вон какой здоровый вымахал…
Теперь золотистые большие глаза девушки метали молнии. Всё её продолговатое, ещё совсем юное лицо пылало гневом. Тонкий носик с едва заметной горбинкой и глубоко вырезанными ноздрями сморщился, как у разозлившегося щенка. Яркие губы дрогнули от пренебрежительной усмешки. Только лоб, высокий и чистый, оставался спокойным.
– Идиоты, – уже тише сказала девушка, перенося свой гнев с Луки на какого-то другого. – Они хотят, чтобы пионеры давали перед инвалидами торжественное обещание быть верными ленинцами… А один вид этих калек так поражает, что дети потом ночи спать не будут, вспоминая присягу, как страшный кошмар. А она должна быть красивой, торжественной, но не страшной…
– Это верно, – сказал Лука. – Но пионеры здесь бывают. Они смелые ребята, не то что их некоторые слезливые вожатые. Для торжественной присяги, может быть, место это и не очень подходящее, хотя… Если кто-нибудь из них заглянет сюда и улыбнётся, просто улыбнётся моему отцу…
– У тебя здесь отец?
– Да, – ответил Лука. – Почти тридцать лет… Ранило в сорок третьем.
– И ты приходишь сюда каждый день?
– Только по субботам, в четыре часа. – Он выговорил это упрямо, твёрдо, будто подчёркивал неизменность своего решения и для себя, и для Оксаны, и для всех, кому вздумалось бы попробовать сломить его волю.
– Так редко?
– Ты думаешь, редко? – Лука внимательно посмотрел в сердитые глаза. – Но ведь это продолжается не один год…
Девушка вытерла кулачками глаза, потом, видимо, вспомнив о платке, раскрыла маленькую сумочку, вынула зеркальце, взглянула на себя,
– Нечего сказать, хороша. – Она сокрушённо покачала головой. – Ты извини, что я тут расхлюпалась. Просто, знаешь, взяло за сердце… и не отпускает. И, может быть, уже никогда не отпустит. Я, пожалуй, только сейчас по-настоящему поняла, что такое война и кому мы обязаны, что живём, смеёмся, смотрим на эти сосны и голубое небо. Да, пионеры должны приходить сюда. Хотя очень страшно… Или, может, всё-таки лучше, чтобы они не знали, какой ужасной и несправедливой бывает жизнь? Как ты думаешь? Долго я буду помнить нынешний день. – Девушка снова тряхнула головой, и Лука готов был поклясться, что коротко подстриженные пышные волосы цвета старой кованой меди тихо зазвенели.
– Ты кто? Пионервожатая?
– Нет, просто комсомолка. Выполняла комсомольское поручение…
– Как тебя зовут?
– Кто как хочет. Маня, Майка, Майола. – Девушка запнулась и потом сказала с вызовом: – Одним словом, полное имя – Карманьола.
– Странное имя.
– Ну, это ещё ничего. Вот у меня тётка есть, сестра мамы – Дуся, так полное её имя Индустрия. Представляешь, Индустрия Карповна! А тебя как зовут?
– Лука. Лука Лихобор.
– Тоже удружили родители, евангельское имя на свет божий вытащили. А вообще говоря, плохих имён нет, есть плохие люди.
– Ты, оказывается, ещё и философ. Ну, так пойдёшь, философ, или останешься?
– Пойдём, насмотрелась. – Она встала, и Лука с удивлением отметил, что она совсем не такая уж маленькая, какой показалась ему на первый взгляд. Пожалуй, наоборот, высокая и тонкая, как молодая берёзка, плечи сильные, не округлые по-девичьи, а широкие и крепкие. Руки изящные, длинные ноготки тщательно покрыты лаком. Короткое голубое платьице открывало крепкие, как у мальчишки, колени. Туфли модные, на низком толстом каблуке.
– Что ты разглядываешь меня? – спросила Майола, шагая рядом с Лукой.
– Вот смотрю – маникюр у тебя роскошный…
– Ну и что? Сама каждый день делаю.
– А через день нельзя?
– Нельзя.
– Ну и ну. Ты что, официантка? Из таких ручек, как твои, получать борщи – одно удовольствие. Позавидуешь твоим подопечным.
– Нет, не официантка. – Майола не обратила внимания на шутку. – Но маникюр мне нужен тоже для работы.
– Чем же ты занимаешься, если не секрет?
– Монтирую инструменты из искусственных алмазов. Слышал о нашем институте?
– Слышал, конечно. У нас на заводе алмазными дисками резцы затачивают. Отлично получается. В пять или шесть раз дольше обычных работают.
– Я монтирую буровые коронки. Они легко проходят самый крепкий гранит или базальт. – Майола вздохнула и надолго замолчала.
Молчал и Лука.
– Господи, какие это всё мелочи, – наконец проговорила она, – резцы, алмазы, коронки, когда рядом такое горе… А ты где работаешь?
– На авиационном заводе, токарем.
– Ну и отлично. Всего тебе хорошего, токарь! – Майола протянула ему руку. – Пока!
И затерялась в толпе у входа в метро. А Лука медленно шёл домой, с трудом передвигая ноги, словно позади остался невероятно длинный и тяжкий путь. Конечно, можно было бы сесть в автобус, но в тот вечер ему всё казалось противным: и запах бензина, и очереди на остановках, и теснота. Дорога от госпиталя до дома знакома до мелочей. Он всегда радовался, отмечая, как на месте низеньких хаток-грибочков киевской окраины вырастали высокие, красивые дома, в которых люди будут жить и при коммунизме.
Глупости какие-то лезут в голову. Недостойны эти бетонные коробки коммунизма. Почему же недостойны? Ведь всего неделю назад они казались тебе великолепными… А сейчас вдруг и окна будто бы уменьшились, и потолки стали низкими – протяни руку, достанешь, и вообще…
Что вообще?
Вообще всё стало каким-то чужим, хмурым, непри-ветливым, потому что в четыре часа, когда ты, Лука, был в госпитале, из вестибюля станции метро Крещатик, подождав минут пять, ушла Оксана.
Вот так бывает в жизни – столкнутся два характера и не уступит один другому. Каждому кажется, что прав именно он.
Или, может, за эти четыре года постепенно, капля за каплей ушла любовь, высохла, как роса на солнце, обернулась привычкой? Эта мысль мелькнула и уже не показалась странной. Выходит, легко влюбившись, можно так же легко и разлюбить?
Лука дотащился до своего дома, как пьяный. Надежда ещё теплилась в груди: а может быть… Он вышел из лифта на своём этаже и достал ключ. У Оксаны есть такой же. Как это было бы славно: прийти с работы, открыть дверь и неожиданно увидеть её. Она не часто баловала его этим, пожалуй, три или четыре раза за всё время их любви…
Лука открыл дверь: пусто, хмуро, неуютно в холостяцком жилье. Он подошёл к окну. Солнце садилось, и его последние лучи золотили горизонт, багряным отсветом окрашивая небо, далёкое и равнодушное ко всему на свете.
Говорят, время – лучший доктор. Что ж, возможно, пройдут годы, и он забудет свою боль. Время лечит горе, но никогда не превращает его в счастье.
Что сейчас делает Оксана? Может, весело смеётся где-то в гостях вместе с этим, похожим на молодого бычка Коновальченко? Должен же кто-то заменить его, Луку Лихобора! Послушай, а ты, оказывается, подленькая тварь. Почему так мерзко думаешь об Оксане? Ведь она с тобой всегда была честной.
Выходит, надо начинать новую жизнь. Уже без Оксаны. Работать, учиться. Осенью ты поступишь в заводской техникум. Рабочих со средним образованием принимают прямо на третий курс. Правда, тебе скоро стукнет двадцать семь… Что ж, там учатся и постарше: на современном заводе без технического образования и делать нечего.
Что же ещё тебе нужно? Чтобы комната твоя не была тихой, сумрачной и тоскливой, чтобы наполнилась она детскими голосами, смехом, плачем, чтобы у тебя была семья.
Ему так хотелось быть нежным! Попробовал представить рядом с собой другую женщину, ну хотя бы эту, тоненькую, как зелёная вербочка, девушку со смешным именем Карманьола, и брезгливо передёрнул плечами. Тоже нашлась королева алмазов! Маникюр делает ежедневно и, видно, очень этим гордится…
Так что, на Оксане и свет клином сошёлся?
Выходит, сошёлся. Но всё равно, ты, Лука, не подойдёшь к телефону и не наберёшь знакомый номер У тебя тоже есть характер, и если что-то считаешь честным, справедливым и для себя решённым, то не поступишься этим никогда, как бы тебе ни было тошно.
И перестань мотаться из угла в угол, как угорелый, найди себе дело, приготовь, например, ужин, только не думай, не думай, не думай о ней.
Гастроном внизу ещё не закрыт. Купи колбасы, яиц, хлеба и закати роскошный холостяцкий пир.
Лука спустился вниз. Телефон новенький, блестящий, в жёлтой будочке, другой – под козырьком на стене дома, будто скворечник, третий при входе в гастроном. Аппараты, словно вражеское войско, брали его в окружение и упорно, настойчиво, на разные голоса кричали: «Позвони! Позвони! Позвони!»
– А, Лука, – послышался уже не воображаемый, а вполне реальный голос. – Только тебя и не хватало! Сейчас сообразим на троих. А в следующее воскресенье пораньше махнём на рыбалку. Мы с женой едем на Днепр, ребят с собой берём, заодно и тебя прихватим, иначе пропадёшь здесь в городе, в духоте. Представляешь, на лодочке, разомнёшься на вёслах. Красота!
Борис Лавочка, токарь сорок первого цеха, давний знакомый Луки – ещё до армии работали учениками на авиазаводе, стоял рядом, протягивая свою большую, как лопата, ладонь.
– Давай рубль.
Третий парень, тоже хороший друг, Венька Назаров, фрезеровщик, которому, видно, и выпить хотелось – и было почему-то стыдно.
– Ну, что ты мнёшься? Давай.
Назаров сунул руку в карман, старательно пошарив, вынул пригоршню монет, посчитал и глухо сказал:
– Тут девяносто две копейки…
– А где получка? Жена отобрала?
– Нет, просто у меня больше нету.
– Счастливый ты человек, Лука, – сказал Лавочка. – Придёшь домой, зажаришь себе яичницу – смотри сколько провианту закупил – и культурненько, тихо завалишься отдыхать. А у нас с Венькой – шум, гам, дети, жена – не приведи господи. Давай рубль!
Лука протянул деньги. Лавочка вскоре появился, неся бутылку водки и три солёных огурца.
– Пить будем по-справедливому, – сказал он. – Сначала Лука, потом Венька, я – последний.
– Почему так? – спросил Венька.
– Потому что Лука только понюхает, из тебя тоже пьяница никудышный, мне больше достанется. Психология, браток, понимать надо.
Лавочка рассчитал точно: ему досталась добрая половина бутылки.
– Нет, жизнь всё-таки прекрасна! – воскликнул Назаров, посматривая вокруг весёлыми глазами. – И ничего-то, братцы, вы обо мне не знаете. Сын у меня скоро будет!
– Не много тебе надо для счастья. – Лавочка иронически скривил губы. – Только я богаче тебя: у меня их двое.
– Верно, – согласился фрезеровщик. – А ты, Лука, не сиди дома, как сыч болотный. Тебя предцехкома профсоюза избрали, а ты хвост собачий, а не цехком. Смотри, сколько людей после работы слоняется… Никто о них не думает, не организует… Лавочка тебя на рыбалку зовёт, а не ты его. Взял бы да и организовал прогулку на белом пароходе по Киевскому морю. А?
– Мало тебе дал профсоюз? – искренне удивился Лука.
– Разве я говорю «мало»? – не унимался Назаров. – И курорт, и квартиру получить помогли… Да и не об этом сейчас речь, я о другом. Почему ты не спросишь меня, что я, Вениамин Назаров, фрезеровщик, дал профсоюзу? Членские взносы, и всё? Не мало ли?
– Что-то ты вдруг боевым стал, – вмешался Лавочка.
– А я всегда такой, когда выпью. Мне теперь море по колено. И я скажу тебе, Лука, откровенно: хоть ты и профсоюзный вожак, а всё равно дурень. И ничего ты в душе моей не смыслишь… Только подавай тебе цифры да отчёты, а о том, что профсоюз – школа коммунизма, забыл!
– Смотри, какой лектор выискался! – весело рассмеялся Лавочка. – А мы и не знали.
– Так вот теперь знай. Спасибо за компанию. И будьте здоровы. Пойду я – Клава ждёт.
А Луку Лихобора никто не ждал в его чистой, по-солдатски надраенной комнате. Он сейчас полжизни отдал бы, чтобы услышать в своём доме детский крик. Не для него, видно, такое счастье…
– Хорошо, Веня, – сказал он, – относительно профсоюза ты прав, я подумаю, и хорошенько подумаю.
Лука вернулся домой, поужинал, растягивая время, лишь бы не остаться наедине со своими мыслями, помыл посуду. Для него не в диковину домашняя работа: и в детдоме, и в интернате, и в казарме успел привыкнуть…
Спать было рановато, и Лука, облокотившись о подоконник, посмотрел вниз, на тихую улицу, где изредка мелькали белые и красные огоньки машин, взглянул на соседний двадцатипятиэтажный дом, окна которого гасли, как по команде невидимого дирижёра.
Может, рассказать о своей беде отцу? Он наверняка дал бы простой и мудрый совет. Нет, рассказать невозможно. Выйдет так, будто он, Лука, принёс отцу в жертву свою любовь, а старый Лихобор не примет жертвы даже от сына, и Лука лишь добавит горя в его и без того горькую жизнь.
Лука заснул с этими мыслями, и снился ему огромный белый пароход, а на капитанском мостике стоял Венька Назаров, окружённый целым хороводом маленьких горластых ребят…
Проснулся он бодрый, отдохнувший. Что ж, никуда от этого не денешься, на личной жизни придётся поставить крест. Оксану он больше не увидит. Значит, остаётся завод, любимая и красивая работа…
Своему избранию председателем цехкома Лука поначалу не придавал никакого значения. Ну, что можно сделать в организации, где, случись что, бегут к Горегляду или начальнику цеха. Но вчера Венька Назаров обозвал его «хвостом собачьим», сболтнул, конечно, спьяну. И всё же слова эти показались обидными и унизительными.
К токарному станку, знакомому, как собственная ладонь, Лука подошёл так, будто ему предстояло провести матч по боксу раундов на десять. Поставил дюралевую заготовку, запустил мотор, подвёл резец, и запела, заиграла серебристая стружка. Это, пожалуй, лучшее на свете ощущение – видеть, как из необработанной, бесформенной болванки волею твоих рук возникает деталь самолёта. Он, огромный, сверкающий, как большая рыба, и представить, где в нём находится вот эта «переходная тяга», которую сейчас обтачиваешь ты, Лука Лихобор, просто невозможно, но она там есть, и самолёт без этого маленького кусочка дюраля пока ещё не самолёт.
Оказывается, за работой можно не вспоминать об Оксане, спрятать поглубже мысли о ней, зажать их, как в тиски, чтобы не вырывались они на свободу…
Вот уже и звонок на перерыв. Сейчас в столовую, быстренько пообедать и – в конторку к Трофиму Семёновичу Горегляду.
– Здравствуйте, товарищ парторг, – сказал Лука, сразу подчёркивая, в каком качестве он хочет видеть Горегляда. Мастер внимательно посмотрел на парня, стараясь понять, с чем тот пожаловал к нему. Что-то случилось с ним, это ясно, но вот что именно – пока понять трудно. Может, выпил вчера больше нормы? Да нет, не похоже. Глаза у Луки трезвые, голубизна их немного потемнела, посуровела, отчего взгляд стал острым, цепким. Нет, здесь что-то другое…
– Вчера один человек сказал мне, что я не профорганизатор, а хвост собачий.
Короткие, щёточкой, усы Горегляда шевельнулись от улыбки, но губы по-прежнему были твёрдыми, неулыбчивыми.
– И ещё он сказал, будто я думаю только о том, что даёт профсоюз рабочим, и не думаю, что дают рабочие профсоюзу.
– Ты знаешь, твой вчерашний собеседник не дурак.
– Вот и я так думаю, – проговорил Лука.
Горегляд посмотрел на него: напряжённый, подтянутый, сдержанный, хотя видно, что всё это парню даётся с трудом. Нет, дружок, не в профсоюзе тут дело и не в том, что тебя обозвали хвостом собачьим. Здесь что-то иное. Горегляд не один десяток лет живёт на свете, его не обманешь.
– Я пришёл посоветоваться, – продолжал Лука, – что нужно сделать, чтобы люди не имели основания бросить мне в лицо такие слова. Это же как пощёчина!
– Тебя заботит профсоюзная работа или твоя собственная персона? – Горегляд внимательно посмотрел на Луку.
– И то и другое.
– Ну что ж, давай посоветуемся. К тебе вопрос – вон, около станка, стоит слесарь Долбонос. Что ты о нём знаешь?
– А что я о нём должен знать? Спортсекцию организовал, слесарь неплохой…
– Верно, хороший. А как он живёт? Какая у него семья? Что, кроме работы, его в жизни интересует? Почему он хороший слесарь? Как работает его спортсекция? Сколько там народа? Ты об этом хоть раз подумал?
– Честно говоря, нет. А вы сами знаете?
– Я, конечно, всего не знаю. Но кто-нибудь из членов цехового партбюро непременно знает. И всегда может мне посоветовать, если в этом будет необходимость.
– А я и сам их всех знаю, как облупленных, – сказал Лука.
– Знаешь, да только не с того бока. Знаешь весёлые шуточки о них да побасёнки, но никогда не думал всерьёз о том, что может каждый из твоих друзей дать профсоюзу и что, соответственно, можно потребовать от каждого. Тебя правильно спросили: «Что я могу дать профсоюзу?» Ответим: честный труд. Кажется, немного. Однако все ли так работают? Все ли у нас такие сознательные? Сейчас завод живёт нормальной ритмичной жизнью, восемь лет выпускаем одну модель самолёта. Всё организовано, всё предусмотрено, неожиданности исключены. Но ведь не вечно же так будет! Скоро начнём осваивать новую модель. Знаешь, что это такое? Землетрясение! Напряжение каждого рабочего до предела! Вот тогда и нужно будет знать возможности и способности каждого из нас. Тогда станет ясным, какой у нас коллектив и, конечно, какой у нас профсоюз! Для коммунистов существует железная партийная дисциплина, они авангард рабочего класса, пример сознательности, но ведь сознательность присуща в том числе и беспартийным рабочим. И руководить процессом роста этой сознательности, активности – задача профсоюза, если хочешь знать, твоя личная задача, председателя цехкома и члена партбюро.
– Я понимаю, – задумчиво проговорил Лука Лихобор. – Интересно, как я с этой работой справлюсь.
– Один в поле не воин, а гуртом, как известно, и батьку легче бить. А? Наметь план работы, посоветуйся с товарищами и каждому отведи участок работы, пусть небольшой, пусть самый маленький, но обязательно с точно определёнными обязанностями. Со временем сам увидишь, как из этих мелочей вырастет большое дело. Удивишься: откуда что взялось. Понимаешь, общественная работа должна быть приятной обязанностью, а не докучливым бременем, которое норовишь поскорее сбросить с плеч. Если человек любит спорт, не нужно поручать ему выпускать стенгазету. Если любит рисовать, пусть рисует, а не занимается организацией кружка шахматистов.
– Всё-таки это пустяки…
– Пустяки? А знаешь ли ты, что именно мелочи цементируют коллектив? Без этого цемента, без мелочей и большую работу не потянешь. Не так всё просто, как кажется. В этом мне самому не раз приходилось убеждаться. Кто тебе сказал: «А что дал профсоюзу?»