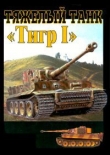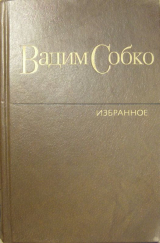
Текст книги "Избранные произведения в 2-х томах. Том 2"
Автор книги: Вадим Собко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 46 страниц)
Сдерживая волнение, Шамрай двинулся вслед за Жаклин.
Пересадка, и вот они снова на поверхности, именно в том месте, где под острым углом сходятся бульвары Распайль и Сен-Жермен. На розовом большом доме вывеска «Отель Каире».
Невероятная гимнастёрка Шамрая произвела впечатление. Портье, не раздумывая, дал ключ.
– Вы надолго к нам?
– Не знаю, – ответил Шамрай.
– У нас часто останавливаются советские офицеры, – приветливо сказал портье. – Удобно – рядом посольство.
В маленьком номере Жаклин поставила на пол чемодан и сказала:
– Уже поздно. Пожалуйста, никуда не ходи сегодня.
– Хорошо, – ответил Шамрай.
Только сейчас почувствовал он, как болит нога. Ничего, первое испытание она выдержала. Завтра уже будет легче.
– Я попробую достать кофе, – проговорила Жаклин, берясь за телефонную трубку. – Сейчас будем ужинать.
– Хорошо, – вновь согласился Шамрай.
Ом произносил необходимые слова, соглашаясь во всём с Жаклин, а сам думал только об одном – о своём посещении посольства. А может, там завтра ничего не решится? Просто скажут: «Возвращайся в Терран, после победы всё станет ясно, а пока подожди». Это будет горькая для него пилюля, но, может, именно так и случится.
– Я сейчас приду. – Жаклин положила телефонную трубку на аппарат.
Шамрай подошёл к окну, раскрыл его. Внизу жил ещё освещённый вечерним солнцем бульвар Распайль. Машины пробегали редко, серо-зелёные, военные, скорее всего американские. Прохожих на тротуарах не очень-то много. Окна пока затемнены. В ожидании победы Париж нахмурился, затаился.
Где-то здесь, пожалуй, ходит тот весёлый паренёк, шофёр грузовика со смешным номером 123–456. Здорово бы было неожиданно встретить его. Но такие случайности редко встречаются в жизни. Их следует организовывать.
Вернулась Жаклин.
– Вот бурда, которую они называют кофе. – Она уже овладела собой, вынула из сумки еду, став снова прежней, очень домашней, родной, хозяйственной и озабоченной.
Шамрай подошёл к окну. Долго смотрел на тёмный бульвар и попробовал представить, каким он будет в День Победы. Но фантазия не помогла. Представить не смог, что-то мешало…
Над Парижем пролетал невидимый самолёт. Размеренный гул долго, колыхаясь, плыл над улицами, подчёркивая тишину и вечернюю уютную успокоенность города. И Шамраю невольно припомнился смертный ад Террана в дни обороны и вспомнились люди, которые заплатили своей жизнью за эту уютную тишину Парижа. Может, случится и так, что многих из них никто даже и не вспомнит. Не только право, но и обязанность живых чтить память о мёртвых!
Жаклин подошла, встала рядом, прижалась к нему всем телом, будто желая запомнить, унести с собой навсегда ощущение этого прикосновения.
Шамрай обнял её за плечи. Высокая и сильная, Жаклин в Париже почему-то казалась и меньше и слабее. Ей больше подходил Терран, с его шахтами и дымными трубами, такими же, как она, крупными и неторопливыми людьми. И так же к лицу ей будет Суходол, с его огромными заводами и неоглядным Простором Днепра.
– О чём ты думаешь? – спросила Жаклин.
– О завтрашнем дне.
И вот наконец-то он настал, этот завтрашний день. Четыре квартала от отеля по дороге к Советскому посольству Шамрай прошёл легко, как бы проверяй себя, не опираясь на палку. Остановился невольно у газетного киоска.
– Потрясающие новости!. «Красная Армия окружает Берлин», – радостно кричал киоскёр.
Шамрай купил газету и поспешно зашагал, увлекая за собой Жаклин. Они уже вышли на тесную, густо застроенную улочку Гренель. Слева высокие металлические ворота. За ними старинный особняк. На медной, до солнечного блеска начищенной табличке надпись: «Посольство Советского Союза», а сверху Государственный герб, которого так давно уже не видел Шамрай. Рядом с воротами небольшие двери.
Шамрай остановился, взглянул на Жаклин и с треском сломал о колено свою палку.
– Что ты делаешь? – вскрикнула Жаклин.
– Она не потребуется мне больше.
Шамрай вошёл и остановился в проходной комнате. Одни двери на улицу, другие во двор посольства.
– Вы к кому? – спросил дежурный в форме лейтенанта.
Шамрай впервые увидел погоны советского офицера, вскользь взглянул на свою экзотическую гимнастёрку с кубарями на петлицах воротника и смутился.
– Мне нужен товарищ Монахов, – обратился Шамрай, – вот его письмо.
– Сейчас позвоню, – ответил лейтенант.
Монахов появился через минуту, весёлый. Вид Шамрая не удивил его нисколько.
– Очень рад тебя видеть, – сказал он, обнимая Романа, – пошли.
Какими-то древними деревянными коридорами прошли они в маленькую комнату левого крыла посольства.
– Садись, рассказывай, – то ли попросил, то ли приказал Монахов. – Откуда ты раздобыл такую опереточную форму?
– Жена сшила. Ты теперь здесь служишь?
– Да, работаю в аппарате военного атташе. Рассказывай. Только покороче. И самое главное. Понимаешь. очень мало времени.
Монахов был откровенно рад встрече. Шамрай это понял и успокоился.
Рассказ, даже очень краткий, занял полчаса. Когда Шамрай вспомнил о памятнике Ленину в шахте «Моргенштерн». Монахов взглянул на него пристально и снова склонился над листком бумаги, где он изредка кое-что вписывал.
– Неужели действительно можно убежать из гестапо в наручниках? – удивился он.
– Оказывается, можно.
– Чудеса!
– Да, чудеса, – согласился Шамрай.
О защите Террана майор знал подробно.
– Да, это героическая оборона, – сказал он. – Вы очень помогли союзникам. Без вас они крепко бы завязли у Террана, а гитлеровцы тем временем сожгли бы Париж. Тебя ранило под Терраном?
– Да. Но сейчас я здоров.
– Вижу. Жена твоя где? Вы венчались в церкви?
– А что разве и это бывает?
– Всё бывает на свете.
– Нет, мы не венчались, мы зарегистрируемся в загсе, в Суходоле, что над Днепром, – ответил Шамрай. – А жена моя здесь, ждёт около ворот.
– Ты прямо одичал в этом Терране, – сказал, шутливо улыбаясь, Монахов. – Ну как же так можно? Немедленно идём к ней. Нужно извиниться. Здесь всё-таки Париж.
Жаклин стояла у ворот, бледная и взволнованная.
– Я думала… – кинулась она к Роману.
– Знакомься, Жаклин, это Монахов, мой друг, – проговорил Шамрай, представляя майора.
– Я пришёл специально попросить прощения у вас за вашего не очень-то любезного мужа, который заставил вас так долго ждать, – сказал Монахов на отличном французском языке и, обернувшись к Шамраю, сказал – А ты владеешь французским?
– В лагере всему научат.
– Иди, Роман, в отель и жди. Не волнуйтесь, мадам, – Монахов улыбнулся Жаклин. – Я доложу начальству и позвоню тебе… – Он посмотрел на Шамрая, потом на часы. – Позвоню часа через два. Есть одна интересная деталь в твоём рассказе. Рад, очень рад был видеть тебя живым, что мы с тобой встретились и что ты оказался настоящим человеком.
Монахов, прощаясь, поцеловал сильную руку Жаклин, обнял Шамрая и исчез за воротами посольства.
– У меня в жизни не было более трудных и страшных минут, чем эти, – сказала Жаклин, когда они вернулись к себе в номер. – Вы что, вместе воевали?
– Я уже говорил: вместе кончали военную школу…
– Ты тоже мог бы быть майором?
– Я мог бы быть даже генералом, – весело ответил Шамрай. – Но ни капельки не жалею о том, что не стал им. Подумай только: ведь тогда бы я не встретился с тобой.
– Оказывается, ты умеешь говорить комплименты.
– И всё-таки это правда.
– Знаешь, у меня что-то очень тревожно на душе…
– Не волнуйся, не тревожься, родная, ведь для этого нет оснований. Ровным счётом никаких! Всё будет отлично. Вот увидишь!
Он схватил Жаклин на руки и закружил по комнате.
В дверь постучали. Вошёл старшина со свёртком в руках.
– Товарищ Шамрай? Майор Монахов приказал доставить вам форму, распишитесь в получении.
Молча смотрела Жаклин, как переодевался Роман, постепенно меняясь на её глазах. Ей казалось, что его словно захватила сильная, жестокая машина войны и он, её Роман, переставал принадлежать себе, ей, Жаклин, и принадлежал уже этой неумолимой машине, которая могла – имела право – делать с ним всё, что хотела. И по мере того как эта машина овладевала Шамраем, она, Жаклин, теряла над ним власть.
Форма пришлась Шамраю в самую пору. Монахов и Шамрай стояли в строю рядом: майор ничего не забыл. Теперь перед Жаклин прохаживался по комнате советский офицер, ладный, стройный и какой-то странно чужой. Только глаза, голубые-голубые, сияющие нестерпимым светом счастья, были родные, глаза её Романа…
– Форма идёт тебе, – сказала Жаклин. Она взяла в руки старую, теперь показавшуюся ей очень смешной и жалкой гимнастёрку, и прижала к груди. – Я возьму её с собой, Роман, она дорога мне…
Зазвонил телефон: Монахов просил немедленно прийти в посольство. И снова у Жаклин проснулось предчувствие нависшей беды, ощущение неумолимой жестокой власти этой машины. Что могла сказать она, Жаклин, женщина? Чем возразить? Мужчины уходят на войну, не спрашивая женщин.
– Подошла форма? Видишь, помню даже твой размер. – Майор весело встретил Шамрая.
– Спасибо. Всё хорошо.
– Я доложил начальству и за тебя поручился. История твоя невероятная, но никого не удивила. Мы здесь всякого наслышались. Могу напророчить: свою военную биографию тебе придётся ещё не один раз рассказывать, и не всегда тебе это будет приятно. Советую тебе сегодня же сесть и записать свою одиссею. Особенно подробно о памятнике Ленину и отряде «Сталинград». Это важно. А сейчас слушай приказ – завтра выехать в Гамбург. Там найдены наши советские архивы… Ознакомься с ними. Что это за материалы? Откуда вывезены? Кому были нужны? Телеграфом сообщишь мне. Поедешь туда поездом, сейчас это пока сложновато, но наша форма действует магически. Документы получишь завтра, деньги сегодня. Вопросы есть?
– В Гамбурге я встречу наших людей?
– Нет, обратишься в английскую комендатуру. Мы их уже предупредили. Ещё есть вопросы?
– Более чем ясно.
– Не знаю, – сказал Монахов, – хорошо или плохо я сделал для тебя, вот так самовольно переодев тебя в форму. Может, правильнее было бы тебе прибыть на сборный пункт? Нет, скорей всего, так всё-таки лучше. Ты по горло сыт всякими пунктами и лагерями.
– Что правда, то правда.
– О твоём побеге из гестапо кто-нибудь знает? Свидетели есть?
– Французы знают. Ты мне не веришь?
– Нет, я тебе верю. На войне каких чудес не бывает! Желаю тебе успеха. Очень милая у тебя жена. Ну, держись, крепче держись, друг!
И почему-то погрустнел, прощаясь, исчезла белозубая улыбка с его полных губ…
На перроне Северного вокзала стояли они с Жаклин, боясь разлучиться, хотя уже давно нужно было бы Шамраю пробираться в вагон. Солнце золотило Париж. Худенькая девочка продавала лесные подснежники. Жаклин взяла букетик, разорвала ниточку, один цветочек положила себе за ухо, другой протянула Шамраю, но тут же отдёрнула руку.
– Ты же в форме, – проговорила она. – Я забыла. Офицерам не к лицу цветы. – Охвативший Жаклин страх перед неумолимой жестокой силой, для которой жизнь и судьба одного человека значат ничтожно мало, не проходил.
– Дай-ка сюда подснежник. – Шамрай засмеялся. – Мне сейчас всё можно, и всё к лицу!
– Ты не изменился, – на улыбку Шамрая расцвела улыбкой и Жаклин. – Я так боялась.
– Не волнуйся, я скоро, я очень скоро вернусь, – повторил Шамрай. – Я очень скоро вернусь!
– Ты не вернёшься, – очень тихо сказала Жаклин. – Нет, нет, не потому, что ты меня разлюбил. Просто я знаю, ты не вернёшься… Но я…
– Ты о чём это? – перебил её Шамрай.
– О нашей любви. Я очень тебя люблю. И всегда буду любить. Поцелуй меня…
– Глупости ты говоришь, – рассердился Шамрай. – Как же я могу не вернуться?..
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
Он не вернулся. В Гамбурге лежал огромный технический архив, вывезенный из Днепропетровска. Двадцать пять деревянных ящиков чертежей и документации. Почему он оказался в Гамбурге? Куда хотели вывезти его гитлеровцы, было неизвестно. Ценность архива очевидна, но англичане не проявили особого интереса к ящикам. Даже война не очень-то изменила их взгляды и убеждения.
Техника Советского Союза? Это ведь что-то очень отсталое, почти древнее. Что ж, забирайте свои архивы.
Шамрай доложил по военному телеграфу Монахову и сразу же получил приказ – беречь ящики, как зеницу ока. За их сохранность лейтенант отвечает персонально. Через неделю в Гамбург зайдёт советский пароход «Петропавловск». Архив погрузить и сопровождать до Архангельска. Там встретят Шамрая…
Шамрай взял телеграмму и задумался. Русские слова были написаны латинским шрифтом и от этого показались какими-то странными, чужими. Может, ему заехать в Париж? Оттуда до Террана – рукой подать, увидеть Жаклин. После его отъезда из Парижа она намеревалась вернуться домой. Да, увидеть и всё решить.
Решить? Ну, хотя бы увидеть её. Шамрай, скорей всего, так и сделал бы, если бы возле архива не стал крутиться какой-то американец. Приветливо познакомился, попробовал выспросить, как оказались здесь эти деревянные ящики, и с чем они.
Роман насторожился, потом забеспокоился, отлично поняв, что стоит ему отлучиться на некоторое время – и от архива и следа не останется.
Чем настойчивее становился американец, тем сильнее настораживался Шамрай. Он даже теперь ночевал здесь же, на ящиках, укрываясь клетчатым пледом, – апрельские ночи в Гамбурге холодные.
Победа приближалась. Берлин уже был окружён Советской Армией. Мир был наполнен тревогой, радостью и ожиданием победы, полной, окончательной. И все люди думали, как будут жить после войны. Для Шамрая всё ясно. Он сдаст архив, возвратится в Париж, заберёт Жаклин, демобилизуется и уедет в Суходол.
Очень хотел написать Жаклин длинное-предлинное письмо, но с ужасом понял, что едва ли сможет сделать это. Говорить по-французски – пожалуйста. Читать – уже несколько сложнее. А вот писать… Писать он почти не умеет. Как же это случилось? Нужно было, лёжа в постели, целую зиму учиться. Хотя зимой он не тратил времени даром. Говорил он свободно, даже с нормандскими словечками. Ну ничего…
Попробуем. На письмецо в десять строчек пришлось затратить чуть ли не целый день. Ошибок, конечно, тьма-тьмущая, но Жаклин всё поймёт. Правда, потом посмеётся над ним, попотешится вдосталь. Шамрай даже усмехнулся, представив себе это. Ничего, не боги горшки обжигают, писать по-французски он научится без ошибок… А может, в такой учёбе и нужды особой не окажется? Жаклин ведь будет с ним рядом каждый день, каждую ночь, всю жизнь. Это ей придётся учить русский язык…
Кончилось тем, что американец предложил за архив деньги, Шамрай вместо ответа, не боясь международных конфликтов, прогнал его и рассказал о его визите английскому коменданту порта.
Тот выслушал и рассмеялся.
– Продайте, – сказал он. – Я не хочу приуменьшать ваших национальных заслуг и достижений, но… довоенная документация… Зачем она?..
– Видно, кому-то здорово понадобилась эта довоенная документация, ежели за неё предлагают деньги, ответил Шамрай.
– И много? – снисходительно улыбнувшись, спросил комендант. – В долларах?
Шамрай назвал сумму.
– Интересно, – задумчиво сказал комендант. И Шамрай понял, что теперь ему придётся охранять архивы не только от американца. К счастью, вечером пришёл «Петропавловск». Длинная стрела легко перенесла на палубу сосновые ящики. Когда пароход отошёл, американец и комендант стояли рядом на пирсе. Лица приветливые, но разочарованные. Шамраю очень хотелось показать им кукиш, но он сдержался и приветливо помахал рукой.
День Победы он встретил возле Полярного круга, на севере от Норвегии, в компании хороших ребят, матросов «Петропавловска». Выпили, как водится, и за победу, и за наступившую мирную жизнь. Полярный день, длинный-предлинный, без конца и края, стоял над северными морями, и оттого действительность утрачивала своё обычное течение и казалась нереальной, а мир романтичным и прекрасным.
Реальность началась в Архангельске.
– Где вас призывали в армию? – спросил комендант порта, когда Шамрай наконец сдал архив.
– В Суходоле.
– Сейчас вам выпишут проездные документы, поедете туда…
– Простите, товарищ майор, мне необходимо вернуться в Париж…
– Вы служите там? Там находится ваша часть?
– Нет, у меня вообще нет части. Но вот командировка…
– Задание вы выполнили. Теперь пойдёте в распоряжение Суходольского военкомата. Там решат, как вас использовать.
– Но у меня в Париже жена…
– Выпишите её к себе, – невозмутимо посоветовал майор.
И Шамрай понял, что комендант и в самом деле не может поступить иначе.
Шамрай долго ехал через всю страну с севера на юг. Сожжённые вокзалы, разрушенные города, прозрачные, выплаканные от горя глаза женщин… И над всем этим синий ветер победы и надежды. Война окончилась, теперь неё будет хорошо. Как же иначе…
Волнуясь, ступил Шамрай на родную землю в Суходоле. Сгоревший вокзал. Руины из кирпича и серой штукатурки. Но на перроне дежурный в красной фуражке, и поезд пришёл точно по расписанию. Жизнь налаживается.
Вот ты и вернулся на Родину, Роман, после долгой, как жизнь, войны. Нет у тебя в вещевом мешке добра – всего лишь любовь Жаклин, победа да чистая, как слеза, совесть. Пути твои были трудными, но нигде ты не поскользнулся, не оступился и потому можешь смотреть людям прямо в глаза.
Сейчас иди домой. В Суходоле остался твой отец. Пройдись по знакомым улицам детства, посмотри на дом, с крыльца которого ты вступил в эту тревожную жизнь. А может, уже давно и нет родного крыльца? Мало ли таких хат поглотило ненасытное чрево войны?
Шамрай помимо воли прибавил шагу. Взошёл на высокую днепровскую кручу. Родной завод дымил всеми своими трубами. Восстановленные мартены работали полным ходом. Внизу Днепр, величавый и вечный, как песня. Сразу успокоилось бешено колотившееся сердце. Что бы там ни случилось дальше, как бы ни сложилась твоя будущая жизнь – ты дома.
И пусть душу твою не надрывает тоска о Жаклин. Она с тобой каждую минуту, в каждом твоём дыхании, в каждой твоей мысли. И Днепр, и этот огромный завод – всё это прекрасно, и потому очень пойдёт Жаклин… Скоро ты взойдёшь с ней, рука в руке, на эту кручу и увидишь в её глазах родное небо и эту синюю волну…
Домик стоял на своём месте, но изменилось всё. Роман понял с первого взгляда – отца не было. Не так подрезаны кусты смородины, и ветви старых яблонь, без подставок, низко склонились к земле. Всё знакомое до боли и одновременно всё чужое.
Ступил на деревянное крыльцо, постучал в дверь. На порог вышел старый дед. Борода ощетинилась короткими седыми волосиками. Широкая лысина блестела на солнце. Да это сталевар Семён Кортах. Его Шамрай знал ещё до войны.
– Приехал? – в свою очередь узнав Шамрая, спросил Корчак.
– Приехал, дедуся. А где отец?
– Отца твоего немцы повесили… В сорок втором… Проходи, сынок.
Шамрай шагнул в сени. Вот здесь, в детские годы, на гвоздике, вбитом в стояк, висели его санки. Гвоздик ещё торчит. Они вошли в комнату. И комната тоже постарела, будто бы стала меньше и потолок ниже.
– Теперь вы здесь живёте?
– Мы с бабкой живём. Наша-то хата сгорела…
– Мне уголок найдётся?
– Что спрашивать? Твой дом, ты хозяин.
– Мне хорошо бы отдельную комнату, – проговорил Роман и почему-то смутился. – Я женатый теперь.
– Будет тебе и отдельная комната. Места хватит.
– А Степан где?
– Степан? – Дед взглянул на лейтенанта, опустился на стул и заплакал. Слёзы текли, пробираясь между седыми волосиками бороды.
– Когда? – спросил Шамрай.
– В сорок втором. Под Сталинградом. Смертью храбрых.
Вошла старая Корчакиха, остановилась у порога, глазам своим не веря, потом бросилась Шамраю на шею, заголосила. В дверь уже стучали соседи. Шутка ли – Роман приехал! С самого начала войны не было ни слуху ни духу, а тут – на тебе: явился.
На другой день Шамрай, с раннего утра начистил сапоги, подшил свежий подворотничок и направился в военкомат. Молоденький писарь, взглянув на его документы, встал, сказав: «Сейчас доложу» – и исчез за дверью. Вскоре снова появился, улыбнувшись, проговорил:
– Проходите, – и распахнул дверь.
Шамрай вошёл в кабинет. Василий Иванович Грунько сидел за широким столом, читая его документы. Тот самый Грунько, который приказал тебе, Роман, и бойцу Могилянскому прикрывать шоссе под Киевом… Это было, кажется, тысячу лет назад. Целая вечность отделяла тебя от того часа, хотя и прошло всего лишь четыре года.
– Проходите, проходите, товарищ Шамрай.
Лейтенант подошёл к столу, сел на предложенный стул. Грунько немного поседел, но не очень-то изменился.
– Где мы с вами виделись в последний раз? Под Киевом. Правда, вас там оставили прикрывать отход. Как же вы остались живы? – Грунько был вежлив, даже любезен, но в каждом его слове чувствовалась зоркая насторожённость.
– Меня оглушило гранатой, и я попал в плен.
– А дальше?
Шамрай рассказал. Грунько слушал внимательно, и на его круглом полном лице ясно обозначилось недоверчивое удивление.
– Значит, вы женились, и у вас во Франции осталась жена? – уточнил он, когда Шамрай закончил свой рассказ. – Брак оформлен юридически?
– Нет. К кому мне следует обратиться, чтобы оформить её приезд?
– Подождите. Сначала нужно всё выяснить с вами.
– Что же выяснять со мной?
Грунько встал, высокий, плотный, с погонами подполковника на плечах, прошёлся по кабинету, посмотрел на Шамрая. Взвешивая каждое своё слово, сказал:
– О вас многое, весьма многое надо уточнить. Мне не впервой приходится выслушивать разные истории от пленных… бывших пленных, – поправился Грунько. – Все они поразительно захватывающи. Ваша не исключение. А вот правду ли вы рассказали – неизвестно. Потому и не обижайтесь и не имейте претензий к нам, если мы попробуем кое-что проверить…
– Пожалуйста, проверяйте. У меня совесть чиста.
– В список демобилизованных я включу вас немедленно. Думаю, что там, в Париже, вам несколько поспешно выдали форму, но об этом потом. Вопрос о вашем пребывании в армии решится месяца через два. А до того времени придётся подождать. И ещё одно, товарищ лейтенант, пока вы носите военную форму, я просил бы вас об этом не забывать. Этот цветок за ухом не к лицу офицеру.
– То же самое мне однажды сказала Жаклин.
– Кто?
– Моя жена.
– Могу вас поздравить: у вас неглупая жена. Желаю успеха.
В тот же день вечером Шамрай сидел в своей комнате и писал письмо Жаклин. Разговор с военкомом не только не испортил ему настроение, даже не посеял тревоги, таким сильным было убеждение Шамрая в собственной чистоте.
Теперь он писал ей письмо не из Гамбурга, а из дома, и под рукой были словари, так что работа пошла быстрее. Но всё равно Шамрай не мог выразить то, что хотелось, рассказать ей и о весне в Суходоле, и о тёплом синем ветре, который гуляет над Днепром, и о его, Шамрае, тоске по ней, о его любви… Слова выходили из-под пера какие-то сухие, казённые, фразы короткие, и чувства потому выглядели бледными и, наверное, смешными. Он перечитал своё письмо. Да, не очень-то складно. Но не беда, Жаклин поймёт. Беда в другом. Он не сообщал Жаклин ничего определённого о её приезде. Что сделал он для их скорой встречи? Ничего. Так почему же он сидит, как пень, пишет нежные слова о любви, вместо того чтобы действовать!
Он будет писать в Москву. Будет писать каждый день. И писал. Письма исчезали в чёрной щели почтового ящика. Но ответ не приходил. Он продолжал писать. В Москве всё же должны понять Шамрая, что без Жаклин ему нет жизни.
Его демобилизовали, выдали деньги и паспорт. Лейтенантские погоны он снял с сожалением. Без них военная форма выглядела странно. Нужно было думать, как жить дальше, и он пошёл на завод, в отдел кадров. Приняли охотно. Как и до войны подручным сталевара.
Волнуясь, подошёл впервые после долгой разлуки к мартену. В памяти сразу возник другой завод и Якоб Шильд, и памятник Ленину, и холодный металл бомбы…
– Не забыл, как лопату держат в руках? – понимая его чувства, улыбнулся сталевар Зинченко. – Хорошо, друг, что жив остался. Люблю, когда возвращаются сталевары.
Здесь Шамрай почувствовал себя легко, свободно. Это было его настоящее место, для такой именно работы родился он, видно, на свет. И Жаклин тоже не представляла жизни без работы, настоящей, доброй. Они не раз говорили об этом в бессонные счастливые ночи. Пусть всё его тело тогда, стиснутое гипсом, исходило страшной болью, мысли были счастливыми, они с Жаклин жили надеждой. Надеждой на счастье. Мечтой…
А пока он лишь писал письма Жаклин. И видел, как начинает постепенно подчиняться ему чужой язык. И слова свободнее лились на бумагу. И снова письма падали в почтовый синий ящик, как в прорву, – ответа не было.
Однажды (это уже было в мае) Шамрай вернулся с работы и увидел испуганные глаза тётушки Марии, жены старого Корчака. Была она невысокая и худощавая, будто вырезанная из сухого дерева. Тараторила – что горох сыпала: тысячу слов в минуту, и первая знала все суходольские новости и события во всех подробностях. Но на этот раз в её выцветших, как застиранный ситчик, глазах была тревога.
– С почты приходили, – шёпотом, доверяя Шамраю тайну наверняка государственной важности, проговорила она. – Немедленно, сказали, нужно тебе явиться.
У Шамрая оборвалось сердце от радости. Пришёл ответ на какое-то письмо. На какое? Кто откликнулся?
Он побежал на почту, будто на пожар. Предъявил в окошко уведомление.
– Зайдите к начальнику, – прозвучало в ответ.
Шамрай прошёл в комнату, где стоял длинный, сколоченный из досок стол и большой сейф. Начальник, наголо остриженный, грузный инвалид, взглянул на Шамрая с интересом и одновременно с подозрением. Так встречают человека, от которого всего можно ожидать.
– Вот уведомление, – сказал Шамрай.
– Говорите громче, я глухой, контузия, – крикнул почтарь.
– Вот уведомление, – во всё горло крикнул Шамрай.
– Паспорт есть?
Начальник долго изучал новенький паспорт Шамрая, потом тяжело поднялся, глухо бухая деревянным протезом в пол, подошёл к сейфу, порылся там, нашёл письмо, медленно, словно боясь допустить ошибку, запер тяжёлые стальные двери и только тогда вернулся к столу.
– Ну, давайте же скорее! – Шамрай сразу увидел письмо от Жаклин.
– Подожди! Нужно зарегистрировать и расписаться, – прокричал почтарь. – Вот здесь запиши номер паспорта. – И осторожно, будто стакан с кислотой, которая может, плеснувшись, ожечь пальцы, передал письмо Шамраю.
Дома, закрыв дверь, Роман присел к столу, положил перед собой конверт, и тотчас же… к нему тихо вошла Жаклин, положила свои сильные и ласковые руки ему на плечи, и он почувствовал запах её волос, кожи, услышал её низкий голос… Письмо лежало на столе, тёплое, будто живое… Слёзы жгли глаза, он с трудом пытался проглотить горький, застрявший в горле твёрдый ком и не мог…
Конверт был длинный и узкий, не похожий на привычные глазу наши конверты. Шамрай разорвал, вынул старательно сложенный и мелко исписанный листок бумаги. К этому листочку бумаги прикасались руки Жаклин, её добрые руки…
Шамрай сидел долго, словно окаменев. И только тогда, когда совсем высохли слёзы, начал читать.
«…У нас было много времени, – писала Жаклин. – И всё-таки я не долюбила тебя и не успела сказать тебе что-то самое важное…»
Она уже получила его первые письма, знала о его стараниях добиться разрешения на её приезд, но почему-то об этом ничего не писала.
«Пиши мне чаще, – читал Шамрай последние строчки, снова слыша голос Жаклин. – Мне сейчас очень нужно, чтобы ты писал мне часто… Отец тебе шлёт свой привет».
Из своей комнаты Шамрай не выходил до позднего вечера. Тётушка Мария просто сгорала от любопытства и нетерпения, но Роману было не до неё. Он сидел за столом и в десятый раз писал, зачёркивал и вновь писал письмо.
Вечером, выйдя из комнаты, он увидел ждущие, беспокойные глаза тётушки Марии.
– Что пишет? – спросила она так, что не ответить на её вопрос было невозможно.
– Скоро приедет, – сказал Шамрай.
– Ну и слава богу. Встретим, так уж встретим, – проговорил Корчак.
– Что-то ты не очень рад, как я погляжу, – не отставала тётушка Мария.
– Потому что приедет она не так скоро, как мне хотелось бы, – тихо ответил Шамрай.
И даже тётушка Мария поняла, что больше спрашивать ни о чём нельзя, что нужно дать покой человеку, когда у него тяжко на душе.
А что на душе у него невесело, догадаться было совсем нетрудна. И потому все в доме замолчали. А старый Корчак, сокрушённо покачав головой, подумал, что хоть самое страшное миновало, людям после войны всё же не так-то просто живётся на свете.
Теперь почта стала для Шамрая лучшим другом и злейшим врагом. Он проклинал её за молчание и благословлял, если приходило письмо от Жаклин. Письма теперь шли регулярно – дважды в неделю.
Приближались Октябрьские праздники. И вдруг Жаклин замолчала. Прошла неделя, другая, третья, месяц. Ни слова. Что можно было думать?
Шамрай не находил себе места от тоски и ожидания. Не было сил ждать, не было сил надеяться. Не было сил и жить без Жаклин. Но разве умрёшь без смерти?
Первый послевоенный праздник Октября пришёлся на ясный, хотя и морозный день поздней осени. Высокое небо, начисто вымытое синим ветром, раскинулось над Днепром. Грустное, нежаркое солнце, прищурившись, оглядело Суходол, уже не военный, праздничный. Старые клёны и молоденькие липки сбросили свои листья, и они, попадая под ноги, шуршали, словно печально перешёптывались о чём-то своём, непонятном людям. Заводской духовой оркестр гремел около трибуны. Паренёк старательно бил в медные тарелки, вскидывая их высоко над головой, будто подбрасывал в прозрачный воздух два звонких весёлых солнца. Праздник победителей шагал по Суходолу.
Секретарь горкома приветствовал с трибуны сталеваров. Они ответили громким «ура» и прошли мимо трибуны, взявшись за руки, дружной и мощной колонной.
Потом за праздничным столом у Зинченко среди гостей сидел Роман Шамрай, держа в руках налитую рюмку. Пили за победу. Сталевары пришли в белых сорочках с твёрдыми накрахмаленными воротниками, которые натирали шею, оставляя на ней красную полосу. Принарядились, кто как мог, и их жёны сидели рядом с мужьями, торжественные и улыбчивые. Много красивых женщин в Донецком крае. Вот только руки у них не по-женски крупные и мозолистые. Всё вынесли эти руки, подумал Шамрай, и войну, и оккупацию. Они были нежными, когда ласкали любимого, и железно-твёрдыми, когда приходилось воевать. Они умели работать дни и ночи, не зная устали, но каждый прожитый год оставлял на них свой след. У Жаклин тоже крупные и сильные руки. Ей, конечно, хорошо было бы за этим столом…
Шамрай сидел молчаливый, прислушиваясь к разговору. Он соскучился по сталеварам, он любил их. Это настоящие друзья, и именно среди них его место в жизни.
И когда все уже хорошенько выпили и за победу, и за счастье и здоровье, Роман вдруг почувствовал неодолимое желание тоже сказать слово о том, над чем он много думал и раньше, там, в Терране, и сейчас. Он поднялся, и за столом стало тихо.