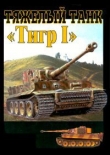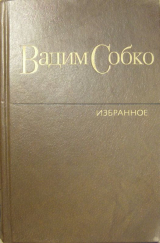
Текст книги "Избранные произведения в 2-х томах. Том 2"
Автор книги: Вадим Собко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 46 страниц)
Взгляд Шамрая удивлённо остановился на проломе в стене подвала. Спит он, что ли, или в самом деле в подвал вошла какая-то женщина, невысокая, просто одетая, вошла и устало привалилась спиной к полузаваленной битым кирпичом двери. Роман посветил фонариком – перед ним стояла Галя.
– Здравствуй, – сказала Галя, словно они виделись только вчера. – Где Скорик?
– Он уничтожил танк. Поджёг его и погиб сам.
– Насмерть?
– Нет, – Шамрай рассердился. – Наполовину.
– Я подумала, может быть, ранили, и он ещё жив… Как всё это произошло? – спросила Галя, не обратив внимания на язвительный тон Шамрая.
– Садись, – сказал Шамрай и, протянув ей руку, заставил присесть рядом на сломанный ящик из-под бутылок.
– У меня мало времени, – тихо сказала Галя.
– А выслушать меня всё-таки придётся, потому что, возможно, ты последний человек, который всю эту историю сможет передать, как эстафету. У тебя ещё есть время и возможность спастись.
По мере того как рассказ подходил к концу, Галя всё ниже и ниже опускала голову, ладонями закрыла лицо. Казалось, плечи её прижимает к земле непосильное бремя, и девушка изо всех сил, сопротивляясь, старается удержаться, не упасть под его неумолимой тяжестью.
– И теперь я не знаю, что думать, – закончил рассказ Шамрай, – герой он или предатель?
– Почему ты рассказал это мне? – девушка подняла голову, внимательно всматриваясь в Шамрая.
– Потому что у тебя есть шанс остаться в живых. И потом, ты его знала. Мне кажется, что ты… не случайно же ты оказалась в Терране. И, может быть, знаешь немного больше меня и моих нынешних друзей. А вся эта история со Скориком так запутана, и хочется, чтобы на свете был хоть один человек, который знал бы правду и понял бы, насколько здесь не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
– Когда он поджёг танк, мог ещё спастись?
– Нет. Его срезала пулемётная очередь. Спрыгнуть в подвал он просто не успел. А может, это и к лучшему…
– Куда вы все спешите? – с тоской в голосе проговорила Галя. – Почему люди так торопятся умереть?
– Он не хотел умирать. Он сражался. Как настоящий солдат. Не сделай он, это сделал бы я, или Васькин, или кто другой. А ему возвращаться домой с позорным клеймом – ты понимаешь, что это такое?..
– А если он не предатель? – вопросом на вопрос ответила Галя. И снова её голова опустилась низко-низко, почти к самым коленям. И Шамрай услышал её тихий голос: – Почему люди так спешат? Почему им кажется, что дома о них будут думать только плохое?
– А чем он мог доказать? Все погибли. Слухи да догадки – это ещё не доказательства…
– Да, это правда. – Галя поднялась. – Ну, прощай. Ничего ты мне приятного не рассказал, но и на том спасибо…
– Ты любила его? – вдруг догадался Шамрай.
– Любила? Нет, любовь – это не для меня… Мне других забот хватает. Ну, пора. Ещё нужно увидеться…
– С кем?
– Это не имеет значения. Прощай, Роман. Желаю тебе удачи.
– Подожди. А как Нина? Они поженились?
– Нет. Погибла Нина. Повесили её…
Шамрай молчал, казалось, никакая новость уже не могла потрясти его окаменевшую душу.
– А Эмиль? Жив, всё ездит на паровозе?
– Эмиль пока жив. Партизанит где-то под Клермон-Ферраном. Ну прощай. Счастливо тебе!
– И тебе счастливо, Галя, – ответил Шамрай.
Она вышла из подвала, ступая медленно и как-то странно легко и бесшумно, как призрак. Чего-то не понял Шамрай в её словах. Не успел расспросить её о многом – и главное о ней самой.
Он решил обойти позиции отряда. Всего шесть партизан теперь держали оборону в трёх домах. Но в сердце каждого бойца теплилась надежда на жизнь, и потому первый вопрос, который они задавали Шамраю, был всюду одинаков:
– Где Леклерк?
– Близко, уже совсем близко. Держаться надо, ребята. Всем чертям назло.
Они прислушались, и им казалось, будто в ночной тишине и в самом деле слышится отзвук близкого боя и скрежет гусениц тяжёлых танков по асфальту шоссе.
Всё ещё думая о Гале, Шамрай вернулся в свой подвал, припал к амбразуре.
Из темноты появилась Жаклин. Он молча обнял её, уткнулся лицом ей в плечо, словно искал у неё спасения и помощи, спросил:
– Не слышала, где Леклерк?
– Близко, – утомлённо ответила Жаклин.
– Что у тебя в лазарете?
– Лучше не спрашивай: страшно… – Тело Жаклин била нервная дрожь, она с трудом выговаривала слова. – Я больше не могу… легче умереть самой. Отец послал меня к тебе.
Шамрай гладил её вздрагивающие плечи, лицо, руки… Жаклин пододвинулась к нему, и он, как крылом, обнял её здоровой рукой, укрыл полой пиджака, чувствуя, как медленно, волнами стихает её дрожь, теплеют руки.
Они долго сидели молча.
– Габриэль погиб, – наконец тихо, шёпотом проговорила Жаклин. – Нас осталось совсем немного…
– Кто командует?
– Отец.
Они снова замолчали, тесно прижавшись друг к другу.
Говорить не хотелось: о чём? И так всё было ясно.
– Что-то подозрительно тихо, – сказал Шамрай.
– Пусть будет тихо, – прошептала Жаклин. – Может, это наши последние минуты. Поцелуй меня на прощанье…
А гитлеровцы тем временем, не желая больше понапрасну терять людей и танки и догадываясь, как мало осталось партизан на крошечном пятачке в центре Террана, сконцентрировали артиллерию, подвезли снаряды и в сумеречный предрассветный тихий час четвёртого дня обороны обрушили огненный шквал на город.
Полчаса выли снаряды, утрамбовывая смертным молотом всё, что попадалось им на пути – дома, улицы, деревья, перемешивая в одну страшную кашу всё живое: огонь, чёрную пыль и дым… Для партизан это были полчаса ожидания смерти, и мало кто из защитников города с ней разминулся.
Тяжёлый снаряд ударил в развалины дома, в подвале которого находились Жаклин и Шамрай, сровнял эти каменные торосы с землёй… Дым ещё долго колыхался от нежного дуновения раннего ветра. Медленно оседала на землю кирпичная пыль, всё окрашивая вокруг в красноватый цвет.
Потолок подвала был пробит. В нём зияла огромная дыра. Это было первое, что увидела пришедшая в себя Жаклин.
Шамрай лежал на полу, опрокинувшись навзничь, неестественно подогнув ногу. Одежда была в крови.
Жаклин бросилась к нему.
– Роман!
Нет, Шамрай был ещё жив, трудное, прерывистое дыхание срывалось с каменно затвердевших губ.
Жаклин выглянула из окошка-амбразуры подвала на улицу. Посредине мостовой, разбитой снарядами и минами, шли немцы. Автоматы в их руках почему-то напоминали ей трупы худых костлявых собак. Улица молчала, как мёртвая. Никто не стрелял, никто больше не защищал Терран.
Через полчаса после того как прекратился бой, майор Лаузе появился в городе. Парабеллум зажат в правой руке, другой за поясом, в глазах исступлённая злоба. За ним шли адъютанты и офицеры инженерных войск – Терран немедленно нужно было укрепить. Танки союзников уже недалеко от города.
Сапёры взялись за свою работу, а майор Лаузе направился к больнице. Она сейчас была единственным местом, где ещё остались живые партизаны. Ему не давали покоя воспоминания о том, как ему, майору великой немецкой армии, пришлось позорно бежать чуть ли не в исподнем, и откуда – из какого-то паршивого городишка шахтёров. Нет, они ещё увидят, каков он по-настоящему. Они ещё не знали майора Лаузе, теперь они его узнают!
Когда майор Лаузе подходил к операционной, доктор Брюньйон только что начал вынимать осколок из груди Мориса Дюрвиля.
Лаузе распахнул дверь операционной и, как победный монумент собственной персоне, застыл на пороге.
– Выйдите отсюда, – спокойно сказал, на мгновение подняв голову, Брюньйон. – Здесь идёт операция.
Майор повёл парабеллумом, но почему-то не выстрелил.
– Немедленно удалитесь и закройте дверь, – требовательно повторил доктор, хорошо зная, что эти слова могли быть последними в его жизни.
И странно – Лаузе подчинился властному приказанию доктора.
Опомнившись в коридоре, он снова открыл дверь и грозно сказал:
– Мы повесим вас на площади через полчаса.
– Отлично, – согласился Брюньйон. – Я к этому времени закончу операцию.
Майор хлопнул дверью. Ненависть с новой силой вспыхнула в его сердце. Она искала выхода, удовлетворения. Майор ворвался в палату, где на койках, на полу лежали раненые. Их взгляды встретили его.
У Лаузе не было времени на раздумье. Он видел эти глаза. Много глаз. Эти люди презирали его. И тогда он, не владея собой, вскинул парабеллум и методично, целясь в эти ненавистные ему, запавшие глаза, стал стрелять, пока не кончилась обойма.
К нему подбежал адъютант, что-то сказал. Майор вздрогнул, взглянул испуганно, потом зло выругался и, засовывая на ходу ещё дымящийся парабеллум за пояс, бросился вниз по лестнице, к стоявшей у подъезда машине.
Грохот танковых гусениц грозным неумолимым валом надвигался на город, и ничто уже не могло задержать движения союзников. Партизаны Террана сделали своё дело.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Двери распахнулись, и в комнату вошёл Сталин. Его появления Роман Шамрай ждал очень долго. Приходя в себя, чтобы на короткий миг почувствовать, что он жив, Шамрай вновь впадал в забытьё. Он всё время готовился к этой встрече. Ему хотелось, чтобы Сталин знал – лейтенант Шамрай до конца выполнил свой воинский долг. В его голове, затуманенной горячечным бредом, твёрдо вычеканились слова рапорта. Непременно нужно, чтобы Сталин узнал – сталевары Донбасса и шахтёры Франции не отступили. Не нужно ни наград, ни отличий, по-настоящему важно только одно – чтобы он знал: они не отступили.
И вот она и настала, эта встреча. Какая-то незнакомая большая комната… Подожди, подожди, это же кабинет директора Суходольского металлургического завода. Шамраю довелось там побывать разочек… Но как здесь очутился Сталин?
Впрочем, какое это имеет значение! Важно, что они встретились. Сейчас Роман Шамрай скажет давно приготовленные, отчеканенные в памяти слова.
Сталин смотрел на него так, как смотрел прежде с портрета, который висел у Шамрая дома, над кроватью. Зелёный китель, в руке кривая трубка, а на губах, под седоватыми усами, едва заметная улыбка.
Волнение перехватило дыхание, Шамраю стало страшно, что он вот сейчас, сию минуту задохнётся, так ничего и не сказав Сталину. Он хотел было открыть рот и вдруг с ужасом понял, что все замечательные, красивые слова, обдуманные и приготовленные им заранее, вылетели из головы, словно стая вспугнутых воробьёв.
Шамрай глубоко вздохнул, набрав полную грудь воздуха, но от этого стало ещё хуже: лёгкие словно окаменели.
Сердце всполошённо колотилось. Что же делать? Ведь если он будет молчать ещё минуту, Сталин просто уйдёт из комнаты, так и не узнав, что лейтенант Шамрай в далёком Терране выдержал и лагерь, и бои и не отступил.
– Мы выстояли, – громко сказал Шамрай и пришёл в себя от звука собственного голоса…
И вот уже нет перед ним человека в зелёном кителе, нет и кабинета директора Суходольского завода. Роман, вздрогнув, раскрыл глаза. Где он? Какая-то знакомая и одновременно незнакомая комната. В широкое окно, завешенное лёгкой шторой, льётся ливень горячих солнечных лучей.
Попробовал пошевелиться. Тело тяжёлое, закованное в твёрдый беспощадный панцирь. Что же всё-таки случилось? Левая рука каменно неподвижна, но правой, кажется, можно действовать. Собрав все силы, сдерживая боль, он стянул с себя лёгкую белую простыню. Чуть приподняв голову, взглянул на себя и содрогнулся от ужаса: вместо ног лежали две толстые неподвижные колоды, левая рука тоже закована в гипс, грудь перебинтована тугим полотенцем.
Где-то очень далеко оркестр играл грустный марш, но это не рождало тревогу. Может, даже наоборот, музыка подчёркивала тишину и покой жаркого летнего дня.
Кого хоронят? Пришёл Леклерк или напрасно погибли французские и донецкие шахтёры и сталевары? Как он очутился в этой комнате?
Посмотрел на потолок, на стены, оклеенные светлыми обоями. Над столом большая фотография – папа Морис ещё молодой и весёлый…
А печальная музыка всё лилась и лилась над миром. Может, это хоронят его, Романа Шамрая? Подождите! Остановитесь, он живой! Живой!
– Жаклин! – крикнул Шамрай. – Жаклин! – Никто не ответил. Тишина по самые края наполнила дом. Усилие, которое требовалось, чтобы выкрикнуть это единственное слово, оказалось достаточным, чтобы Роман снова потерял сознание.
Очнувшись, он увидел Жаклин. Она стояла на пороге. Лицо бледное и печальное. Лёгкое чёрное платье свободными складками облегало её стройную высокую фигуру. Она смотрела на него ещё вся под впечатлением траурного марша, торжественных звуков «Марсельезы», которая так не вязалась с кладбищем, а всегда напоминала живым о необходимости жить и бороться.
– Жаклин, – прошептал Роман.
– Очнулся? – Жаклин бросилась к Шамраю.
– Жаклин, – наслаждаясь её именем, повторил Шамрай.
Осторожно, боясь своим прикосновением причинить боль, Жаклин опустилась перед ним на колени.
– Где Леклерк?
– Всё хорошо. Прошёл не задерживаясь.
– Где ты была? О ком плачет эта музыка?
– Хоронили товарищей. На площади, возле мэрии в братской могиле. Там когда-нибудь поставят памятник героям. А им что от этого? Они не увидят победы. Габриэль, Колосов и этот… Скорик.
– Жаклин, – с нескрываемой радостью снова произнёс Шамрай, всё ещё не веря, что он может вымолвить это дорогое ему имя. – Скажи, что со мной?
– Доктор Брюньйон поработал над тобой почти четыре часа. Я не смотрела. Не могла. У тебя перебиты руки, ноги, рёбра. Но всё срастётся. Нужно только лежать, долго и спокойно лежать…
– А папа Морис?
– В больнице. Я хотела взять его, но доктор пока не разрешил.
– А что с Робером? Он жив?
– Теперь мы все будем жить. Подожди, я сейчас сниму это траурное платье. Понимаешь, в нём невозможно легко дышать и радоваться. Если бы только знал, как я счастлива, что ты наконец-то пришёл в себя. Теперь всё будет хорошо.
Через некоторое время она появилась в цветастом платье, светлая и солнечная. Улыбаясь, лёгкими шагами подошла к кровати и остановилась, сдерживая дыхание. Лейтенант спал. Тяжёлая усталость смежила ему веки, но радостная улыбка – по-прежнему на губах Жаклин: она знала – это не обморок, а сон, здоровый сон, который лечит человека лучше всяких лекарств. Она наклонилась, осторожно поцеловала Шамрая и всё так же тихо и легко вышла из комнаты.
Закованному в гипс, как в латы, Шамраю казалось, что дни тянутся медленно и скрипуче, как чумацкие возы, а в действительности в это лето сорок четвёртого года они бежали наперегонки, хвастаясь друг перед другом событиями и победами.
– В Париже восстание, – радостная Жаклин однажды утром стремительно вбежала в комнату к Шамраю. – Леклерк уже на окраине. Боши окружены…
В эту минуту Шамрай особенно остро чувствовал свою неподвижность и беспомощность. Даже слёзы навернулись на его глазах.
Жаклин поняла его мысли.
– Мы ещё будем в Париже, – сказала она.
– Мы ещё будем в Париже, – повторил Шамрай.
– Генерал Леклерк и полковник Роль Танги приняли капитуляцию фон Шольтица! – воскликнула Жаклин через несколько дней. – Париж свободен. Боши сдались.
– Кто такой Роль Танги?
– Коммунист, командир восстания в Париже.
– Мне необходимо в Париж.
– Сию минуту? – Жаклин улыбнулась.
– Как можно скорей. В Париже наверняка есть кто-нибудь из наших советских. Мне нужно в Париж.
– Для начала тебе нужно съесть вот эту кашу. – Жаклин засмеялась. – Гипсовые повязки – не последняя парижская мода. Ешь!
И Шамрай ел. Каша овсяная, надоевшая, но есть надо, даже через силу. Кости должны быстрее срастись.
Когда первое опьянение победой прошло, тень тревоги всё чаще стала появляться на красивом лице Жаклин. И однажды поздно вечером, сидя рядом с Романом, она спросила:
– Как мы будем жить дальше, Роман?
– Война окончится, поедем в Суходол. – У Шамрая не было на этот счёт никаких сомнений. – Что нам может помешать?
– Не знаю… Мне почему-то страшно.
– Бояться нечего. У нас с тобой впереди только счастье. Если, конечно, ты меня не разлюбила…
– Роман, не шути. Ты знаешь, как я тебя люблю. И вся моя жизнь в тебе и ещё…
– Что ещё? – спросил Шамрай, насторожившись.
– А в Суходоле такое же небо, как над Францией? – почему-то звонким голосом спросила Жаклин.
Шамрай привлёк её к себе, прижал к груда.
– Моё солнышко, и небо такое, и люди… Добрые и ласковые. Они полюбят тебя.
– А я?
– И ты. Что с тобой, Жаклин? Ещё не покинула Террана, а уже скучаешь по нём?
– Да нет… Я просто так спросила…
– Принеси-ка мне лучше конверт с маркой. Напишу письмо в Париж.
– Кому?
– В посольство СССР в Париже, Наверное, дойдёт.
– Дойдёт, наверное, – задумчиво повторила Жаклин.
В конце сентября пришёл Робер Коше. Пустой рукав засунут в карман пиджака, а на губах улыбка.
– Ну как, жив-здоров, Роман?
– Жив, только вот никак не вырвусь из тисков гипса, – ответил Шамрай. – Нет сил больше ждать.
– Всё пройдёт, – сказал Робер и посмотрел на свой рукав. – Как с едой-то, Жаклин? Есть ещё продукты?
– Всё хорошо, – ответил Шамрай.
– Нет, всё плохо, – перебила его Жаклин. – Если он будет есть одну овсяную кашу, то кости ещё не срастутся сто лет.
– Карточки выдали на Романа?
– Карточками сыт не будешь.
– Я проверю. – Робер весь кипел желанием деятельности, работы. – Ты не беспокойся, Роман, я проверю. А будут артачиться, мы им в мэрии такой моральный разгром учиним…
– Кто это мы? – спросила Жаклин.
– Мы, коммунисты.
– И много вас?
– Больше, чем ты думаешь, Жаклин.
Робер взглянул ей в лицо, встревоженное и одновременно счастливое, и отвернулся. Чтобы не увидели его заблестевших глаз, поспешил выйти. Жаклин проводила Робера и вернулась.
– Хороший он парень, – тихо сказал Шамрай.
– Хороший, – согласилась Жаклин.
– Интересно, буду я ходить, когда снимут гипс, или, может…
– Всё будет хорошо.
Через месяц Брюньйон снял гипс, и Шамрай попробовал встать. Беспощадная боль пронзила всё тело. Тёмные круги поплыли перед глазами, и Роман, потеряв сознание, упал на постель.
– Вы не доктор, вы настоящий садист, – крикнула Жаклин, бросившись к Шамраю.
– Он сейчас очнётся, Жаклин, не волнуйся, – ласково улыбаясь, сказал Брюньйон и своими сильными руками стал прощупывать ноги Шамрая.
– Что вы делаете, не трогайте его! – крикнула Жаклин.
– С правой всё в порядке, а левую придётся долго разрабатывать, – не обращая внимания на вопли Жаклин, проговорил доктор. – Сейчас ты пойдёшь в больницу, – обратился он к ней, – там тебе дадут костыли. Пусть ходит. Через силу, не обращая внимания на боль, чего бы это ему ни стоило, – только ходить и ходить. Сейчас это единственное лекарство.
– Я буду ходить. Чего бы это ни стоило, – проговорил пришедший в себя Шамрай.
У Жаклин кровью обливалось сердце при виде того, каких невероятных усилий потребовалось ему, чтобы тронуться с места.
– Брось ты эти проклятые костыли, отдохни, – кричала она. – Человек не может так терзать сам себя.
– Только я сам и имею право делать это, – ответил Шамрай, вытирая со лба холодный пот. – Ты не знаешь, где мой воротник? С петличками и кубарями…
– Лежит в шкафу. А к чему он был пришит?
– К гимнастёрке.
– А что это такое?
Шамрай попробовал нарисовать на бумаге.
– Я попытаюсь сшить тебе что-нибудь подобное, – сказала Жаклин. – Постараюсь. Но имей в виду, едва ли это будет настоящей гимнастёркой. Скорей, она будет выглядеть как французский камзол на русском царе.
– Что ж, давай попробуем, – Шамрай засмеялся.
Гимнастёрка, сшитая из зелёного грубого материала, и вправду имела какой-то иностранный вид, но всё равно, надев её и подпоясавшись широким шахтёрским ремнём, Шамрай наконец почувствовал себя в собственной шкуре. Взглянул в зеркало. Перед ним стоял, опираясь на костыль, ещё молодой, до предела измученный человек, с запавшими от худобы щеками. Буйная шевелюра, давно требовавшая стрижки, нависала на голубые глаза, огромные, яркие, будто фарфоровые (они всегда бывают такими у очень худых людей), полные нетерпеливого ожидания.
Шамрай грустно смотрел на этого человека. Всё, брат, в тебе странно: и «камзол», и волосы, нависшие на глаза, всё не настоящее какое-то, театральное, бутафорское. Вот только воротник с кубарями – твои родные.
В газетах печатали радостные сообщения. С востока на гитлеровцев сыпались удар за ударом, «тысячелетняя империя» трещала по всем швам, и все мысли Шамрая теперь сосредоточивались на одном – успеть вернуться в армию, встать в строй до дня победы.
Но для этого прежде всего он должен был выздороветь, бросив костыли, свободно двигаться, ходить, даже бегать.
И он, превозмогая острую боль, ходил и ходил…
В начале зимы Шамрай впервые отважился выйти на улицу. Шёл с костылём, тяжело прихрамывая, «тянул» ногу. Лейтенант думал, что он здесь неизвестный человек, а оказалось, что его знают чуть ли не все.
– Бон жур, Роман! Салют, Роман! Здравствуй, Роман, – слышалось со всех сторон. Некоторые из прохожих были хорошо знакомы: с одним приходилось работать на шахте, с другим лежать под огнём, а третьего освобождать из гестапо.
– Зайди, выпей стаканчик вина, – крикнула ему тётушка Мариэтт. – Так, без денег, отдашь после войны.
– Спасибо, – ответил Шамрай. – Мне некогда.
– Куда ты спешишь?
– Не прозевать бы победу.
– Она сама тебя найдёт. Зайди всё-таки.
Шамрай зашёл. В бистро тётушки Мариэтт сидели шахтёры. Робер Коше поднялся ему навстречу.
– Хорошо, что ты пришёл. Садись.
– У вас здесь собрание?
– Нет, просто думаем, как жить. Шахты закрыты, заводы разрушены. Мне что: одна голова – не бедна, а бедна – так одна. А у других семьи, дети. Кстати, скажи, мэрия тебе исправно выдаёт карточки и деньги? Жена твоя всё получает?
– Жена?.. Получает.
– Если что не так, сразу ко мне, – приказал Робер.
– Спасибо, спасибо за всё, – ответил Шамрай.
Настроение его резко улучшилось. Да, у него есть подруга, жена, признанная всеми людьми. Захотелось немедленно, сейчас же увидеть Жаклин, рассказать ей…
Он рванулся было с места, сделав несколько быстрых шагов, и чуть не упал от жгучей боли в суставах. Пришлось остановиться и долго стоять перед бистро.
Зимнее, скупое солнце поблёскивало над Терраном. На холмах кое-где виден снег. А в Арденнах продолжаются горячие бои, гитлеровцам достаточно было выставить здесь всего несколько дивизий, чтобы отбросить американцев и англичан почти на сотню километров. Черчилль просил Сталина как можно быстрее ударить с востока, чтобы спасти от разгрома отступающие войска союзников. Сквозь заснеженные леса и замёрзшие болота двинулись с Вислы на Одер советские танковые армии.
А над Терраном сейчас холодное ясное небо и синий ветер. Шамрай не раз видел такое и над Донбассом. Над высокими терриконами вздымался ясный купол неба, и синий ветер, ветер надежд и мечтаний, проносился над головой парня, предвещая дальние дороги, тревожные поиски и счастливые победы…
И здесь, на французской земле, к нему снова пришло ощущение синего ветра.
Всем: жизнью своей, счастьем – Роман обязан Жаклин. Только ей.
Он вышел на городскую площадь. В центре её – братская могила ещё без памятника. Когда-нибудь, возможно, поставят гранитную глыбу и вырубят на ней имена погибших героев. Сейчас их написали на картоне, спрятанном под стеклом в большой деревянной раме.
Медленно читал знакомые и незнакомые имена лейтенант Шамрай: «Кикоть, Лангрен, Колосов, Габриэль, Джапаридзе, Васькин, Шемье, Мунтян, Макенрот…» Немец? Да, немец, Шамрай знал его. А потом надпись: «…и ещё 137 героев обороны Террана, имена которых сейчас остаются неизвестными»…
Братская могила, и в ней много хороших друзей Романа Шамрая. Лежат рядом французы и русские, немцы и украинцы, рабочие Донбасса и шахтёры Франции – братья. Это не начало, а продолжение вечной дружбы, и разорвать её невозможно…
Шамраю нужно было идти, он и так застоялся. Нужно двигаться, учиться ходить, превозмогая боль.
Может, он ещё успеет… И нужно немедленно написать ещё одно, пожалуй уже десятое, письмо в посольство. Он бросает эти письма в ящик, как в бездонную пропасть. Ответа нет…
Жаклин встретила его улыбкой, приложила палец к губам: тише. Папа Морис наконец выписался из больницы. Очень слаб ещё. Спит. Доктор Брюньйон говорит – всё срослось отлично. Шахтёрский организм – могучий, выдержал. Шамрай разделся и лёг, всем сердцем почувствовав наслаждение покоя. Жаклин присела рядом.
– Мы скоро поедем в Париж, – сказал Шамрай.
– Почему же не отвечает посольство?
– Просто там, скорей всего, некому это сделать. Во Франции тысячи, если не десятки тысяч таких, как я, и все пишут письма и запросы.
– Может быть, конечно, и так. Что же будет дальше?
Жаклин сидела на постели, охватив руками колени, и смотрела куда-то далеко-далеко, сквозь стену, за Терран, за горы, будто хотела увидеть что-то своё, только ей известное и нужное.
– Дальше будет победа, и мы уедем в Донбасс…
– А отец?
– Возьмём и его.
– Нет. Он не поедет… Вот ты, Роман, смог бы остаться у нас навсегда?
– Я? – Роман испуганно вскинул глаза на Жаклин. – Что ты?! Там же я…
– Вот именно. И отец тоже. Для него Терран – его родина.
И Шамраю показалось, что Жаклин не договорила что-то, умолчала, чтобы не расстраивать его. Он понял это по её грусти, на той затаённой тоске, что заполняла глаза, сурова сжимала её губы в те минуты, когда она, думая, что он спит и не видит её, сидела, глубоко задумавшись, и вот так же, как сейчас, смотрела куда-то далеко-далеко, будто вглядывалась в свои мысли. О чём тогда думала Жаклин?
– Послушай, Жаклин, – Шамрай взял тонкие пальцы жены в свои руки, – после победы всё станет другим, ясным и возможным. И решить тогда всё будет намного проще, чем сейчас, сидя на кровати. – И подумал, что, пожалуй, самые большие испытания для него начнутся именно тогда. Сложные и невероятные были его пути… – А пока я лучше расскажу тебе о своём первом свидании с Парижем. Представляешь: я, беглый из лагеря, и в центре Парижа, на Елисейских полях. Удивительно, правда? Тогда меня подвёз замечательный парень, весёлый, молодой. Имени его я не узнал, лишь запомнил номер машины. Удивительный номер – 123–456. Понимаешь. Все цифры подряд, такой номер трудно не запомнить. Как ты считаешь, после победы его можно будет найти?
– Пожалуй, можно. Если он остался жив.
– А кузнеца Жерве?
– Это проще. О чём ты думаешь?
– О будущем.
Медленно тянулась трудная, голодная зима, последняя зима войны. Возле Террана наконец начали работать шахты.
– Скоро и я пойду на работу, – сказал как-то папа Морис. Постаревший, худой, он тосковал о. шахте.
– Тебе придётся немного подождать. Наш «Капуцын» начнёт работать только весной.
– Весна не за горами. – Подстриженные седые усики Дюрвиля воинственно топорщились. – Дождёмся!
Весна и в самом деле была не за горами. Жаклин Почувствовала её приближение с приходом первых тёплых дней, радостным пением зябликов, с весёлыми порывами шального ветра, а главное – с разительной переменой настроения Шамрая.
Из Парижа письмо всё-таки пришло. Длинный плотный синий конверт. Раскрыть его Шамрай не мог, так дрожали руки. Пришлось оторвать уголок зубами. На белом листке бумаги размашисто написанные слова:
«Очень рад, что ты объявился. Выздоровеешь – приезжай в Париж, в посольство. Обнимаю. Николай Монахов».
– Кто он? – спросила Жаклин после того, как взволнованный Роман перевёл ей содержание письма.
– Однокашник. Мы с ним вместе военное училище кончали. В понедельник мы едем в Париж. Теперь всё будет хорошо. Я уже здоров. Хватит. Больше ждать не могу.
Она взглянула в лицо мужа, поняла: изменить ничего нельзя, коротко вздохнула и согласилась.
– Хорошо, в понедельник мы едем в Париж.
Это было начало апреля. Американцы продвигались к Эльбе. Англичане стремились как можно быстрее занять Рур. Французы уже прошли через Люксембург. Черты близкой победы вырисовывались всё определённее и ярче. А где вы все были, когда мы истекали кровью под Сталинградом? А? Теперь все спешите протянуть руки к пирогу, чтобы отхватить себе кусок пожирнее… Нет, Шамрай не мог больше оставаться в Терране. Жаклин поняла это очень хорошо…
Когда они отъехали, на перроне вокзала, разбитого немецкими снарядами, иссечённого автоматными очередями, стоял только Морис Дюрвиль. Но ведь это не навсегда он, Роман, уезжает из Террана, это всего лишь разведка. Они с Жаклин скоро вернутся и тогда вместе решат, что будут делать дальше. Как будут жить. Тогда соберутся шахтёры в бистро у тётушки Мариэтт и хорошенько выпьют за их здоровье. Это, собственно говоря, и будет свадьба Жаклин и его, Романа. Таков план. Но как удастся его выполнить?
Казалось, всё поднялось, стронулось с моста во Франции.
Через Терран на Париж идут и идут военные эшелоны. Трудно пробиться по этой забитой составами дороге пассажирскому поезду.
Когда же он наконец подошёл, на перроне поднялся такой шум и гам, что прощальные слова папы Мориса было невозможно услышать. Тяжело опираясь на свою палку и плечом, будто ледокол, разрезая толпу, Шамрай проложил дорогу в вагон для Жаклин, протиснулся вслед за ней сам и обернулся.
Морис Дюрвиль стоял на перроне, и его глаза, сухие и встревоженные, не отрывались от лица дочери. Поезд медленно тронулся с места, и Дюрвиль поднял руку, в последний раз взглянул на Шамрая. На всю жизнь запомнил этот взгляд Роман. Всё было в этом взгляде: тревога и надежда, горе и радость, а главное – наказ, строгий наказ: что бы ни случилось – беречь Жаклин.
Поезд пошёл быстрее, и быстрее поплыли мимо окон вагона станционные постройки, перрон и стоявший на нём Морис Дюрвиль – папа Морис. Вот он ещё раз взмахнул рукой, всё-таки превозмог себя, улыбнулся…
– До скорого свидания!
Шамрай тоже с трудом нашёл свою, куда-то вдруг запропастившуюся улыбку…
До Парижа поезд шёл долго. В тесных душных вагонах люди разговаривали, спорили, иногда дело доходило чуть ли не до драки. Экзотическая гимнастёрка Шамрая вызывала горячий интерес. Советский офицер! Он-то и должен всё знать. С ним хотели выпить и поговорить. Вокруг толпилось много всякого народа от беженцев, возвращающихся домой, до обыкновенных спекулянтов, и все они говорили только о победе.
Со всех сторон слышались самые невероятные слухи: предположение, что Гитлера захватят в плен и в железной клетке привезут в Москву, на Красную площадь, было, пожалуй, не самое фантастическое.
Расстояние, которое обычно проезжают за два часа, поезд преодолел за день. На каждой станции его обгоняли военные эшелоны.
В Париж Жаклин с Шамраем приехали под вечер, когда уже садилось за горизонт апрельское, ещё не горячее солнце.
– Мы сразу же в посольство, – сказал, волнуясь, Шамрай, – Я всё разузнал. Рю Гренель. Ехать в метро до станции Рю дю Бак.
– Может быть, сначала заедем в отель. Я устала.
– Ты не знаешь, какой отель может быть рядом со станцией Рю дю Бак?
– Тебе хочется остановиться поближе к посольству?
– Откровенно говоря, да.
Перед тем как спуститься в тёмную, душную, наполненную людьми станцию метро, Шамрай приостановился и взглянул на Париж. Гигантский город казался озабоченным чем-то своим, неведомым Роману, безразличным к нему, Шамраю, чужим. На мгновение стало страшно. Там, в Терране, его знали все. Здесь же – не знал никто. Как отнесутся к нему в Париже?