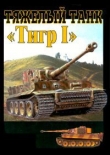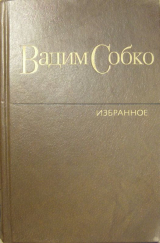
Текст книги "Избранные произведения в 2-х томах. Том 2"
Автор книги: Вадим Собко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 46 страниц)
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
До Мориса Дюрвиля он не дошёл всего лишь пятнадцать километров. Поймали его на четвёртый день, именно тогда, когда стрелка, установленная на развилке шоссе, указывала: «Terran – 15».
Местность здесь заметно отличалась от Лонваля, была устлана пологими холмами, похожими на застывшие волны. До моря ещё было далеко, но об океанском просторе здесь напоминал временами налетающий, влажный, порывистый ветер.
Но что это? Впереди, над просторной долйной стали вырисовываться чёрные конусы терриконов. Хорошо знакомые, совсем такие же, как в родном Донбассе. Уже видны и шахты, линии электропередач. Вот и ощущается с детства близкий, неповторимо едкий запах угля.
– Ты пришёл в шахтёрский край, – обрадованно сказал сам себе Шамрай. – Тут тебе наверняка удастся найти друзей.
Шамрай с той страшной минуты, как попал в плен, был одинок. Правда, встречались хорошие люди, товарищи по несчастью, но близкого друга, которому можно было бы полностью доверить сокровенную думу, среди них пока не попадалось. И вот именно тогда, когда эта желанная надежда проснулась в сердце лейтенанта, из небольшого лесочка, раскинувшегося рядом с шахтёрским посёлком, выехал французский полицейский, сердито посмотрел из-под широкого козырька на Шамрая, мгновение поколебался, не зная, остановиться ему или проехать. Потом решительно опустил ногу с педали велосипеда на землю и потребовал:
– Папье!
Этого проклятого слова больше всего боялся Шамрай. Документы! Ну, какие у него документы?! Нарукавная повязка военнопленного до сих пор была его единственным документом. Она и так удивительно долго служила ему верой и правдой. Всякому везению всё-таки рано или поздно приходит конец.
Вот он и наступил. Скверно и несправедливо устроен мир. Всё ужасное и кровавое, что пришлось пережить Шамраю до сих пор, казалось совсем незначительным в сравнении с этой последней бедой.
Лейтенант подавленно усмехнулся, непонимающе развёл руками.
Полицейский насупился, посмотрел на Шамрая маленькими пронзительными глазками, положил короткую в тёмных пятнах и редких чёрных волосках руку на кобуру пистолета и раздражённо повторил:
– Папье!
Полицейский поссорился с женой, и потому в это утро свет ему был не мил. Эта красотка заявила, что из полиции ему нужно бежать, пока не поздно: бошей скоро разобьют. А куда бежать? К кому? Он и сам отлично видел: немцы уже не те, что были, спиной повернулась к ним фортуна. Во Франции их осталось совсем немного – все тылы старательно вычесаны. В газетах пишут: Гитлер на Восточном фронте готовит решающий удар, но после Сталинграда ему уже никто не верит. Вот и болтает теперь что в голову взбредёт эта черноглазая полуфранцуженка-полуиспанка. Раньше молчала, будто воды в рот набрала, а теперь, смотри, разбушевалась. Если бы не было этой неприятной ссоры, полицейский, может быть, проехал бы мимо Шамрая, не обратив на него внимания.
На свою беду, Шамрай подвернулся ему под руку.
– Папье! – в третий раз крикнул полицейский, сердито посматривая чёрными, как буравчики, глазами.
– Нету, – простодушно признался Шамрай.
– Иди, – приказал полицейский, вынимая пистолет. – Руки назад.
Шамрай послушно заложил руки за спину и пошёл: с пистолетом шутки плохи. Неужели не найдётся какой-нибудь возможности убежать по дороге?..
Теперь, когда, казалось, он был у цели, попасть о руки гестапо просто обидно и невероятно.
А получить пулю в спину?
В том, что его арестовал французский полицейский, а не гестаповец, плохое утешение – не всё ли равно, все они связаны одной верёвочкой. Гестапо или французская полиция – какая разница.
Полицейский попробовал заставить своего пленного идти впереди велосипеда. Это оказалось нелёгким делом, потому что в таком случае приходилось ехать медленно и всё время сохранять равновесие. Быстрее передвигаться пленный не мог. Пришлось слезть с велосипеда и идти пешком, а тут у него, как назло, нестерпимо разболелись мозоли на правой ноге, стали печь, словно раскалённые угли. Бес его дёрнул задержать этого пленного. Пусть бы шёл себе на все четыре стороны. Такого мнения, как оказалось, придерживалось и начальство.
– Для какого дьявола ты его привёл? – раздражённо встретил их начальник полиции инспектор Курбе.
– У него нет документов, – демонстрируя своё служебное рвение, заявил полицейский.
– Опять канитель, – откровенно недовольно пожал плечами начальник полиции. – Ну хорошо, раз привёл, пусть остаётся… А вообще, Франсуа… – «Совсем не обязательно каждого пленного тащить в полицию, – хотел сказать инспектор. – Пусть ими занимается гестапо, если имеет такую охоту». Но он промолчал: нельзя расхолаживать подчинённых, пусть стараются. И тут же добавил – Хорошо, посади его пока что в камеру. Потом разберёмся.
И зевнул откровенно сладко. Прошлую ночь он дал прикурить, есть что вспомнить. Вчера из Парижа приехала мадам Прето, его хорошая и давняя подруга, настоящая аристократка. «Настоящая аристократка» на этот раз имела намерение закупить овощей если удастся, побольше мяса. В голодающем Париже на такой операции можно было прилично заработать. Он, Поль Курбе, обещал ей помочь и слово своё, конечно, сдержит. Они давно знакомы, и в этот раз встретиться им было особенно приятно.
Сейчас мадам Прето сладко спит в инспекторской спальне, и старая Полет, экономка, недовольно слушает её тонкий аристократический храп. Потом Полет целых две недели будет злиться, и жизнь бедного Поля Курбе превратится в кромешный ад. Но что поделаешь? За любовь надо расплачиваться. На войне, как на войне. А пока, пожалуй, не мешало часика два вздремнуть. Ничего, служба подождёт.
Поль Курбе так и сделал, предупредил часового, что часа два его не будет, запер дверь и, опустившись в своё глубокое кресло, склонил голову к плечу и сразу заснул.
А Шамрай в это время внимательно, стараясь не пропустить ни одной мелочи, знакомился со своей камерой. Да, это не тот подвал, откуда ему недавно удалось бежать, это настоящая камера с надёжной решёткой и глазком в дверях. До чего же скверно и несправедливо устроен мир! Ему захотелось, как в детстве, уткнуться лицом в тёплые колени матери и заплакать, сладко и горько до отчаяния. Но уже давно у него нет матери, умерла за три года до войны. Схоронили её в Суходоле, на кладбище у самого Днепра, мимо которого во мраке ночной реки перемещаются красно-зелёно-белые огоньки пароходов…
А вот воспоминание о прикосновении к её тёплым коленям, к сухим, лёгким рукам у него не умирает и, видно, будет жить вечно. Выходит, что человек живёт две жизни. Одну свою собственную, а вторую – в воспоминании других, и эти люди между собой не всегда бывают друзьями… А вот его, Шамрая, теперь никто не пожалеет. Души людей стали похожи на ломти чёрствого ячневого хлеба. Что ж, идёт война. Шамрай так и задремал с ощущением этой горькой мысли и сладким воспоминанием о прикосновении ласковых материнских рук.
Часа через два без всякой видимой причины Шамрай проснулся, как от толчка, с тревожно бьющимся сердцем. Спустил ноги с койки, огляделся. Кругом тишина, а ощущение покоя не приходило. Посмотрел в зарешечённое окно. Солнце светило по-весеннему ярко, на улице стоял апрель. Окно, пожалуй, выходило на запад, хорошо видно только освещённые солнцем верхушки деревьев.
Отчего он проснулся? Ещё раз оглядел камеру и понял.
В глазок в двери кто-то пристально смотрел на него.
Ну что ж, странного в этом ничего нет – хотя прямо скажем: приятного мало чувствовать на себе взгляд невидимого человека, скорее всего, твоего врага.
Шамрай демонстративно повернулся спиной к дверям.
Прошло минут пять. Потом в замке сухо, как сломанная ветка, щёлкнул ключ. Двери приоткрылись. В камеру вошёл высокий, сухощавый, хорошо выбритый старик, с орлиным носом и аккуратным пробором в седых, коротких волосах.
– Выходите, – сказал он неожиданно по-русски.
– Вы кто? – Шамрай резко обернулся к нему.
– Я переводчик. Выходите.
В коридоре у двери маячила тень полицейского.
– Вы эмигрант?
– Да. Советую вам поспешить. У меня мало времени.
– На тот свет я всегда успею, – в тон ему ответил Шамрай.
– Вы, оказывается, оптимист, – заметил переводчик. – Мне приходилось видеть людей, для которых тот свет казался светлой мечтой.
Фраза прозвучала двусмысленно и угрожающе. «Кто он?» – подумал Шамрай и решил: враг, конечно, нет никаких оснований считать его другом.
Они вышли в коридор. Впереди переводчик, за ним Шамрай, потом полицейский.
«Удивительная походка и фигура», – подумал Шамрай, разглядывая, как мерно, не торопясь шагал по коридору переводчик, гордо и прямо держа корпус и небольшую, ещё и сейчас красивую голову.
– Вы офицер? – спросил Шамрай.
– Да, императорской гвардии Преображенского полка поручик Шувалов, – ответил переводчик, не оглядываясь.
«Вот теперь уж я определённо пропал», – подумал лейтенант.
Они поднялись на второй этаж. Инспектор Курбе, сидя за столом, читал газету. Он успел не только выспаться, но и принять душ. В газете писали, что немецкие войска из стратегических соображений немного выровняли линию фронта на Таманском полуострове. А в его доме сейчас на широкой кровати нежилась весёлая и хорошенькая мадам Прето. Жизнь, оказывается, была полна драматических противоречий; что ж, от этого она лишь становилась прекрасней.
– Ну, откуда ты убежал? – грозно спросил инспектор Курбе, как только Шамрай предстал перед ним. Шувалов перевёл.
«С переводчиком, оказывается, удобно, – подумал Роман, который и сам понял вопрос. – Буду иметь время подумать над ответом».
– Из Бельгии.
– Лагерь?
– Льеж.
– Как перешёл границу?
– Пешком.
– Вы его обыскали?
– Да, – ответил Шувалов. – Кроме этой вещички, у него при обыске ничего не обнаружили.
И переводчик осторожно положил на стол хитроумным узлом завязанный гвоздик.
– Что это такое?
– Да так, безделушка, – ответил Шамрай после того, как ему перевели вопрос комиссара. – Набивать, и чистить трубку.
– У тебя есть трубка?
– Нет. Это память о моём друге. У него когда-то была трубка.
– Хорошо, – Курбе повертел в руках гвоздик, ничего подозрительного не увидел, осторожно положил на стол. – Когда же ты убежал из лагеря?
– Неделю тому назад.
– Твоё имя?
– Роман Шамрай.
– Ты лейтенант?
– Да.
– Можешь выбросить свой воротник с петлицами. В вашей армии уже ввели погоны.
Шамрай промолчал. Неужели полицейский хочет затеять дружеский разговор о смене формы в Красной Армии?
– Чем же ты питался всю неделю?
– Чем придётся, – ответил Шамрай.
– Что значит «чем придётся»?
– Просил милостыню. В одном месте позаимствовал без отдачи бутерброд, – соврал Шамрай, на самом же деле он просто голодал.
– Украл? – переспросил Шувалов.
– Почти.
– Так отвечать нельзя, – сказал переводчик. – Вас отдадут под суд за кражу и сошлют на каторжные работы. За попрошайничество тоже.
Шамрай удивлённо посмотрел на Шувалова:
– А что же говорить, чтобы не сослали?
– Говорите: питался сухими прошлогодними ягодами и грибами.
Шамрай послушно повторил. Шувалов перевёл. Инспектор одобрительно кивнул.
– Хорошо, – сказал он. – Немцы его. не разыскивают?
– Нашим победителям не до нас с вами и тем более не до пленных, – многозначительно ответил Шувалов.
– Ха! – воскликнул инспектор. – Это, чёрт возьми, правда. Им есть о чём подумать. Ну вот что, лейтенант: если тебя ещё раз встретят мои парни, подвесим на перекладине. Запомни. Инспектор Поль Курбе с вами шутить не собирается. Меня не проведёшь.
Шувалов перевёл.
– Переведите ещё раз: меня зовут Поль Курбе, – приказал француз. – Ну вот, теперь всё ясно. Отправьте его в Терран, в лагерь. Пусть работает в шахте во славу нашей будущей победы. Ну, пошёл прочь отсюда!
– Можно мне взять гвоздик? Это память о добром друге, – вдруг осмелился спросить, не веря в успех, Шамрай.
Инспектор удивлённо посмотрел на него, потом сказал:
– Мы, французы, дружбу уважаем. Бери. А теперь чтобы и духу твоего здесь не было!
Вместе с Шуваловым и полицейским они вышли в коридор.
– Вы хорошо запомнили его имя? – спросил Шувалов.
– Да.
– Ему это очень хотелось. – В серых холодных глазах переводчика вспыхнула усмешка и погасла.
– А как же. Вам тоже хочется, чтобы я запомнил ваше имя?
– Нет. Мне всё равно.
– Тогда почему же вы помогли мне?
– Не знаю. Может, потому, что вы свято храните память о своём друге. Вы считаете, что я вам помог?
– Думаю, да.
– Работа в шахте не легче каторжной.
– Я уже ко всему привык.
Какой-то странный белогвардеец. Действительно, почему он помог Шамраю? Что это за намёк на память о друге? Простое совпадение. Но не исключено и что-то другое…
Нет, ничего другого. Неужели ты можешь допустить, что этот гвардейский офицер Шувалов связан с обыкновенным шахтёром Морисом Дюрвилем? Смешно подумать об этом. К тому же, он работает в полиции. Туда случайных людей не берут. Шамрай имел возможность, и не одну, убедиться в этом. Как видно, дела их плохи, и крысы бегут с корабля.
– Желаю вам удачи, – сказал на прощание Шувалов. – Только не вздумайте меня благодарить. Я ничего не сделал такого, что стоило бы благодарности. Может, даже наоборот… Желаю удачи!
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Лагерь Терран, куда в тот же день доставили Романа Шамрая, имел свою историю. Строили его не для советских военнопленных или непокорных французов, а для немцев. В 1939 году Гитлер напал на Польшу, и Франция с Англией объявили Германии войну. Остряки назвали её «странной войной». Тогда на фронте никаких военных действий не велось и самой большой заботой французского командования было хоть чем-нибудь занять своих солдат, поэтому единственным полем сражения для них было футбольное поле. В то время Англия, и Франция могли одним ударом поставить Гитлера на колени, их силы значительно превосходили здесь силы вермахта, но они не сделали этого. Ликвидация гитлеровской армии не входила в их план. Куда привлекательней для них было бы уничтожение гитлеровцами Советского Союза.
Чтобы показать всему свету размах подготовки к военным действиям, французское командование покрыло свою страну сетью лагерей, предназначенных для будущих немецких военнопленных. Захватив Францию, гитлеровцы с большой пользой для себя использовали эти сооружения, собрав туда пленных чуть ли не всех национальностей Европы.
В такой лагерь и привезли Шамрая. Француз-полицейский положил перед заместителем начальника лагеря немцем Лаузе папку с протоколом допроса, взял расписку и ушёл.
Капитан Лаузе, невысокий сухощавый мужчина средних лет с брезгливым выражением тонких губ, был из тех неудачников, которые из-за ранения в самом начале войны не получили ни одной награды и были направлены проходить дальнейшую службу в глубоком тылу. Такие офицеры всегда считали себя самыми талантливыми и потому несправедливо обойдёнными по службе. Тыловую работу они презирали и на фронт не особенно рвались. Иметь с ними дело – мука, потому что амбиции у них через край, а возможностей – кот наплакал.
Капитан Лаузе принял дело Шамрая, осторожно листал документы.
– Убежал? – капитан наконец взглянул на Шамрая.
– Убежал, – ответил Шамрай.
– Куда шёл?
– В лагерь Терран. У вас лучше кормят.
– Откуда это известно?
– Люди говорят.
«Поразительно, – подумал капитан Лаузе. – Если о нашем лагере говорят, что здесь лучше кормят, что же тогда делается в других?»
– Ты лейтенант?
– Да, – Шамрай невольно дотронулся до своих петличек.
– В вашей армии уже ввели погоны, – сказал капитан.
«Почему их всех это интересует?» – удивился Шамрай, но не сказал ни слова.
Капитан Лаузе мгновение помолчал. Сосредоточенно хмуря брови, он давал понять, что занят решением сложных государственных проблем. Потом, всё так же хмуря брови, он медленно сложил документы, завязал тесёмки у коричневой бумажной папки и так же медленно, протянув указательный палец, нажал кнопку звонка. Каждую мелочь капитан Лаузе делал значительно, торжественно, внушительно.
Двери приоткрылись, и на пороге комнаты появился писарь, уже пожилой человек, отяжелевший и седой, один из тех, кого нельзя было послать даже во фронтовые тылы.
– Скорика! – приказал капитан.
Писарь что-то буркнул себе под нос, тяжело повернулся в своей мешковатой форме и вышел. Лаузе откинулся на спинку кресла и стал внимательно рассматривать Шамрая. В действительности, пленный не интересовал его. Думал капитан о Восточном фронте, где скоро должно было начаться новое наступление имперских войск: «последнее победоносное наступление», как называли его между собой офицеры, думал и об Африке, где англичане крепко поколотили генерала Роммеля. На сердце у Лаузе было скверно и тревожно, и невольно вспомнился маленький городок Реехаген, расположенный несколько южнее Берлина. Там жили его жена Матильда и шесть дочек. Почему у него всегда рождались только дочки? «Вы не подарили фюреру ни одного солдата», – сказал врач-гинеколог, когда родилась последняя. Трудно было понять, шутил он или обвинял капитана Лаузе в неуважении к фюреру. А вообще жизнь сложилась несчастливо, всё было в ней нескладно: и вшивая фамилия[1]1
Лаузе – по-немецки – вошь.
[Закрыть], и дочки, и тот роковой осколок мины, который под Львовом пробил капитану лоб. Вместо почестей, фанфар, торжественных церемоний и видной государственной деятельности ему досталось это проклятое таловое болото и сознание своей незначительности, а может, и бессмысленности всей жизни. Эти мысли были далеко не безопасны. Не дай бог, чтобы кто-нибудь догадался о них.
Капитан подозрительно взглянул на Шамрая: не догадался ли пленный. Нет, стоит как вкопанный, чувств своих не выражает. Недочеловек, представитель низшей расы, а смотри-ка – глаза голубые…
Немец вдруг разозлился. У него у самого были тёмные, блестящие, навыкате глаза. О том, что в его жилах не течёт еврейская кровь, ему в своё время пришлось упорно доказывать. Подлая и унизительная процедура… И сразу захотелось придраться к этому голубоглазому пленному. Может, послать его в карцер или ещё как-нибудь проявить свою власть? Но осуществить своё желание Лаузе не успел: в дверь постучали.
– Войдите! – крикнул капитан. Голос его хрипло сорвался и пришлось повторить крик громче и уже басом: – Войдите!
Шамрай взглянул на вошедшего и удивлённо отпрянул. Перед ним стоял молодой и красивый парень, в форме советского командира, только без петлиц. Широкий ремень туго схватывал тонкую талию. Гимнастёрка расправлена складочка к складочке. Сапоги начищены. На голове пилотка, правда, без звезды. Лицо продолговатое, чистое, умные тёмные глаза посматривали весело и немного лукаво. Прямой, пожалуй, немного длинноватый нос и будто нарисованные полные красивые губы. Чуть загоревшие, хорошо выбритые щёки усиливали впечатление его внутренней силы и подтянутости.
– Господин капитан, блоклейтер Скорик по вашему приказанию явился, – лихо доложил он, голос его в тишине комнаты прозвучал, как басовая струна виолончели.
Взгляд Лаузе, искоса брошенный на вошедшего, выражал презрение и откровенную зависть к его молодости, здоровью, силе: у этого парня, конечно, будут рождаться сыновья.
– Вот пополнение в ваш блок, – сказал капитан, указывая на Шамрая.
Скорик ловко, всем корпусом повернулся, и Роман только теперь заметил, что в его правой руке, как длинная змейка, свисал в четыре жгута сплетённый ремённый хлыст. На его тонком кончике тяжело круглилась свинцовая пулька. «Если ударить с размаху – рассечёт, как добрая сабля», – подумал Шамрай.
– Откуда? – впиваясь глазами в лицо Шамрая, весь напряжённый и собранный, спросил Скорик.
– Из Донбасса.
– В шахтах работал? Где именно?
– Работал и в шахте. Смолянка, возле Сталино. В Суходоле работал на металлургическом заводе…
– Сталевар?
– Подручный.
– Лейтенант или самозванец?
– Лейтенант.
– Какое окончил училище? Когда?
– Киевское, ускоренный курс. Перед самой войной.
– Ну что ж, пойдём. Посмотрим, что ты за птица. Ты переходишь в моё подчинение. Блок номер семь. Я блоклейтер Павел Скорик. Запомнил или повторить?
– Запомнил.
В душе Шамрая Скорик сразу вызвал глухую, лютую ненависть, чем-то напоминавшую боль старой, почти забытой раны.
– Пойдёшь работать в шахту, – заявил блоклейтер.
– Хорошо, – согласился Шамрай.
– А теперь вы, оба, прочь отсюда, – брезгливо проговорил капитан Лаузе, к удивлению Шамрая, поставив на одну доску и его, и Скорика.
Блоклейтер вытянулся, звонко пристукнул каблуками, в глазах застыли преданность и готовность выполнить любой приказ.
– Вон! – уже раздражаясь, приказал капитан.
Они прошли через комнату дежурного на широкий, залитый горячим солнцем двор. Бараки выстроились в два ряда, как дисциплинированные солдаты. Все лагеря на свете, как видно, удивительно похожи один на другой.
Лагерь Терран не был исключением. Двадцать бараков, апельплац, штабной корпус, своя электростанция и вросшая в землю вонючая кухня. Вокруг надёжная колючая изгородь на железобетонных столбах. Правда, электрического тока высокого напряжения в проводах нет: дороговато обходилось топливо для электростанции.
Они вошли в смрадную темноту барака. Пленные лежали на нарах.
– Больные? – спросил Шамрай.
– И ты скоро так же заболеешь, – ехидно усмехнулся Скорик. – Отдыхают после смены. Мы здесь не баклуши бьём, а работаем, чтоб ты знал. Завтра пойдёшь в первую смену в шахту. Бригадир – Колосов.
– Кто? – переспросил Шамрай, не скрывая своего удивления.
– Колосов. Ты знаешь его?
– Колосовых много на свете…
– Ну, ладно, отлёживайся до завтра, блаженствуй и помни мою доброту.
– Хорошо, запомню, – сказал Шамрай. Ответ прозвучал двусмысленно, но Скорик не обратил на это никакого внимания.
На лоснящихся, сотнями тел отполированных нарах Роман вытянулся, как на самой мягкой перине. Ну, что ж, он всё-таки в Терране, и в кармане лежит гвоздик – пароль. Ещё ничего не потеряно. И вполне возможно, выпадет случай повидаться с Морисом Дюрвилем. Поживём – увидим.
На верхних нарах кто-то зашевелился. Послышался шёпот:
– Откуда, браток?
– Из Бельгии.
– Худо там, в Бельгии?
– Везде одинаково.
– Это верно.
Тот невидимый замолчал, шорох ещё слышался некоторое время: человек с трудом поворачивался на другой бок, потом всё стихло.
– Когда ужин? – спросил Шамрай.
– В семь. Позовут. К такому ужину обязательно позовут. А ты ещё, видно, сильный, – сказал сосед с верхних нар. – Мы здесь все ослабели.
– Послушай, друг, меня в шахту на работу назначили. Бригадир Колосов. Где он сейчас? В шахте?
– Нет, они недавно вернулись. Была смена. Тут две смены. По двенадцать часов. Ночная и дневная.
– А ты тоже в шахте работаешь?
– Нет, я слабый.
– Понятно. А где лежит Колосов?
– Не буди его, а то заругается.
– Я только посмотрю на него.
– Вон там, в углу.
Шамрай встал, осторожно протиснулся между нарами. Недалеко от окна, на нижних нарах навзничь лежал бородатый человек. Грудь его поднималась тяжело, надсадно, видно, лёгкие были забиты угольной пылью.
Шамрай остановился возле него, несколько минут смотрел в лицо, вызывая в памяти затуманенные жестоким временем черты лица Колосова.
Нет, вроде не он! А как славно было бы встретить старого надёжного знакомого, можно сказать, друга. Это самое большое в жизни счастье – иметь друга.
Шамрай хотел было отойти от нар, как вдруг спящий, поворачиваясь на бок, открыл глаза. Взгляд Шамрая, тяжёлый, полный ожидания, разбудил его.
Колосов узнал лейтенанта и даже не удивился.
– Смотри-ка, Шамрай, – сказал он. – Как ты здесь очутился?
Да, это был Колосов! Артиллерийский капитан Иван Колосов и никто иной. На этот раз Шамраю повезло.
– Ну, рад видеть тебя живым, – улыбнулся Колосов. – Откровенно говоря, я давно по тебе справил панихиду. А оказывается, жив ещё. Вот и отлично!
Такой доброй улыбки лейтенант не видел уже давным-давно. Не сломили, оказывается, лагеря капитана Колосова, не утратил он способность улыбаться. Ну а сам ты, Роман, можешь вот так же расцвести доброй улыбкой?
– Меня к тебе в бригаду назначили.
– Добро, – кивнул Колосов. – Я рад. А теперь рассказывай, где был, что видел. Садись-ка вот сюда, со мной рядышком. И говори потише. С фронта нет новостей?
– Будто бы затишье там…
– Это перед бурей. Ох, и погонят их скоро! Не за горами это золотое времечко! Не будь я Иван Колосов, Ну хорошо, рассказывай.
Шамрай поведал капитану свою горькую повесть, рассказал обо всём, умолчав только о памятнике Ленину.
Когда дошёл до гестапо и до своего побега с наручниками на руках, Колосов взглянул на него пристально, глаза в глаза, словно хотел спросить о чём-то, но не спросил, промолчал. О подарке Клода Жерве Шамрай тоже не рассказал – неизвестно, кто ещё слушает его, кроме Колосова.
– Ну вот, теперь я здесь, – закончил свою историю лейтенант.
– Тысяча и одна ночь, – проговорил Колосов. – Впрочем, удивляться нечему, у нас у каждого такая жизнь. Я уже три лагеря сменил. Как в сказке: чем дальше, тем страшнее. Шахеразаде при всей её фантазии такое и не снилось. Ты, по-моему, за пояс заткнул всех сказочничков. Я многого наслышался в лагерях, но чтобы из гестапо бежали в наручниках! Такое впервые,
– Ты мне не веришь?
– Всякое бывает на свете, но в такое поверить трудно.
– Я бы мог тебе просто не рассказывать об этом, – обиделся Шамрай.
– И то правда. Врать тебе вроде нет смысла. Но и поверить трудно… Хотя, браток, иной раз жизнь такие сюжетцы подбросит, что только ахнешь, – задумчиво сказал Колосов, подумав: «Правда – она, как шило в мешке, не утаишь: как ни прячь, всё равно наколешься. Рано или поздно». И, не дожидаясь ответа Шамрая, деловито произнёс: – Завтра в шахту пойдём.
– Мне не привыкать.
– Значит, шахтёр опытный. Это хорошо. Работа здесь, лейтенант, каторжная. За двоих, а иногда и за троих.
– Почему?
– Так… – неопределённо ответил Колосов.
Протяжный и жалобный звон, напоминающий женский плач, раздался над лагерем. Кто-то не спеша, медленно, сам прислушиваясь к своей тоскливой музыке, ударял по обрубку стального рельса.
– Зовут на перекличку, потом ужин, – сказал Колосов.
В эту минуту Павел Скорик появился в дверях и зычно крикнул:
– Сегодня всеобщая перекличка. Всех – хворых, слабых, симулянтов и честных пленных – на апельплац! Чтобы в бараке ни одного человека не осталось.
– Будет сегодня спектакль, – вздохнул Колосов, – Давай-ка вот этому другу поможем. Сам он не дойдёт…
– Кому?
– Сержанту Джапаридзе. Чудесный парень, – сказал Колосов, показывая на верхние нары. – Вставай, Гиви.
– Не могу, – донеслось с нар.
– Можешь! – повысил голос Колосов.
– Оставь меня, – прохрипел Джапаридзе. – Пусть убивают.
– Вставай, вставай, я тебе говорю!
И вдруг, словно охваченный лютой ненавистью, Колосов бросился к Джапаридзе, сдёрнул его с верхних нар, тряхнул, как тяжёлый куль, поставил на ноги.
– Можешь стоять?
– Попробую…
Колени сержанта подкосились, он рухнул бы на пол, не поддержи его Колосов за плечи.
– Ничего, сейчас устоишь. Шамрай, помоги.
Роман подошёл с другой стороны, взял сержанта под руку, и они втроём вышли из барака на апельплац. Неожиданно вспомнилось, как совсем недавно, всего несколько дней назад, Клод Жерве с сыном вот так же выносили Шамрая из каменного дома Жана Лиэрваля. Тогда в руки Шамраю впивались кандалы крупповской стали… Да, быстро бежит время. Интересно, на что перековал те кандалы Жерве?
На апельплац из всех бараков собирались оборванные, бледные, похожие на привидения пленные. Измученные, истощённые люди медленно и тихо ступали по сухой, выбитой ногами земле.
«Одно хорошо: здесь есть друг. Здесь есть Колосов, – решил Шамрай, но тут же его начали мучить сомнения. – Ты думаешь, он твой друг? Но почему тогда он не поверил тебе? Ведь он тебе не поверил. Ты заметил это? Да, заметил. Но в этом нет ничего удивительного. Я тоже, наверное, не поверил бы. Подожди, не горячись, дай срок: придёт время, поверит».
– Стройся, – прозвучал над площадью молодой сочный бас Павла Скорика и, как эхо, покатился всё дальше и дальше: это блоклейтеры других бараков повторяли его приказ.
– Равняйсь! Смирно! По порядку номеров… – вдохновенно, словно на параде, командовал Скорик.