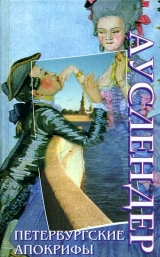
Текст книги "Петербургские апокрифы"
Автор книги: Сергей Ауслендер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 53 страниц)
– Я думаю, мы можем скоро удрать отсюда. Ведь сегодня поедем в «Альказар».{37} Да, помните свое обещание. Знаете, вчера, когда вы уехали, Алешка запустил стаканом в Таньку-Хорька. Потом мы все оказались в «Ницце», и в одиннадцать часов я вез Семена Васильевича по Невскому. Он из извозчика выскакивает, все требует, чтобы мы ехали осматривать Кронштадт, а Танька сзади едет на другом извозчике и ревет в голос. Такой скандал, как нас в часть только не забрали?
– И заберут, дождетесь с вашими хулиганами, – промолвил студент.
– Ах, уж оставьте. Я бы с тоски издох без них. Уж не с этими ли мамашами и папашами предложите вы мне вести эстетические разговоры, – засмеялся Юнонов.
«И хочется спросить, откуда пришел к нам этот прекрасный певец светлой, радостной, освобожденной от всякой тягости, торжествующей плоти», – закончил свою речь Ивяков.
– Ну, пойдемте же в «Альказар», – шептал за Мишиной спиной Юнонов. Миша невольно оглянулся и в упор посмотрел на Юнонова и его друга.
– Мы не знакомы, – любезно улыбаясь, сказал Юнонов и встал, – но мне показал вас как-то на улице мой друг С. Он в восторге от вашего дарования.
Миша тоже поднялся и не находил слов ответить на любезность. Несколько минут они помолчали, потом Юнонов и студент переглянулись и направились с видом заговорщиков из дому.
Мише вдруг стало скучно. Он вышел из зала в кабинет, тоже наполненный гостями.
Разглядывая незнакомые лица, Миша вспомнил, что не видел Таты, и он стал отыскивать ее. Тата в домашнем желтом платье с черной лентой на подоле и рукавах сидела в следующей комнате на маленьком диванчике за трельяжем из плюща. Рядом с ней, в кресле, сидел высокий немолодой человек в смокинге, лакированных туфлях, с надменным лицом.
Миша, не видя Таты, заглянул за трельяж и оказался лицом к лицу с ней.
– Ах, вот и вы. Я вас не видела, – радостно заговорила Тата, протянув руку, задержала его, думающего смущенно ретироваться.
– Вы не знакомы. Граф Нильский. Художник Гавриилов, – познакомила она и усадила Мишу рядом с собой на диван. Они поговорили несколько минут об оперетке Юнонова, и граф встал с еще более надменным лицом, чем раньше, раскланялся и пошел в зал.
– Знаете, этот маринованный гусь сделал мне предложение. Он богат, но я хочу быть актрисой, притом же он невозможен, – с гримасой сказала Тата, когда граф удалился. – Впрочем, так-то мне все равно, за кого идти замуж, если бы была в этом нужда, – я никого не люблю и не буду любить. Это совсем не забавно – любить; а вы как думаете? – спросила она.
– Я думаю, что это очень трудно, – серьезно ответил Миша.
– Почему трудно? Какой вы смешной, – засмеялась Тата. – Нисколько не трудно, только овчинка выделки не стоит. Гораздо веселее так, как у Юнонова: «Если ты меня полюбишь, я тебе с восторгом верю; если не захочешь ты, то другую мы найдем»,{38} – вот и все. А там клятвы, слезы, трагедии – это не для меня.
– С кем это ты флиртуешь, Татка, и опять проповедуешь свои истины? – просунув голову между плющем, засмеялся незаметно подкравшийся Мика.
– Как тебе не стыдно подслушивать, противный мальчишка, – ответила Тата. – А это, ты не узнал, это – Гавриилов; помнишь, мы в вагоне познакомились. Он такой милый, такой очаровательный.
– То-то, – смеясь сказал Мика. – Граф там губы распустил; петух петухом ходит. Я сразу понял, что тут что-то есть.
– Граф ревнует, граф ревнует, – захлопала Тата в ладоши. – Гавриилов, голубчик, позлимте графа, поухаживайте за мной, что вам стоит?
– К тому же, – подхватил Мика, – ухаживать за Татой, могу вас уверить с своей стороны, занятие столь же бесполезное, сколь и безопасное.
– Ну вот, видите. Да разве вы такой трус? Самое большее, что граф вызовет вас на дуэль. Ведь не боитесь? – смеялась Тата.
– Нет, – серьезно и смущенно пробормотал Миша.
– Вот какой храбрый и верный рыцарь, – болтала Тата и, взяв его под руку, потащила в зал, где поэты, вызываемые, как на экзамене, к столу Александром Николаевичем, по очереди читали стихи. Они потолкались в дверях залы, послушали двух поэтов, прошли мимо графа, который с надменной улыбкой разговаривал с какой-то немолодой дамой и кинул на них холодный, презрительный взгляд.
– У, как страшно! – смеялась Тата почти в лицо графу. К ним подошла горничная.
– Вот письмо, барышня, сейчас швейцар подал, – сказала она. Тата быстро распечатала конверт, пробежала записку, повторила несколько раз: – Это невозможно, невозможно, – растерянно посмотрела на свечку, морща лоб, что-то соображая, и резко повернулась к Мише.
– Простите, Гавриилов милый, что я к вам обращусь с просьбой, которая вам может показаться странной. Но ведь мы с вами друзья. Да? Так вот, это очень важное и очень серьезное дело. Если вы захотите оказать мне огромнейшую услугу и будете милым, вы не рассердитесь, не будете ничего спрашивать и никому ничего не разболтаете, и отвезете сейчас записку на Михайловскую улицу, а потом вернетесь обратно, ведь у нас до пяти часов сидят. Хорошо? Вы сделаете это? Ведь мы друзья.
– Конечно, конечно, я сейчас поеду, – торопливо ответил Миша с искренней радостью.
Пока Тата писала письмо, Гавриилов разыскал в передней свое пальто и оделся.
– Вот, пожалуйста, сделайте это и приезжайте скорее. Я вас буду очень, очень ждать, – несколько смущенно сказала Тата, подавая письмо. – Мне очень стыдно вас затруднять. Только не подумайте чего-нибудь. Это письмо касается не меня, и в моих романах не бывает таких экстренностей, чтобы посылать эстафеты по ночам.
Было очень холодно, падал сухой снег, когда Миша ехал по пустынным широким улицам, поторапливая заспанного извозчика. Что-то веселое, почти озорное охватывало Мишу. Он разыскал дом на Михайловской, позвонил швейцару, отдал записку и решил раньше чем ехать обратно пройтись по Невскому.
Еще около кафе, на тротуаре, возле Пассажа, веселая толпа обступила Мишу.
– Хорошенький мальчик, угости папироской, – говорила женщина в шляпе с розами, засыпанной снегом.
– К сожалению, я не курящий, – ответил Миша.
– Если не курящий, поедем со мной, милок, я научу, – и дама уже цеплялась за Мишин рукав и заглядывала в глаза.
– Ах, нет, нет, – оттолкнул ее Миша и ускорил шаг. Он боялся этих странных ночных женщин, хотя любопытство его и занимали они.
За Садовой стало темнее и пустыннее. Миша уже подумывал взять извозчика и ехать к Ивяковым, как встретившийся ему господин в котелке, с поднятым воротником, шедший заложив за спину руки, медленным спокойным шагом, будто он вышел на утреннюю прогулку, окликнул его.
– Это вы, Гавриилов, вот не думал вас встретить.
Миша узнал С.
– Я очень виноват, я пропустил сегодня урок, – по-ученически стал оправдываться Миша.
– Ну, вот еще. Художник не должен быть излишне пунктуален, а вам очень и очень не мешает иногда заняться еще чем-нибудь, кроме ваших этюдов. Пройдемтесь немного, если вам все равно. – Он взял Мишу под руку, и они пошли мимо едва виднеющегося сквозь снег памятника Екатерины и Аничковского дворца.
– Мне немного досадно всегда, когда я гляжу на вас – моих учеников, – заговорил С. – Все вы очень способные, прилежные, но нет в вас задора, смелости, никакого авантюризма. Художник не должен быть слишком добродетелен, мой друг. Вас, Гавриилов, я очень ценю, но и вам чего-то недостает. Вам нужно как-то проветриться, побродяжничать, попроказить и только к моим годам стать таким усердным, тихим, солидным, каким вы, наверно, еще были в люльке.
С. помолчал и потом сказал:
– Отчего бы нам не поехать весной в Италию. Денег вы немного получите, когда мы кончим этот заказ, да для путешествия в вашем положении много денег и не нужно. Из Флоренции вы попадете в Сиену, кажется, до сих пор еще ходят между ними эти восхитительные дилижансы. Живите больше в маленьких городках, каждый из них прекрасное чудо, – и С. с убедительностью, не допускающей возражений, стал говорить о путешествии как о деле решенном. Он называл гостиницы, где нужно останавливаться, церкви и музеи, которых нельзя пропустить, вспоминал кушанья и вина и под конец добавил:
– Если бы вы поехали не один и ваше путешествие имело бы хоть тень романтизма, было бы еще очаровательней. Вы бы увидели, какой расцвет искусства, чувств, мыслей наступит, когда прикоснетесь к этому волшебному кубку весны в Италии. Итак, значит, это решено, – закончил он и, посмотрев на часы, сказал:
– Однако мы загулялись. Прощайте, мой юный путешественник. – И медленно, засунув руки в карманы, он удалился.
Миша был как во сне. Он огляделся. Знакомая вывеска «Либава» чернела на красном доме напротив.
«Уехала она или нет», – подумал он, и ему стало весело, как игроку, бросившему кость.
Миша бегом перебежал Невский. Подъезд не был еще заперт, швейцар дремал в кресле.
– Госпожа Агатова, – спросил Миша.
– Оне-с уехали и оставили вам письмо, – равнодушно ответил швейцар.
Миша разорвал конверт и, подойдя к свету, стал читать: «Прекрасный призрак, я ухожу; я думала, что смогу стерпеть, но нет – черные демоны сильнее».
Миша поднял глаза на шаги. Слуга нес чемоданы, по темной лестнице медленно сходила вся в черном, под густым вуалем, Юлия Михайловна.
– Милая, прости, – бросился к ней Миша.
– Зачем, зачем опять ты пришел, – едва слышно шептала она.
– Знаешь, милая, мы едем в Италию, – захлебываясь от веселого возбуждения воскликнул Гавриилов.
– В Италию, в Италию, – как эхо повторила Агатова.
Конец второй части

Часть III
Отрадно улетать
в стремительном вагоне
От северных безумств,
на родину Гольдони.{39}
М. Кузмин

I
Работа по украшению фресками нового большого кафе,{40} взятая С. и его учениками, должна была быть оконченной к сроку. Приходилось очень торопиться, и Миша вместе с Второвым и еще несколькими молодыми художниками проводили целые дни в этих больших, отделанных белым и розовым мрамором залах.
Гавриилову С. поручил написать десять медальонов для небольшой задней комнаты, которая, по замыслу заказчика, должна была иметь вид более интимный, чем главные залы.
– Вы можете не очень стеснять свою фантазию, – говорил С. Гавриилову. – Кажется, наш патрон был бы доволен, если бы за этой комнатой создалась слава неудобной для семейных посещений, но приятной для избранных посетителей.
Он дал Гавриилову несколько советов относительно сюжетов и компоновки фресок и предоставил ему полную свободу, не желая даже смотреть на работу, пока она не будет кончена.
– Для этого кабака все будет хорошо, а вас, Гавриилов, мне хочется испытать, – сказал он.
Миша осунулся и побледнел за эти недели работы. Все, что прежде как легкие сладкие видения возникало, теперь стало мучительным и тяжелым. Он не находил ни одной улыбки, ни одной позы для любовных сцен своих картин, которые не казались бы ему грубыми и отвратительными. Он забыл нежное бесстыдство погибшей Хлои, не мог вспомнить ее улыбки, ее радостно-чувственного тела. Дни и ночи воображение Гавриилова обращалось к одному и тому же: ему становилось страшно картин, вызванных его же воображением. Он злобно стирал нарисованное и сотни раз принимал решение отказаться от задуманных сюжетов, но что-то не позволяло ему этого, что-то властно влекло к тому, что так пугало и отвращало. Миша почти не мог больше заставить себя писать Агатовой; та писала тоже реже, но каждый раз радостно сообщала о приготовлениях к путешествию.
То же чувство, которое не позволяло Мише отказаться от задуманной работы, мешало ему написать Юлии Михайловне, что все кончено и Италии, которой так боялся и которую так ненавидел он, не будет, не будет.
Это были дни тяжелого смятения; даже Николай Михайлович как-то заметил за обедом:
– Ты плохо выглядишь, Михаил. Что с тобой? Обратился бы к доктору. Челепов, у которого я всегда лечусь, очень внимательный.
Но Миша не пошел к доктору.
По вечерам, возвращаясь после дня бесполезных усилий домой, он проходил по Невскому, вглядывался в лица ночных женщин и преследующих их мужчин, вслушивался в слова бесстыдного торга и, замечая на себе чей-нибудь взгляд, бежал, будто преследуемый страшным призраком.
За неделю до срока у Миши еще не было ничего сделано. Последние дни пришлось работать и ночью. Стиснув зубы, писал Миша, стараясь не смотреть на конченное.
Накануне открытия кафе С. осматривал работы учеников. Все было убрано, ярко горели сотни ламп в пустых белых залах, украшенных причудливыми фресками. С. с художниками и хозяином обходил залы. В комнату Гавриилова зашли в самом конце. Миша бледный, как приговоренный, уже стоял у дверей, боясь сам взглянуть на свои медальоны.{41}
– Что с вами случилось, Гавриилов, – первый, подойдя к нему, заговорил Второв, – откуда эта мрачность? Я ждал наивных непристойностей в стиле Дафниса, а вы такую трагедию развели. Почему у вас все такие безобразные, отвратительные? Откуда у вас такое «неприятие мира»? Что это, отвращение аскета или кошмары обезумевшего эротомана? Где светлая чувственность ваших пасторалей? Ничего не понимаю.
– Картинки не возбудят аппетита, – сказал хозяин, не совсем будто довольный.
В день открытия кафе хозяин давал у «Пивато»{42} торжественный обед строителям и художникам. Гавриилов чувствовал себя очень плохо; весь день он пролежал в полусне, полузабытье; ужасные видения преследовали его.
В шесть часов Второв заехал за ним.
– Ну, не киснете, пожалуйста, новоявленный Гойя,{43} – весело заговорил Второв. – Я займусь вашим просвещением. Хорошая выпивка – и все как рукой снимет.
Миша через силу оделся, и они поехали.
Медленно проходил обед с тостами, шампанским и сложным обрядом обноса бесконечными кушаньями, Мишу то бросало в жар, то знобило.
За закуской Второв заставил его выпить две рюмки какой-то зеленоватой настойки, и теперь все как в тумане представлялось Мише. Он почти ничего не ел, машинально выпивал постоянно наполняемый зорким официантом стакан, весь обед не сказал с малознакомыми соседями ни слова и не слышал того, что говорилось кругом.
– За ваше просвещение и исцеление, – нагнувшись с другой стороны стола, поднял свой бокал Второв.
Миша посмотрел на него отуманенными глазами и улыбнулся, как улыбаются во сне.
Кофе пошли пить в гостиную.
С. с той же скучающей улыбкой и умным печальным взглядом подошел к Гавриилову.
– Поздравляю вас, – сказал он, взяв Мишу под локоть, – ваши картины имеют успех. Акеев написал статью о нашем кабаке и поминает вас. Но вы плохо выглядите. Устали? Когда же едете в Италию?
– Нет, нет, – пробормотал Миша.
С., будто поняв ужас Миши, крепко сжал его руку и тихо, но повелительно сказал:
– Это невозможно. Вы должны. Я много думал о вас сегодня после того, как увидел ваши картины. Вы погибнете, если не победите этого. Завтра же начните хлопотать о паспорте, а через две недели получите деньги и поезжайте, но не один, слышите, вы должны погибнуть или победить! Я много думал о вас.
Его слова становились бессвязными, он все крепче и крепче сжимал Мишину руку. Миша слушал учителя как в тяжелом бреду; на минуту Миша опомнился, взглянул на С.; тот был очень бледен и, видимо, сильно пьян, хотя ни улыбка, ни глаза не выдавали этого.
Начинали расходиться. Хозяин отозвал С. Миша был рад освободиться от него. Он подошел к группе товарищей, среди которой разглагольствовал Второв.
– Браво, Гавриилов, – устроили Мише овацию товарищи.
– Завтра весь город будет говорить о вас. Акеев умет написать.
Миша забыл, что надо улыбаться и благодарить за поздравления; он сел на диван рядом со Второвым, который ласково обнял его за плечи, и, закрыв глаза, прислонясь к спинке дивана, почти не слушал того, что говорили о его медальонах.
– Да вы заснули, друг мой, – тормошил Мишу Второв. – Пора покидать это заведение и перекочевывать в бар.
Миша от нескольких минут забытья как-то стал крепче и веселее. Не совсем твердыми шагами, как, впрочем, и все собутыльники, спустился он с лестницы.
Одевшись, они взялись за руки и, нарушая несколько тишину и порядок, прошли по Морской и Гороховой на Мойку, где близ Красного моста, небольшим садиком и скромным одноэтажным фасадом напоминая уютный барский особняк, сияет гостеприимный «Контан».{44} В небольших, ярко освещенных комнатах, с бархатными диванами у маленьких столиков, с белыми шторами на окнах, с приветливо улыбающимися прислуживающими мальчиками, с компанией гусар в расстегнутых мундирах, было что-то старомодно-уютное.
Как детей, забавляло молодых художников влезть на высокий табурет у мраморной стойки, преувеличенно громко смеяться, болтая веселый вздор, тянуть через соломинку замороженное терри-коблер,{45} перекидываться взглядами и восклицаниями с изысканно одетыми дамами в грандиозных шляпах. Monsieur Шарль покровительственно, с привычной любезностью, улыбался им и зорко следил за стаканами.
– Здравствуйте, – сказал кто-то за Мишиной спиной. Он оглянулся и не сразу узнал улыбающегося Юнонова.
– Вот вы где, виновник сегодняшнего торжества, – сказал Юнонов. – Мы только что открывали ваше кафе и любовались вашими медальонами. Очень сильно, но где вы нашли себе натуры? Ведь нельзя же все это выдумать. Вы мне дайте адреса натур, меня очень интересует, особенно женщина, вся в черном, с будто стеклянными глазами.{46}
– Я не знаю, у меня нет адресов. Я работал так, без натуры, – смущенно отвечал Гавриилов.
– Ну, значит у вас богатая память и огромный опыт. Этого нельзя было бы предположить, глядя на вас. А может быть, все-таки дадите какие-нибудь указания, cher mêtre?{47} – улыбаясь и с нескрываемым любопытством разглядывая Мишу пристальными блестящими глазами, говорил Юнонов.
– Может быть, вы позволите познакомить вас с моими друзьями и не откажетесь выпить с нами бокал шампанского за ваш отличный успех? – спросил Юнонов после нескольких минут молчания.
Не дожидаясь Мишиного ответа, он протянул руку, чтобы помочь Мише слезть с высокого табурета, и увел его в соседнюю комнату, где за угловым столиком у непочатой бутылки шампанского сидели румяный студент, которого сманивал он в «Альказар» на вечере у Ивяковых, и господин небольшого роста с черными усиками. Юнонов церемонно познакомил их с Гаврииловым и разлил шампанское по бокалам. Все торжественно чокнулись с Мишей.
– За наше просвещение и вразумление, – хихикнул господин с черными усиками.
– Вы, Эдуард Семенович, господина Гавриилова не обижайте, это мой друг, предупреждаю, – серьезно сказал Юнонов. Румяный студент улыбался, а господин сконфуженно бормотал:
– Много же у вас друзей.
Но скоро разговор принял характер мирный; говорили, главным образом, Юнонов и Эдуард Семенович; они знали чуть ли не всех присутствующих мужчин и дам; о каждом находили они рассказать какой-нибудь забавный и непристойный анекдот.
И веселая остроумная болтовня, переполненная скабрезными намеками, но лишенная всякой безвкусной грубости и цинизма, пьянила Мишу чуть ли не больше, чем шампанское, которое подливал ему Юнонов.
После шампанского пили кофе, и в узких рюмках переливался зеленый шартрез.
На столиках зажгли свечи, так как электричество уже погасло. Эдуард Семенович рассказывал, немного хвастаясь, о своих собственных приключениях.
– Эдинька, не врите, – лениво промолвил Юнонов и, наклонясь к Гавриилову, достаточно громко добавил: – Ведь он воображает себя красавцем, вторым Антиноем. При такой фигуре мечтает покорить всех и вся своей красотой.
– Нехорошо так явно выказывать свою ревность, влюбленный поэт, – засмеялся Эдуард Семенович. – А все-таки ваш Сашок – порядочная дрянь, сколько бы поэм вы не посвящали.
Юнонов медленно тянул из своей рюмки ликер, посмотрел задумчиво на свечку и совершенно неожиданно запустил рюмкой прямо в лицо Эдуарду Семеновичу.
Тот как-то пискнул и стал поспешно вытирать стекавшую с носа тяжелыми каплями жидкость.
Толстая негритянка за соседним столом восторженно крикнула «bravo» и захлопала в ладоши.
Гавриилов и студент сконфуженно поднялись с своих мест, не зная что делать.
Юнонов отошел к окну и, отогнув занавеску, прижался лицом к замерзшему стеклу, а когда Миша подошел к нему, он заметил, что тот плачет.
– Но, Боже мой, что же такого я сказал. Пошутить нельзя, – будто оправдываясь, лопотал Эдуард Семенович, окруженный посетителями и официантами.
Кто-то советовал составить протокол. Толстый полковник, никем не слушаемый, повторял:
– Требуйте сатисфакции. К барьеру, и больше ничего.
Пришел monsieur Шарль и вежливо, но настойчиво просил разойтись, ссылаясь на господина пристава, который уже справлялся.
Студент, взяв под руку Мишу и Юнонова, вытиравшего коричневым шелковым платком глаза, повел их к передней; там их нагнал Эдуард Семенович и, торопливо натягивая шубу, спрашивал, будто ничего не произошло.
– Ну, куда ж мы теперь отправимся?
– В «Петропавловск», – мрачно ответил Юнонов капризным тоном.
– Отлично, отлично; приятные воспоминания имею об этом благочестивом заведении, – подобострастно юлил Эдуард Семенович.
Узкими, темными, заваленными снегом переулками прошли к деревянному двухэтажному дому с глухими ставнями на окнах и фонарем над дверью.
Это был ночной трактир «Петропавловск».
– Привет тебе…{48} – фальцетом запел Эдуард Семенович.
– Какой вы милый, Эдичка, хотя и шут гороховый, – сказал Юнонов, всю дорогу мрачно молчавший.
– Ну, вот и помирились, и славно! – ликовал Эдичка.
В общем зале трактира тускло горела полуспущенная висячая лампа. Рыжий, толстый хозяин за стойкой громко ежесекундно зевал, крестя рот; в темноте кто-то спал; на лавке за столиками сидело несколько извозчиков, компания подозрительного вида молодых людей, которые развязно смеялись все разом как по команде, и какой-то старик с накрашенной девицей в кудельках. Старик пил чай и медленно рассказывал:
– А перчатки-то у меня не простые, из тройной шерсти. Накось, посмотри сама.
Девица лениво щупала перчатку и усиленно пялила глаза, чтобы не уснуть.
Сверху доносилась музыка и топот ног.
– Что ж, пойдем наверх? – семеня ногами, спросил Эдуард Семенович.
– Нет, сначала выпьем чаю здесь. Надо отдохнуть, – ответил Юнонов.
Они молча пили из мутных стаканов жидкий чай.
– Режут, режут, батюшки! – донесся крик сверху. Там хлопали дверями, бегали и смеялись. По деревянной лестнице сбежали, ловя одна другую, две девицы в ситцевых платьях, в расстегнутых кофтах, с выбившимися волосами.
– Укушу, Машка, коли поймаю, – смеясь, кричала одна худенькая, с ярким неровным румянцем.
– Тише вы, девки, – закричал, наконец, на них хозяин.
Девицы перестали возиться, обнялись и стали ходить между столиков.
– Отойди, Машенька, кошечка моя, ишь как замаялась, – говорила худенькая, а та толстая, красивая еще свежей простой красотой, отвечала:
– Уж очень надоел мне этот чернявый.
– Он дотошный, – смеялась худенькая.
– Что у вас там? – спросил Эдуард Семенович.
– Василь Андреич, из рыбных рядов, в охоту играет, – в один голос отвечали девушки, останавливаясь у столика и перебивая друг друга, со смехом, но как о чем-то простом рассказывали, называя все своими именами, о непристойной выдумке Василь Андреевича.
– Охота вам, Эдинька, спрашивать, – поморщившись, промолвил Юнонов.
– Нет, это очень забавно и притом оригинально. Вот вам сюжет для медальона, – смеясь говорил Эдуард Семенович.
Девицы сконфуженно замолчали, но не отошли.
– А не подняться ли нам наверх? – спросил неугомонный Эдуард Семенович. – Вы обещали сыграть новый вальс и куплеты.
– Пойдемте, – согласился Юнонов, и они пошли по скрипучей ветхой лестнице.
Вероятно, Эдинька дал какой-нибудь знак девицам, потому что они пошли за ними.
– Если б вы знали, какие тут штуки устраиваются, есть чему научиться даже вам. Хе-хе! – шептал Эдинька на ухо Мише.
Половой в белой рубашке поклонился Юнонову как хорошо знакомому, отпер одну из дверей и зажег свечи в небольшом номере с пианино, широкой оттоманкой и цветами на окне.
В чайнике он принес какой-то напиток, который Эдинька разлил по стаканам.
Юнонов сел за пианино и заиграл. Студент сел рядом с ним. Эдинька расстегнул жилет и повалился на оттоманку. Гавриилов сел в кресло и закрыл глаза; в полусне слышал, как Юнонов пел, потом смеялись и все говорили, и опять хриплым, но приятным голосом пел Юнонов что-то томное и насмешливое.
Открыв глаза, Миша не увидел Эдиньки и толстой девицы. Юнонов пел, студент спал в кресле; худенькая девица стояла сзади Миши и улыбалась; когда Миша обернулся и посмотрел на нее, она нагнулась и, дохнув на него пивом, поцеловала прямо в губы. Ему стало смешно.
– Миленький какой, – зашептала худенькая, – пойдем со мной, что я тебе покажу.
Отуманенный вином, музыкой, сном, Миша, потягиваясь, встал и пошел за девушкой.
В коридоре коптела лампа, половой спал на табуретке, низко свесив голову.
– Миленький, хорошенький, – сказала девушка и, обняв Мишу за шею, втолкнула в темную, освещенную красной лампадой, комнату. В темноте она засмеялась и быстро начала раздеваться, шепча:
– Они оглянуться не успеют. Мы их проведем, миленький. Уж очень ты понравился, пять рублей мне подаришь?
Миша стоял молча посреди темной комнаты.
– Да где же ты, – зашептала девушка и, целуя, повлекла к скрытой пологом кровати. Миша задел ногой за коврик, покачнулся и упал на кровать.
– Что с тобой, али пьян больно, – тормошила его девушка.
Из-за стены доносился голос Юнонова; Миша не шевелился, хотя слышал все.
– Батюшки, да что с ним, – испугалась вдруг девушка.
– Да ты жив ли, голубчик мой аленький? Вот у Палашки, в прошлом году, генерал так помер.
Она целовала, тормошила Мишу и, видя его неподвижным, вдруг закричала:
– Господи, Господи, что же теперь будет! – и бросилась из комнаты.
В комнату внесли свечу. Миша открыл глаза. Сонный половой, полураздетые девицы, Эдинька в цветных кальсонах окружили его.
– Оставьте его. Он нездоров просто, – сказал Юнонов, державший Мишину голову, и, нагнувшись, взглянув в глаза Миши, он ласково и нежно спросил:
– Что с вами, голубчик, милый мальчик? Вам нехорошо? Успокойтесь.
Миша хотел ответить, но только улыбнулся. Слабость охватила все тело, и он закрыл глаза.
Юнонов нежно гладил его и говорил что-то ласковое и успокоительное.
II
– Вот, доктор, мой племянник; вчера ночью или, вернее, сегодня утром его привезли в глубоком обмороке. С тех пор он не приходил в себя. Несколько раз, кажется, с ним случалась что-то в таком роде, но по халатности он не обращался к врачам. Вчера это случилось в каком-то темном трактире. Подробностей выяснить не удалось. Я очень прошу вас обратить на него внимание. Сейчас я очень спешу, может быть, вы позволите по телефону справиться у вас о результатах; часов в семь, если можно.
Миша слышал эти слова Николая Михайловича, но он не пошевелился и не открыл глаз.
– Прекрасно, прекрасно. Не беспокойтесь, уважаемые, – отвечал доктор слегка придушенным сладким голосом.
Миша слышал, как Кучеров вышел.
Доктор подошел к постели, несколько минут разглядывал Мишу, потом взял руку, пощупал пульс.
Миша открыл глаза. Перед ним стоял толстенький, низкого роста человек с розовой блестящей лысиной, окаймленной кустиками каких-то зеленоватых, видимо, крашеных и вылинявших волос, с небольшими, аккуратно расчесанными бачками, в черном сюртуке.
Доктор улыбнулся немного деланной и слащавой улыбкой и повторял:
– Вот мы как, молодой человек, и проснулись, теперь температурочку смерим, если позволите, постукаю я вас, а потом побеседуем и все, все уладим.
Он улыбался, кивал головой, строил какие-то гримасы, суетился, но глаза его, скучающие и колючие, смотрели испытывающе и сурово. Мише стало страшно этих глаз, он почувствовал себя беспомощным, маленьким перед этим человеком, ловко распоряжавшимся его телом, то щупая, то нажимая, то постукивая в разных местах, повторяя:
– Прекрасно, превосходно. Вот так, теперь посмотрим здесь.
Окончив осмотр, доктор пошел к Даше вымыть руки и, вернувшись, поправил рукава сюртука, присел на край Мишиной кровати и сказал:
– Ну-с, теперь побеседуем: доктору, как духовнику, надо все знать, необходимо. Хе, хе.
Но видя, что пациент его вряд ли способен сам рассказать все по порядку, он придал своему лицу серьезное и чуть-чуть печальное выражение, сложил белые, пухлые руки на животе и осторожно, но настойчиво стал выпытывать. Он спрашивал о занятиях больного, его знакомых, местах, где он чаще всего бывал, какие вина и кушанья предпочитал, о родных и, наконец, откашлявшись, спросил:
– А относительно женщин, которых вы знаете более интимно, вы не могли бы мне чего-нибудь сообщить?
Миша едва слышно ответил:
– Я не знаю женщин.
– Ага, я так и предполагал. Превосходно. Не будете ли добры, если вас это не затруднит, передать ваши переживания в общих чертах, в общих чертах.
Доктор поводил руками, как бы очень довольный этим открытием и голосом, все более ласковым и мягким, расспрашивал с изысканной вежливостью обо всем том страшном и мучительном, что преследовало Мишу эти дни и что от точных равнодушных вопросов становилось простым, не страшным, но каким-то грязным.
– Так-с, понимаю, с медицинской точки зрения понимаю, но… – доктор наставительно поднял пухлый палец, – но с житейской стороны не понимаю. Проще надо, молодой человек, на все смотреть. В культ, в таинство возвели новейшие проповедники то, об чем и разговаривать-то не стоит. Ну-с, сами себя и напугали. Читал я статью господина Акеева; там и о вас сказано: «гримасы пола», «больное время» и т. п.{49} И все это от избытка воображения. Проще, проще на все смотреть нужно.
Оставшись сам очень доволен этой тирадой, доктор переменил тон, дал расписание режима, которого он советовал держаться, прописал брома и мышьяку и уже встал уходить; прощаясь, сказал, улыбаясь:
– Ну, и решительней, решительней посоветовал бы я вам быть, молодой человек.
Миша почувствовал страшную усталость, тяжелая муть подступала к горлу, когда ему вспоминались подробности разговора с доктором; кружилась голова от слабости, он закрыл глаза и скоро уснул.
К обеду приехал Николай Михайлович.
Он вошел в Мишину комнату непривычно приветливый и ласковый; весело заговорил, заботливо расспросил о здоровье.
– Челепов сказал, ничего серьезного, – большая истощенность и малокровие. Советует уехать. Да, у Ивяковых мне сегодня рассказывали, что ты собираешься ехать в Италию, им С. сказывал. Вот и прекрасно, поезжай, отдохнешь и оправишься. Конечно, о твоей болезни уже ходят всяческие слухи. Если связаться с Юноновым, то сплетен не избежать, за ним следят в сотни глаз. Говорят, что тебя пырнули ножом в какой-то драке, что Юнонов хотел тебя отравить.
– Какие глупости, – гневно воскликнул Миша. – Если бы не он…
– Если бы не он, ты бы даже не знал об этих притонах, – поморщившись, продолжал Николай Михайлович. – Впрочем, все к лучшему в связи с успехом твоих медальонов, – лишние разговоры только к славе. Татьяна Александровна очень меня расспрашивала о тебе. Она очень огорчена и собирается посетить тебя. Да, тебе письмо, – и он подал конверт, надписанный таким знакомым почерком.








