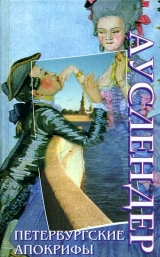
Текст книги "Петербургские апокрифы"
Автор книги: Сергей Ауслендер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 53 страниц)
Дома я застал письмо, принесенное с почты, где я оставил свой адрес. Жена снова ласково и настойчиво звала меня вернуться.
– Пора! – громко сказал я и, приказав приготовить счет, принялся укладывать чемодан.
Утром до поезда у меня оставалось время, и я в последний раз отправился к русскому синьору.
Он встретил меня у дверей своей лавки.
– Синьор так рано встал? – удивился он.
– Синьор уезжает, – ответил я и сам удивился, какой радостью звучал мой голос.
Он не понял и стоял молча. Я хлопнул его по плечу.
– Я еду в Россию, в Петербург. Я увижу свою жену, увижу детей. – Я засмеялся. Но вдруг вспомнил синьору Бианку. – Я хотел бы купить у вас что-нибудь на память, – сказал я.
– Синьор не шутит? Синьор, правда, уезжает?
Мы вошли в магазин. Синьоры Бианки здесь не было.
– Я привезу России ваш поклон, – сказал я и прибавил: – Мне хотелось бы проститься с бамбино и с синьорой Бианкой.
– О, бамбино теперь не найти, а синьора Бианка в церкви Сан-Марко. Может быть, синьор подождет?
Мне вдруг стало тоскливо, и не радовал уже предстоящий отъезд.
– У меня нет времени ждать, к сожалению. Передайте им мой привет. Вот бамбино на сласти, – я дал несколько лир. – Я уезжаю неожиданно, получил письмо, меня зовут домой, я не успел ничего сам ему купить. Ах!.. – Я вдруг заметил кружево, начатое синьорой Бианкой. – Продайте мне это на память…
Синьор деловито осмотрел кружево и ответил:
– Работа не кончена. Это, должно быть, на стол салфеточка. Синьор, может быть, возьмет что-нибудь другое?
– Нет, нет, это прелестно, – я держал кружева в руках и не хотел отдавать. – И жена моя любит такие работы. Она сама по начатому будет кончать…
– Если синьор так желает?..
Я заплатил ему и спустился с лестницы.
– Синьор вернется еще в Венецию?
– Вряд ли. Пейте мой чай. Не забывайте меня совсем.
Мы поцеловались, и я выбежал на площадь.
У меня оставалось еще четверть часа. Перед храмом С.-Марка красовались флаги. Я вспомнил, что сегодня – праздник. После минутного раздумья я вошел в церковь Св. Марка. Молящихся было мало. Полутьма. Тишина. Я подошел к боковому притвору и внезапно в двух шагах от себя увидел знакомый узел темных волос, изгиб шеи… Синьора Бианка стояла на коленях, подняв лицо к куполу, в пламенной молитве.
О чем молилась она? О дочке своей, о любимой Венеции, а может быть, обо мне, о чужом русском, вошедшем на минуту в ее тихую жизнь?
Она повернула слегка голову, и я в последний раз, как тогда на пароходе, увидел ее усталое лицо и большой увядший рот.
Затем я нечаянно для себя перекрестился и, не оглядываясь, вышел из церкви.
Венеция.Апрель 1914 г.

Весенние дни{308}

I
Всякий раз, когда Виктор Павлович, поворотив за угол, видел этот темно-шоколадный дом, когда кучер ловко осаживал Красавчика у привычного подъезда, когда старый швейцар Пантелей в выцветшей ливрее ласково раскланивался с ним, когда, наконец, лукавая Даша, как-то многозначительно улыбнувшись, говорила: «Пожалуйте в маленькую гостиную, барышня сейчас выйдут», – все это неизменно и уже как-то привычно радовало и волновало Виктора Павловича Тарасова, три недели назад сделавшего Наденьке Минаевой предложение, принятое благосклонно и невестой, и ее родителями, хотя свадьба и откладывалась по некоторым семейным обстоятельствам до Красной Горки.
Так же, как всегда, быстро взбежав на третий этаж, Виктор Павлович в темной передней задохнулся от волнения и подъема по крутой лестнице. Не Даша сегодня, а толстая няня Агафьюшка участливым баском сказала:
– Пройдите, батюшка, невестушка с утра обряжается, не запоздали бы, смотри.
И он прошел по знакомым и милым комнатам, освещенным мартовским солнцем сквозь тюлевые занавески, мимо чинной залы с люстрой в чехле, мимо узкой диванной, мимо попугая в золоченой клетке, в маленькую угловую гостиную, из которой завешанная портьерой дверь вела в комнату Наденьки.
Пока герой наш, теребя нервно ус, прохаживается большими шагами по мягкому ковру и тщетно прислушивается, останавливаясь посреди гостиной, к странным звукам из соседней комнаты, ничем, кроме нетерпеливого покашливания, не решаясь дать знать о себе, – мы, любезный читатель, так как для нас нет запретов, проникнем в голубую с розовыми занавесками на окнах, на кровати и туалете девичью спальню, в которой Наденька, еще совсем не одетая, с голыми руками, распущенными косами, сидит в кресле и горько, беззвучно плачет, тогда как ее наперсница Даша, держа зеленое атласное платье, тщетно старается утешить свою госпожу.
– Ну, полно, барышня. Ведь он-то уж здесь. Неловко, – шепчет Даша.
– Да что мне за дело! – отвечает Наденька и, быстро взглянув в зеркало на свои уже все равно распухшие глаза, принимается плакать снова.
Видимой причиной этих слез были сущие пустяки: замечание maman, что нужно торопиться, так как неловко заставлять ждать жениха; новое платье, которое почему-то казалось Наденьке испорченным. Что-то еще в таком же роде. Другие же причины, почему уже несколько дней Наденька скучала, капризничала, плакала совершенно неожиданно по целым часам, – были еще неизвестны, пожалуй, и ей самой.
Ей было всего семнадцать лет; идти за Тарасова ее не неволили; напротив, упорное ухаживание молодого гусара принималось сначала стариками Минаевыми неодобрительно, и только когда Наденька сама заявила, что Тарасов сделал предложение, ею принятое, – родители, будучи правил гуманных, согласились, тем более что против состояния, отличной карьеры, спокойного нрава жениха трудно было что-либо возразить.
Наденьке нравилась почтительная влюбленность этого высокого, несколько сумрачного офицера, ей было немножко страшно, когда он в первый раз просто и прямо, после третьего бала, на котором они были вместе, заговорил о женитьбе. Потом ей было забавно, когда все родные и знакомые Поздравляли ее, когда приезжал жених и их старательно, хотя ненадолго, оставляли вдвоем, и он, конфузясь больше, чем она, по-французски рассказывал о полковых новостях, осмеливаясь едва-едва коснуться губами ее руки. А последние дни ей было все это как-то не то скучно, не то тягостно, и сама еще хорошенько не понимая того, что происходило в ней, она томилась, зная, что изменить ничего невозможно, да даже не желая никаких изменений.
Заставив Виктора Павловича промаршировать по гостиной полчаса, Наденька вспомнила, что надо ехать в концерт, и, вымыв лицо, подпудрившись, убедившись, что заплаканные глаза не делают ее особенно безобразной, торопя Дашу, быстро оделась и, застегивая перчатки, уже в шляпе вышла к жениху.
– Вот карточка, которую я обещался привезти вам! – поздоровавшись, сказал Виктор Павлович, подавая конверт.
Наденька бегло взглянула на безусое тонкое лицо с полузакрытыми глазами молодого, почти мальчика в гусарском мундире и протянула:
– Так вот какой Вернер, спасибо.
И, уже совсем повеселевшая, улыбнулась не то жениху, не то портрету, не то своим собственным мыслям.
II
Быстрая езда по этим весенне-праздничным улицам наполняла Наденьку радостью.
Хотелось ехать так долго, долго, улыбаться солнцу, от которого больно было глазам, всем прохожим, казавшимся такими нарядными и веселыми, своему жениху, который, наверное, так счастлив, сидя рядом с ней, наконец, тому портрету, что для чего-то сунула она в муфту, портрету незнакомого офицера, о котором почему-то так много думала Наденька последние дни, никогда не видав его.
Впрочем, Вернер – друг Виктора Павловича, и именно о нем чаще всего рассказывал Тарасов в те неловкие минуты, когда их оставляли вдвоем.
Рассказывали о Вернере, впрочем, и другие: кузен Жоржик, пользовавшийся своим правом родственника, чтобы нашептывать двусмысленные анекдоты, до которых так падки барышни; Катя Полозова, слышавшая от своего брата о чудачествах странного офицера, вряд ли не масона и теософа.{309} То бесшабашным гулякой, – героем многих весьма пикантных приключений, то чуть ли не святошею, обладающим огромной силой внушения и прорицания, участвующим в каких-то тайных мистических обществах, – таким вставал Вернер из этих противоречивых рассказов.
Последние дни, когда непонятным томлением была охвачена Наденька, часто без причин думала она о Вернере и настойчиво на всех собраниях, в театре, на балах просила Виктора Павловича представить ей своего друга, но случалось так, что Вернер не показывался там, где ждала его встретить Наденька, и где, как все говорили, обычно он бывал. Эта случайность еще больше раззадоривала любопытство ветреной невесты, и временами ей казалось, что вся скука, вся тоска причиной своей имеют именно эту неудачу. Казалось, что познакомится она с ним – и станет все иначе, опять будет любопытна и весела жизнь…
Странные мечты бывают у молодых девушек в эти беспокойные месяцы приближающейся весны.
Наденьке было даже досадно, когда наконец остановились у подъезда Дворянского собрания,{310} где давал концерт знаменитый певец, которого она еще две недели тому назад непременно захотела услышать.
– Как жалко, что приехали. Так хорошо на улице, – вздохнула она и слегка обиделась, что жених не понял намека, не предложил вместо скучного, как казалось сейчас, концерта, поехать на Острова,{311} долго-долго ехать, сидя совсем рядом, по весенним аллеям; весело и неожиданно заехать в какой-нибудь загородный ресторан, о которых так много слышала Наденька. Смеяться без причины, быть может, смущенно поцеловаться.
«Какой он скучный», – досадливо подумала Наденька, а Виктор Павлович, снисходительно улыбаясь внезапному ее капризу, помог выйти из экипажа.
Первое отделение уже кончилось, когда они вошли в залу.
После солнца и весеннего воздуха казалось в большой зале душно и тускло, хотя все люстры сияли.
Они постояли в тесной толпе за колоннами. Эстрада, казалось, далеко-далеко, и певец, затерявшийся на ней, казался крошечным мальчиком. Голос его едва доносился. В двери все время входили, толкали, кто-то наступил на платье.
Сразу стало жарко, и знакомая беспричинная тоска охватила Наденьку.
– Ну, вас, кажется, совсем не восхищает общий кумир. У вас такой несчастный вид, Надежда Алексеевна, – наклонившись, сказал Виктор Павлович.
– Не мешайте мне слушать, – почти грубо ответила Наденька, и тот удивленно и печально посмотрел на нее.
Певец кончил под гром аплодисментов, публика задвигалась; вызывали, здоровались, проталкивались к своим местам или, наоборот, к выходу.
Певец все еще кланялся, прижимая руки к сердцу, наконец вышла еще раз хромая аккомпаниаторша, села за рояль, и он спел коротенький романс.
Наденька и Тарасов стояли в это время уже посередине залы в проходе и потому слышали лучше.
Как серебряный колокольчик, сладкий и чистый, задорно звенел голос певца, голос почти нечеловеческой прелести, будто пение какой-то небывалой птицы, и от этого голоса какое-то томление смутное и печальное охватывало, какие-то неясные, странные желания пробуждались.
Наденька слушала и не замечала знакомых, кивавших с разных сторон, забыла, что рядом стоит жених…
Певец уже кончил, аплодисменты смолкли, а Наденька все еще не могла очнуться. Как сквозь сон донесся до нее голос Виктора Павловича:
– Позвольте представить вам, Надежда Алексеевна, моего лучшего друга – Артура Филипповича Вернера.
Слова почти не дошли до сознания, и только взглянув на стоявшего перед ней в почтительной позе офицера в гусарском мундире, страшно моложавого, на вид почти мальчика, но уже с усталыми складками около губ и полузакрытых глаз, с бледным тонким лицом, Наденька подумала:
«Какое знакомое лицо. Кто это? – и в ту же минуту с волнением вспомнила. – Да ведь это Вернер».
– Я много слышал, Надежда Алексеевна, о вас от Виктора, одного из самых близких друзей моих. Я так счастлив представиться вам, – тихо говорил Вернер.
– Я тоже давно хотела, – вся вспыхнув, растерянно бормотала Наденька.
Все три места их оказались рядом. Тарасов пошел здороваться со знакомыми, Наденька и Вернер сели.
Некоторое время офицер молчал, и Наденька украдкой разглядывала его. Он был менее молод, чем на портрете; что-то неприятно-надменное и холодное было в его лице, только улыбка была нежная и детская какая-то. На руке Наденька заметила тоненькую золотую браслетку и черный перстень с большим изумрудом на среднем пальце правой руки.
– Я так завидую Виктору, видя вас, – вымолвил Вернер.
Ожидая обычной любезности, Наденька сделала недовольное движение.
– Не бойтесь, – улыбнулся он, – я не хочу сказать плоского комплимента. Я не знаю еще вас, но уже самое слово «невеста», это такое чистое, прекрасное слово, для меня недоступное.
Наденька с удивлением глянула на него. Будто давно знали они друг друга, будто нежная дружба связывала их, так просто и искренно говорил Вернер. Ей стало даже страшно; ей показалось, что он знает, как много думала она о нем; ей показалось, что и в самом деле что-то связывает их.
– Почему же, почему же недоступное? – спросила она против воли.
– Потому что меня нельзя любить, нельзя любить свято и чисто, как невеста жениха. Эти слова не для меня.
– А другие? – почему-то понизив голос, спросила Наденька.
Он приподнял тяжелые веки и в первый раз, кажется, глянул прямо в глаза каким-то острым взглядом.
Виктор Павлович наклонился к Наденьке.
– Надеюсь, не соскучились с моим милым Артуром.
III
Наконец и Виктор Павлович заметил, что что-то неладное творится с Наденькой. То слишком весела и шумна она бывала, точно стараясь скрыть нечто тайное под маской смеха, то задумчиво тосковала, не могла удержать слез беспричинных; раздражалась, сердилась, потом просила прощения. Но, как ни странно, именно эта неровность отношений сблизила Тарасова с его невестой. Он беспокоился за нее, искренно страдал, когда капризничала она и ссорилась с ним, старался утешить, развлечь и безмерно радовался, когда это удавалось ему. Чувствовал с каждым днем, что по-настоящему дорога ему эта взбалмошная, с непонятными порывами девочка.
Раз как-то застал Тарасов Наденьку за непривычным занятием: возилась она с толстой книгой «Весь Петербург», тщательно стараясь найти какую-то справку.
– Какой-нибудь модный магазин нужен вам. Дайте помогу, – с улыбкой, видя беспомощность, с которой водила розовым пальчиком по странице Наденька, сказал Виктор Павлович, и нагнулся к книге.
– Нет, нет, я сама. Да и не к спеху это, – торопливо захлопнула книгу Наденька, будто испугавшись чего-то.
Тарасову бросилась в глаза наверху страницы фамилия «Веретенников».
Тарасов, конечно, не обратил никакого внимания на этот случай, но через несколько дней пришлось ему вспомнить о нем.
Горничная провела его в будуар Наденьки и просила обождать. Он прошелся по комнате и случайно остановился около маленького письменного столика. Нагнувшись, разглядывал давно знакомую карточку Наденьки в детстве. Потом взгляд его упал на брошенный небрежно пустой лиловатый конверт.
«Да ведь это почерк Вернера», – вдруг узнал он острые буквы своего приятеля. Даже не поверил, взял конверт в руки – знакомыми духами пахнуло на него. Сомнений быть не могло: Вернер писал его невесте. Вспомнил Тарасов и мелькнувшую фамилию Веретенникова, и быстро захлопнутую книгу, и странное смущение Наденьки.
– Что с вами, вы так бледны? – спрашивала участливо Наденька, держа руку жениха.
– Я плохо себя чувствую, не совсем здоров, – бормотал он и, глядя в эти ясные, прозрачные глаза, с мучительной тоской думал: «Уже, уже обманывает. Что же делать? Что же делать! Ведь люблю ее больше жизни».
Он не только не спросил ничего, но даже боялся упомянуть фамилию Вернера, чтобы не выдать своих мучительных подозрений. Наденька тоже не начинала разговора о Вернере, будто забыла о нем, будто никогда не интересовалась этим почти незнакомым офицером.
За каждым словом, за каждым взглядом следил Тарасов, презирая себя, не спал по ночам и наконец решил зайти к Вернеру, сам еще не зная, каких объяснений потребует от своего друга.
Тарасов шел медленно, будто нерешительно. После ночи, проведенной в тоскливом беспокойстве, чувствовал неприятную слабость.
Совсем по-весеннему пригревало это обманное мартовское петербургское солнце. Как весенние цветы, нежные и причудливые, замелькали на Невском дамские шляпы. Ласковый дул ветерок в лицо, и Тарасов убеждал себя, что мучительные сомнения его не что иное, как ревнивое воображение, что не могут же друг и Наденька, эта девочка с лучистыми глазами, не могут они обманывать его. Вспоминал, как нежна и шаловлива была последние дни с ним невеста. Уже улыбался Тарасов, входя в подъезд Вернера.
– Барин дома? У него никого нет? – спросил весело Виктор Павлович швейцара, уже расстегивая на ходу пуговицы пальто.
– К ним-с барышня пришли, – с угодливой почтительностью ответил швейцар.
– Ах, так. Ну, я зайду позднее, – вымолвил Тарасов, и вдруг будто что-то оборвалось в нем.
«Ну, что за глупости, – почти вслух думал он, – как это может быть? Как пошло с моей стороны Бог знает что думать. Мало ли у него авантюр. Да и ее не отпустили бы одну».
От стыда за скверные свои мысли даже покраснел Тарасов и, дойдя до угла, решил повернуть, выйти на Невский и заказать цветов для невесты.
Он не дошел дома три до серого особняка Вернера, как из знакомого подъезда быстро вышла девушка. Тарасов узнал коротенькую бархатную жакетку и голубую шляпку Наденьки.
IV
Наденька объявила себя больной и не выходила из комнаты. В капоте и ночном чепчике лежала она целые дни на кушетке, бледная и вялая. Запрещала открывать шторы, держала на коленях книгу, но не читала. Позвали доктора, старичка Ивана Васильевича, когда-то присутствовавшего при появлении Наденьки на свет, опытного советчика во всех трудных обстоятельствах.
Иван Васильевич постукал, посмотрел и объявил:
– Просто от весны капризничает барышня. Малокровие и все такое, конечно, есть, но вот свадьбу отпразднуем и пройдет весенняя лихорадка. Пока оставьте в покое да вот капельки давайте.
Наденьку оставили в покое, она лежала и думала, все вспоминала одно и то же. Утренний концерт, сладкий тревожный голос певца и острый блестящий взгляд.
Потом письмо. Ах, это смутное, стыдное письмо, которое она не имела сил перечитать. Два дня томительно-беспокойного ожидания. На третий день ответ, всего несколько строк, написанных острым крупным почерком. Почтительно ласково писал Вернер, за что-то благодарил, от чего-то предостерегал, сообщал, что через пять дней уезжает в кругосветное путешествие, а когда вернется, то будет рад стать преданным другом жены своего любимого товарища Виктора.
Дальше вспоминала Наденька светлый радостный день. Она идет по улицам, точно опьяненная воздухом, цветами, солнцем. Вот темный подъезд, почтительно-удивленное лицо лакея, отворившего дверь, и вот нa пороге сам Артур Филиппович Вернер в какой-то серой курточке, делающей его совсем мальчиком.
Они стоят посередине большого светлого кабинета. Опустив глаза и слегка наклоняя голову, говорит Вернер:
– Я предчувствовал, я опасался, что может так случиться. Я знал, что мне надо было уехать неделю назад. Вы смелы, вы безрассудны, я любуюсь вами, но мне страшно за вас. Как легко отдаетесь вы власти этих обманных весенних дней, с какой жестокой легкостью решаетесь вы разбить столько жизней: свою, Виктора и мою. Впрочем, себя я не жалею, я бы с радостью отдал мою жизнь, чтобы только были счастливы – вы и Виктор. Вы еще не знаете всех опасностей, которые грозят всякому, кто попытается нарушить ход событий. Но что бы ни случилось, знайте, я готов пожертвовать всем, и никто никогда не должен знать о том, что случилось в эти весенние дни. Пусть это будет наша тайна. Берегите ее. Я же… – он замолчал и на секунду поднял глаза. В его лице уже не было ничего надменного и холодного. Он взял дрожащую Наденькину руку:
– Не волнуйтесь. Я знаю, что вы никогда не простите мне этих минут. Возненавидите меня, – все равно, я навсегда останусь верным и преданным.
Наденька не помнила, как она вернулась домой. Ей казалось, что она не переживет этого. Она хотела одного: умереть, чтобы не помнить, не думать все об одном и том же. Три ночи она почти не спала, на четвертую заснула и, проснувшись утром, вдруг почувствовала такую веселую бодрость, что вскочила с постели босиком, подняла гардину, увидела солнце и так обрадовалась, будто ничего ужасного не случилось. Через минуту она вспомнила, но в первый раз за эти дни нашла легкомысленное утешение:
«Ведь этого же никто не узнает. Он уедет, я не буду с ним встречаться, и все будет хорошо».
– Ну, слава Богу, повеселела наша птичка, – говорила мать, когда Наденька в светлом платье вышла в столовую.
– Это еще что такое, – промолвил старик Минаев, читавший газету.
«Загадочное самоубийство. Вчера в своей квартире застрелился офицер гусарского полка Артур Филиппович Вернер. Причиной называют происшедшее за несколько часов до этого в одном из модных ресторанов столкновение с офицером Т., кончившееся вызовом на дуэль. Отказавшись от дуэли, Вернер приехал домой и, не оставив никакой записки, застрелился».
Наденька сидела спокойно, только побледнела. Мать заметила это:
– Нужно было читать, расстраивать нашу девочку, – раздраженно сказала она и добавила: ведь ты же, кажется, даже не знала этого Вернера. Что тебе за дело до него? Мало ли теперь стреляются.
– Конечно, конечно. Ты не беспокойся, мамочка. Какое мне дело! – заговорила Наденька и встала из-за стола.
«Пусть это будет наша тайна», – вспомнила она слова Вернера.
Спб.Апрель 1913 г.









