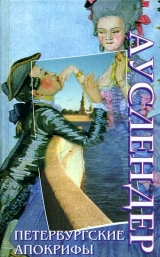
Текст книги "Петербургские апокрифы"
Автор книги: Сергей Ауслендер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 53 страниц)

I
Денщик Василий не привык удивляться поступкам барина своего, поручика лейб-гренадерского полка Якова Петровича Тараканова. Он и не удивился, когда тот, придя часу в одиннадцатом домой, не потребовал ни чаю, ни ужина, а сел, не отстегивая даже портупеи, за стол и писал, не вставая, и до часу, и до двух, и до половины четвертого, и дольше, сколько ни отбивали старые хриплые часы в передней над головой Василия, заставляя его пробуждаться, заглянуть в щелку двери на спину поручика, почесаться и снова заснуть до следующего боя.
Впрочем, поручик иногда вскакивал и быстро пробегал по своей комнате, которая, с большими шкапами, книгами, разбросанными по креслам и оттоманкам, оружием, принадлежностями амуниции, табаком в картузах,{179} являла соединение кабинета ученого и походной палатки.
Рассеянное и глубокое волнение можно было прочесть во всех движениях Якова Петровича: он набивал трубку и забывал о ней; судорожно отыскивал книгу, загибал страницу, начинал читать и не замечал, когда книга валилась на пол; потом опять бросался к столу и писал быстро и сосредоточенно, размазывая строки и откидывая исписанные страницы на кровать.
Уже в незакрытом занавеской окне тускло забелел большой сугроб от зимнего рассвета, когда Яков Петрович кончил писать, перечел последнюю строку: «Верного в любви и клятвах помните Якова Тараканова», засыпал страницу золотистым песком и, сложив листки по нумерам, запечатал их в большой синий пакет, приложив к горящему сургучу знак своего черного перстня. Василий не сразу проснулся, когда поручик, встав над ним, тихим голосом будил его:
– Друг, встань-ка, встань-ка, друг.
Барин и всегда обращался с ним вежливо, но тут была в его словах такая ласковая тихость, что даже Василий удивился и, выслушав приказ отнести пакет по адресу, остался несколько минут в молчаливом размышлении: «Чтой-то с его благородием сделалось».
А его благородие стал покойнее, как будто отделавшись от долго мучившей его мысли. Он прошелся несколько раз по комнате, задумчиво выпуская дым густыми кольцами, докурил трубку, выколотил ее и сказал громко и решительно, не то Василию, не то самому себе:
– Пора.
Василий выскочил из передней, ожидая приказаний. Поручик меланхолически поглядел на него и велел давать одеваться.
– Обед, ваше благородие, прикажете принести?
– Да, да, – ответил Яков Петрович, сосредоточенно оглядывая в зеркало свою небольшую фигурку почти мальчика, в парадном мундире.
– Тут еще, ваше благородие, портной приходил, денег просит, грозится.
– Да, да, хорошо, – таким тоном опять ответил Тараканов, что Василий почувствовал тщетность всяких разговоров с ним и, молча подав ему шинель, кивер, перчатки, проводил до сеней, пожелал счастливого пути и, возвратясь на койку, подумал, зевая: «Не в себе его благородие, не иначе как решение насчет Евдокии Кондратьевны принял и письмо к ней, вишь, целую ночь сочинял. Не миновать теперь свадьбы. Хлопот-то не оберешься».
С этими мыслями Василий и заснул.
II
Яков Петрович шел по набережной, тщетно вглядываясь в противоположный берег, где Сенат и Исаакий едва-едва выступали из сумерек и тумана. По мосткам он спустился к Неве и пошел прямо льдом по узкой тропинке, обнесенной еловыми ветками. Холодный и мокрый ветер с моря срывал кивер и распахивал шинель. Почти уже на середине реки какой-то темный предмет привлек внимание Якова Петровича. Предмет двигался медленно и с трудом по глубоким сугробам.
«Угодит в полынью», – подумал Яков Петрович и, прибавив шагу, закричал:
– Сударь, сударь!
Сударь, как бы не слыша, продолжал, спотыкаясь, идти снегом.
Смутное беспокойство овладело Таракановым. Прибавляя шагу, он, наконец, побежал, придерживая рукой кивер. Вдруг предмет скрылся.
«Ну, пошел под лед», – подумал Яков Петрович и, бросив шинель на елку, кинулся в одном мундире в сугробы.
В нескольких шагах, пройти которые не малый труд представило, увидел Яков Петрович предмет. Он барахтался в глубоком снегу, выбившись, видимо, из сил. Круглая полынья синела у самых ног его – еще один шаг, и быть бы ему в ней. Быстро Яков Петрович подскочил к нему и так крепко схватил за плечо, что тот упал на спину и остался так лежать недвижимо. Яков Петрович нагнулся и странное существо увидел. Мальчик ли, девочка – трудно было различить по тонкому нерусскому лицу, совсем бледному, с странно красными губами. Одето оно было в ситцевый ватный халатик с цветочками, подпоясанный ремнем, на котором болтались две тонкие, гибкие флейты; красная феска на голове выдавала его происхождение.
– Зачем здесь турка? – вслух подумал Яков Петрович.
– Мы не турка, мы греки, – не шевелясь, тихо, но явственно произнесло странное существо.
– Чего же, сударь, развалился? Вставай и идем, на дорогу выведу. Вишь тебя угораздило у самой воды.
Грек молчал. Яков Петрович потянул его за рукав совсем слегка и поднял, странно не испытывая никакой тяжести, будто тело состояло из одного халатика.
Встав, он оказался мальчиком-подростком, черномазым и как-то уж слишком худощавым. Пошел он молча и быстро, как бы скользя по снегу на невидимых лыжах, тогда как Яков Петрович завязал в сугробах, задыхался и отставал. На тропинке грек обождал его. Подув на обмерзшие свои пальцы, он приложил флейту к красным губам и тихо, заунывно, будто плача, заиграл.
«Чудак», – подумал Яков Петрович и, вдруг опять охваченный своими мыслями, пошел рядом с греком, не замечая больше его и не слыша жалобных звуков флейты. Так, молча, они прошли всю Неву, и только выйдя на площадь, грек спрятал свою флейту и, сказав: «А зовут нас Филимон», быстро пошел прямо ко дворцу, в котором уж мелькали тревожные свечи; а Яков Петрович, едва ли расслышав эти слова, которые он вспомнил, однако, потом, так же быстро направился к Гороховой.
III
Было уже совсем светло, когда Яков Петрович вывел свой отряд на большой казарменный двор и остановился, будто не зная, что делать. Все слова, все планы, как действовать, такие ясные и простые вчера, вылетели из головы, и как начать, он не знал.
На крыльцо вышел высокий, смуглый адъютант.
– Господин поручик! – окликнул он.
Улыбкой, которая не совсем выходила, стараясь ободрить, он заговорил строго:
– К чему ваша медлительность? Отступление невозможно. Разъясните солдатам, как было условлено, и ведите их. Вам записка, – и он подал розовый конверт.
Яков Петрович расслышал и понял только последние слова и, разорвав конверт, быстро прочел: «Мужайтесь. Помните ваши клятвы. Удача – слава, и я ваша. Е.».
И все вдруг вспомнил Яков Петрович.
– Не беспокойтесь, – весело ответил он адъютанту и сбежал с крыльца, гремя саблей.
– Ребята, – закричал он еще издали солдатам. – Ребята, не выдадим батюшку императора нашего Константина. Не сложим присяги. За мной!.. Служба наша не пропадет.
Будто только и ожидая этих слов, солдаты повеселели и нестройно, но сочувственно загалдели в ответ.
– Шагом марш, – скомандовал Яков Петрович и сам улыбнулся недавним своим сомнениям.
Бодро и весело шел Тараканов впереди своего отряда, думая совсем не о том, что совершить сейчас предстояло, а все о ней, о задумчивой и прекрасной Eudoxie, такой суровой и вдруг благосклонной в самые последние дни. Мечты поручика летели дальше, к тем дням, когда он в генеральском мундире встанет с ней на атлас в ярко освещенном соборе, и виделись ему уже: сверкающая митра пресвитера, венчающего их, и за фатой бледное, будто в тумане, нежное лицо, и слышал поздравления и церковное пение.
– Пришли, ваше благородие, – тихо шепнул шедший рядом старый унтер, посвященный в планы.
Яков Петрович вздрогнул от неожиданности и едва не сбился с ноги. Мрачно темнел перед ним дворец. Опять какое-то сомнение овладело им. Но, вспомнив записку, вытащил он незаметно из-за обшлага маленький розовый конверт, зажал его в руке и, твердым взглядом окинув шеренги солдат, решительно повел их к воротам.
Часовой, отдав честь, как-то смущенно и тихо произнес пароль. Громко дал ему ответный Тараканов. Седой комендант, бледный и встревоженный, вышел из караульни.
«Его еще не тронем», – быстро решил Яков Петрович и, отдав саблей салют, уверенно произнес:
– По приказанию Его Величества. Для охраны дворца!
Комендант, успокоившись, сделал рукой пропускающий знак.
Поручик и солдаты вступили в темный широкий корридор.
Ясно и твердо знал Яков Петрович, как начать и как кончить; рукой, сжавшей конверт, забившееся, сильнее, чем обыкновенно, сдерживал сердце.
«Вот сейчас выйдем на свет. Караул у дверей, караул у других. Мне больше десяти человек не понадобится. Потом сигнал из окна. Она его тоже увидит. О, Eudoxie, помните ли вы сейчас меня? Все для вас и за вас».
Так быстро летели мысли и вдруг оборвались. Тихие знакомые печальные звуки флейты услышал Тараканов. Уже оставалось несколько шагов до конца корридора, и тусклым светом блестела большая зала, в которой у камина сидело несколько человек, как вдруг не своим голосом вскричал Яков Петрович:
– Назад, братцы, опоздали мы! – и первый, обернувшись, бросился бежать, передавая смятение и ужас всему отряду, хотя только одному ему и на одну минуту был виден преградивший путь мечом мальчик-подросток с бледным лицом и странно-красными губами, в блестящем одеянии, с флейтой в левой руке.
IV
«Погибло, ужели погибло все?» – думал Яков Петрович, когда отряд выбежал на площадь и унтер, видя расстройство офицера, принял командование и равнял спутавшиеся ряды.
Быстрая объяснительная ложь пришла Якову Петровичу в голову сама собой.
– Опоздали, братцы, неудача. Саперы заняли раньше нас дворец. Но не унывай. К Сенату! Марш-маршем!
И, слегка задыхаясь от недавнего страха, он побежал впереди отряда.
Странную веселость и бодрость обнаружил Яков Петрович в эти часы, когда стоял со своими друзьями и преданными им солдатами у Сената, ожидая каждую минуту гибели от наведенных уже на них пушек. Сама гибель казалась ничтожной перед той темной и страшной тайной, что владела душой Якова Петровича и открыть которую не посмел бы он ни одному человеку в мире. Уже пал жертвой безрассудной преданности Милорадович; уже заговорщики отразили нападение кавалерии; уже у пушек толпились артиллеристы, и последние увещания были отвергнуты твердо хранящими двойную присягу Константину и свободе. Ряды заколебались в ту минуту, когда у пушки синим пламенем вспыхнул фитиль. Яков Петрович, помня только одно, что должен, должен гибелью искупить он страшную тайну, бросился вперед и примером геройства своего удержал от бегства перед выстрелом.
«Eudoxie, перед вами виноват я», – в последний раз подумал он; и, закрыв глаза, ждал смерти.
С тяжким грохотом упал снаряд, штукатурка посыпалась с Сената, и кровавым пятном отметилось окно, в которое любопытный не в меру канцелярист высунул голову в ту минуту. Яков Петрович обернулся к смешавшимся рядам. Тщетно он и несколько офицеров призывали к послушанию. Будто обезумевшие, бежали солдаты, часть по Галерной, часть на Неву.
«Всему я причина», – подумал Яков Петрович и бросился бежать. Точно крылья выросли у него, и, пока солдаты толпились у крутого спуска Исаакиевского моста,{180} он перегнал их, прыгнул через широкую полынью у берега, и, когда прыгал, казалось ему, что кто-то поддержал его и подсказывает, что надо делать. Выхватив саблю, один пошел он навстречу солдатам и грозным «стой» остановил смятенных.
Подбежавшие офицеры построили кое-как ряды.
– На Петропавловскую, – крикнул Бестужев.{181} В знакомых чертах офицера на минуту мелькнули Якову Петровичу другие, тоже знакомые черты и странно красные губы. «Он с нами», – с ужасом подумал Яков Петрович, и в ту же минуту грохот разорвавшегося снаряда и треск льда оглушили его.
– Тонем! Константин! Свобода! Ура! – доносились крики. На минуту Яков Петрович потерял сознание. Он чувствовал мгновенный острый холод воды, потом кто-то тащил его, оттирал грудь, нагибался к лицу.
– Eudoxie, – тихо вздохнул он и открыл глаза. Уже совсем стемнело. Оба берега зловеще чернели без огней. На льду далеко были рассеяны кучки беглецов. Офицер наклонился к нему; приняв его за Бестужева, Яков Петрович прошептал:
– Михаил, все погибло?
– Ничто не может погибнуть. Все совершилось, как должно было совершиться. Я не Михаил, а Филимон.
В безумном ужасе вскочил Яков Петрович, узнавая бледное лицо и слишком красные губы.
– Вы, вы, – задыхался он. – Что вам нужно, зачем вы преследуете меня? Лучше смерть!
– Вы нездоровы, – сказал офицер тихо. – Вы поймете все. Вот, если захотите разъяснений, – он сунул ему маленький кусочек бумаги. – Спешите домой, пока путь свободен, – и, поклонившись, он пошел к противоположному берегу, хотя широкая полынья и заграждала дорогу.
V
Придя домой, Яков Петрович велел Василию запереть дверь и никого не пускать, пока он не позволит. Среди черных, в сафьяне, со знаками креста и чаши, масонских книг нашел Яков Петрович старый, закапанный воском пролог{182} и, открыв его в указанном на записке месте, прочел о том, как при Диоклетиане{183} в Египте, около Антинополя, при игемоне{184} Фиваидском Ариане было гонение; как некий Аполлоний-христианин умолил язычника Филимона, юношу, играющего на флейте, смениться с ним одеждами и вместо него принести жертву идолу; как Филимон, одев христианское платье, чудесно испытал благодать веры, и дождь, сойдя, был для него крещением; как Аполлоний и Филимон подверглись мучениям; как стрела, пущенная в Филимона, отраженная невидимой броней, возвратилась к пославшему и пронзила глаз игемону; как Филимон незлобиво обещал игемону исцеление землей с могилы мучеников.
Яков Петрович едва успел дочитать, как громкий стук в двери потряс дом.
Докончив страницу, еще не понимая всего, что заключалось в ней для него, успокоенный и просветленный, велел Василию открыть дверь пришедшему арестовать его полицейскому чиновнику с отрядом. И уже следуя за своей стражей, он повторял про себя строки пролога: «По мученіи нашемъ, персть отъ гроба вземъ, приложи ю къ своему оку и здраво око твое будѣть».
7 декабря 1909 г.С.-Петербург.

Таинственная история
I

I
Зима в том году стояла сырая и бесснежная. Туманы делали коротким петербургский день. Со свечами вставали и после полудня опять свечи зажигали. В девять же часов, по приказу обер-полицеймейстера, свет уж должен был быть везде погашен.{186} Охали рестораторы, нарастившие себе брюхо и мошну за веселое и гульливое время матушки-Екатерины.{187} Даже гвардейские франты присмирели; где уж думать о гулянках, когда в шестом часу надо дрожать на разводе; только и дум, чтобы амуниция была в порядке да с марша не сбиться; только и разговору, что о немилостях и ссылках.
Ни о балах, ни о картах никто не думает, разве государь прикажет кому созвать гостей и подпиской обяжет собраться всем званым, – так и тут, в танцах, как на плац-параде, боятся слово сказать, повернуться не по правилу, под зорким взглядом гневливого государя.
Машенька Минаева не выезжала вовсе в этом году.
Отец ее Алексей Степанович, адмирал в отставке, когда-то внесший и свое имя в славные списки героев Очакова,{188} не был в милости у нового двора{189} и, отговариваясь нездоровьем, заперся в своем небольшом, пожалованном покойной императрицей, доме на Фонтанке, мечтая с весны навсегда покинуть хмурую столицу для свободной жизни в обширной курской вотчине.
Машенька не скучала, однако, своим уединением, нарушаемым только частыми посещениями Михаила Николаевича Несвитского, поручика гвардии, еще осенью объявленного ее женихом.
Быстро пролетали дни для Машеньки. Примеряла ли она платья в девичьей, где десять искуснейших рукодельниц, не разгибая спины, с песнями кроили, вышивали, метили приданое; читала ли Машенька вслух отцу в кабинете английские газеты, совещалась ли с нянюшкой Агафьей о хозяйстве, все помнила о нем, о Михаиле Николаевиче, и о светлом счастье своем.
Вдруг среди разговора задумается она и улыбнется собственным мыслям своим, и все кругом нее улыбнутся, улыбнется и Алексей Степанович, и дряхлая Агафьюшка, и девушки, – всем радостно на радость ее смотреть.
А эти вечера, когда, сидя за шахматами со своим будущим зятем, размечтается Алексей Степанович о жизни в деревне, о свадебных торжествах или еще о чем, а Машенька вся вспыхнет за пяльцами от радостного смущения; или когда, разбирая с женихом в зале на клавикордах{190} французские романсы, перекинутся они ласковыми словечками, а иной раз и робкий поцелуй прозвучит в полутемной зале…
Только влюбленные оценят всю очаровательную прелесть этих вечеров, только они поймут то, что овладевало тогда Машенькой, заставляло забыть постоянное уединение, не чувствовать той смутной тяжести, что охватила весь Петербург с новым царствованием.
Михаил Николаевич Несвитский хотя и нес службу, но тоже, опьяненный любовью, не очень тяготился всеми суровостями, к тому же через дальнего родственника своего, занимавшего видное тогда положение, уже выхлопотал он себе разрешение весною подать в отставку и уехать в деревню для поправления хозяйственных дел.
Случилось как-то Несвитскому держать караул в новом, только что тогда отстроенном дворце.{191}
Расставив солдат, стал сам Михаил Николаевич в большой зале.
Ярко горели свечи в канделябрах (не любил государь темноты, требовал, чтобы весь дворец был освещен), пронизывающей сыростью веяло от стен, тусклые зеркала отражали белые колонны и обширную пустую залу.
Сначала жутко было и холодно стоять поручику, и вспомнились странные слухи о непонятных вещах, совершавшихся в угрюмых залах дворца, недобрых предзнаменованиях, вспомнились рассказы о последних лютостях царя, и невольно подумал он: «Скорее бы подале отсюда!»
Но вспомнив, что недолгий срок уже осталось переждать до радостного дня свадьбы и свободы, улыбнулся сам себе Михаил Николаевич, дал волю сладким мечтам и скоро обо всем на свете забыл, кроме невесты своей милой, прекрасной, думающей сейчас о нем, там, в тихом домике на Фонтанке.
Крепко задумавшись так, стоял Несвитский на карауле, отраженный десятком тусклых зеркал в пустой, ярко освещенной зале.
Когда с шумом распахнулась дверь, вздрогнул поручик, будто пробужденный от сна, и выронил шпагу из закостеневшей руки.
Император, в полной парадной форме, с лицом, багровым от гнева, выбежал из двери.
Вдогонку за ним, едва не коснувшись его головы, пролетела золоченая туфелька, звонко ударившись о паркет.
Спокойно вышла фрейлина Нелидова, подобрала туфлю и, удалившись, закрыла дверь за собой.{192}
В одну секунду произошло все это.
Едва опомнившийся Несвитский не успел поднять оброненную шпагу, как государь, заметивший его в зеркале, круто повернулся и подбежал к поручику.
Голубые глаза Павла белыми вспыхивали огоньками, у рта была пена, казалось, сейчас упадет он в припадке.
Задыхаясь, закричал он:
– Зачем вы здесь? Последний ремесленник больше знает свободы в своем доме, чем я. Шпионы! Глаз не спускаете! Нет, не дамся вам живым, не дамся! В каторгу! В Сибирь! Я вам покажу! Виселицы!
Визгливый голос его прерывался. Темнело в глазах у Несвитского, едва успел вымолвить он, дрожа:
– Караул держу, Ваше Величество!
– Какой караул! Кто распорядился! – опять кричал Павел. – Кто смеет! Субординацию, сударь, забыли. Как смеете разговаривать со мною! Снять с него мундир! В Сибирь, завтра же!{193} Шпионы, убийцы, не дамся!
Казалось, еще минута, и он бросился бы с кулаками.
Льстиво кто-то сказал:
– Не тревожьтесь, батюшка, Ваше Величество!
Будто опомнившись, обернулся государь:
– Ты, Кутайсов.{194} – И, не глядя больше на Несвитского, тяжело дыша, добавил: – На гауптвахту его. Прими оружие. Завтра разберу.
Закрыв лицо руками и как-то жалобно, по-детски всхлипнув, Павел быстро выбежал из залы.
– Пожалуйте шпагу, сударь, – сухо сказал граф Кутайсов почти терявшему сознание поручику.
II
На следующее утро долетела горестная весть до домика на Фонтанке. Писал один из старых друзей Минаева, что положение Несвитского очень плохо. Гневается государь и слушать не хочет о пощаде; верному Кутайсову, попробовавшему замолвить слово о поручике, досталось несколько пощечин.
Дрожали руки у Алексея Степановича, когда водил он бритвой по седому подбородку. Натянув слежавшийся, с потемневшим золотым шитьем, парадный мундир, в ленте и орденах, поехал Минаев со двора, узнавать и хлопотать о злосчастном женихе.
Выли в девичьей девушки, побросав работу.
Бле бродила, вся мокрая от слез, Агафьюшка, со страхом поглядывая на свою барышню, которая ни слова не сказала, ни слезинки не выронила, будто каменная, села в кабинете и сидела, не двигаясь, и час, и два, и три, дожидаясь возвращения отца.
Уже начинало смеркаться, когда приехал, наконец, Алексей Степанович.
Войдя в кабинет, молча обнял он, поцеловал Машеньку и, ни слова не сказав, прошел к себе в спальню. Да и не надо было слов, по лицу отца догадалась Маша о страшной новости: не удались хлопоты адмирала, отняла злая судьба жениха ее любимого.
Но Машенька и тогда не заплакала, странная мысль овладела ею.{195} Так твердо велела она няньке принести старую шубку и послать за извозчиком, что та не посмела спрашивать и отговаривать.
Ударил мороз в ту ночь, и холодная багровилась заря, когда Маша вышла за ворота. Приказав извозчику везти себя на далекую линию Васильевского острова, Маша задумалась.
Вспомнился ей во всех подробностях вечер в прошлом году у князя М.
Любил князь немногочисленному, но избранному обществу друзей, собиравшемуся по четвергам, предложить забаву какую-нибудь необычайную и диковинную: то картины как-нибудь из крепостных актеров составить, то балет, или пастораль какую; арапчат как-то выписал нарочно, чтобы пели и дикие танцы свои представляли. В тот же вечер, с особой радостной гордостью встречая гостей, предупреждал, что покажет искуснейшего мага и чародея, который или изрядный плут, или, действительно, кудесник, так как фокусы его объяснению не поддаются.
В маленькой гостиной горели две свечи.
Когда все собрались и разместились, князь ввел высокого костлявого человека в поношенном коричневом кафтане.
– Господин Кюхнер, – представил его князь.
Низко поклонившись, Кюхнер по-немецки сказал несколько вступительных слов. Он сказал, что есть много тайного, непостижимого в природе и что некоторым людям дана способность тоньше чувствовать эти непостижимые тайны и даже управлять, насколько слабых человеческих сил может хватить, этими тайнами.
Затем он попросил позволения погасить свечи. В темноте долго оставался недвижимым и безмолвным Кюхнер, потом вдруг слабый вспыхнул огонек у того места, где стоял заклинатель, смутные послышались звуки, будто вдалеке кто-то играл на арфе.
Необъяснимый страх вдруг охватил тогда Машеньку, и, не выдержав, она лишилась чувств.
Сеанс прервался; ее вывели.
Скоро, придя в себя, Машенька попросила оставить ее одну. Полежав некоторое время в спальне княжны, странное беспокойство испытала Машенька. Непременно захотелось ей повидать еще раз Кюхнера.
Гости уже сидели в столовой, и, пройдя по корридору, Маша нашла господина Кюхнера в маленькой гостиной. Он прохаживался, опустив голову и глухо покашливая. Был он очень бледен и казался глубоко уставшим. Пот капельками показывался на лбу из-под парика.
Маша подошла и заговорила с ним по-немецки:
– Простите, – сказала она, – я так глупо прервала ваши опыты.
Он посмотрел на нее рассеянно, будто не видя, потом вдруг взгляд его стал внимательнее.
– Вы, – начал он, – вы отмечены. Вы чувствуете не так, как другие. Для всех это забавные фокусы, вы же почувствовали мою силу.
Он вдруг смутился, закашлялся и замолчал. Маше невыносимо стало жалко его. Она протянула ему руку. Кюхнер осторожно взял своей холодной рукой маленькую Машину ручку и, будто почувствовав ее сожаление, сказал:
– Вы одна, милая барышня, подали руку мне. Что я для них? Шут, ловкий плут. Если бы только знали они, как тяжело мне достаются эти минуты, что я развлекаю их. Если бы только знали они, что… – Он опять оборвал свою речь и, помолчав, добавил: – Я сам виноват. На великие дела помощи и спасения надо было бы употреблять чудесные силы, а не на жалкие забавы; но я стар, слаб и не гожусь больше ни на что. Впрочем, клянусь, если когда-нибудь понадобилась бы вам, милая барышня, моя помощь, я бы напряг последние силы и сделал бы чудо, да, чудо!
Маше стало страшно; показалось ей, что безумен этот старый немец, а он вытащил кусок бумаги, написал свой адрес и подал ей с глубоким поклоном.
Больше Маша не видела Кюхнера и даже почти не вспоминала его.
Уже на полдороге хотела Маша вернуть извозчика, смешной и безумной показалась ей мысль, внезапно явившаяся, ехать к Кюхнеру и просить его помощи.
«Что он может сделать? Как пособит? Да и жив ли он, или не уехал куда», – тоскливо думала Машенька. Но что-то мешало ей вернуться, а извозчик уже съезжал на лед Невы.
Не без труда разыскала Маша красненький покосившийся дом Еремеева, обозначенный в адресе.
Спрошенная Машей на дворе толстая баба долго молчала, как бы не понимая вопроса, потом, зевнув, сказала:
– Немца тебе нужно. Живет здесь, да не знаю, не помер ли, уж очень слаб стал. В мезонин-то толкнись, – и она указала дверь.
Странная тревога овладела Машей, когда карабкалась она по темной скользкой лестнице.
В неопрятной, бедно обставленной, пропитанной насквозь запахом табака комнате лежал на диване Кюхнер. Он был в халате и без парика и показался Маше еще бледнее и костлявее с прошлого года.
Кюхнер сразу узнал Машу и не выказал удивления ее приходу. Он попробовал подняться, но, обессиленный, сейчас же опять склонился на подушку.
– Вы извините, фрейлейн, – заговорил он с жалкой какой-то улыбкой, – я не совсем здоров. Стар становится Кюхнер, слаб; уж не ездит в золотых каретах, не получает писем от князей и императоров.
Маша смущенно молчала, не зная, как заговорить о деле, которое казалось ей теперь неисполнимым.
Кюхнер, закрыв глаза, полежал молча несколько минут и потом спросил:
– Ну, расскажите, фрейлейн, чем могу помочь вам? Ведь я помню мое обещание, и никогда я не давал ложных клятв.
Сбиваясь, рассказала Маша о вчерашнем случае во дворце и гневе государя.
– О, ваш император жесток! – выслушав рассказ, промолвил Кюхнер. – Я знаю его. Гневом своим он может испепелить страны, но знайте, фрейлейн, есть силы, которые покоряют и государей. Гнев покоряется волей, волю покоряет другая, сильнейшая воля. Только бы мне увидеть его, заставить взглянуть в мои глаза, и вы увидели бы…
Маше становилось страшно, как в прошлом году, казалось ей, что немец безумен.
Кюхнер же поднялся и сел на своем диване, глаза его блестели, пересохшие губы странной кривились улыбкой.
– О, я бы хотел вызвать на последний бой. Кого? – Императора! А, розенкрейцер,{196} ты узнал бы власть старого Кюхнера! – так говорил он, воодушевляясь все больше и больше. Потом, будто опомнившись, он успокоился, лег и сказал тихим голосом:
– Завтра в два часа будьте в Летнем саду, и вы увидите нашу встречу.
Кюхнер закрыл глаза и, казалось, задремал. Помедлив, Маша тихо вышла из комнаты.
Приехав домой, Маша, как бы только что поняв страшное несчастье, постигшее ее, не раздеваясь, села на сундук и горько заплакала.
– Ну, слава Богу, с слезами-то горе выливается, – шептала, крестясь, Агафьюшка, хлопоча около своей питомицы.
III
Каждый день в определенный час государь имел привычку выходить на прогулку.
Чаще всего один, без свиты, быстро проходил он по главной аллее Летнего сада, иногда выходил на набережную и шел до Адмиралтейства, возвращаясь потом той же дорогой во дворец. Когда он был милостив, то любезно раскланивался с гуляющими и даже любил, если какой-нибудь проситель, упав на колени, останавливал его. Государь выслушивал просьбу и часто тут же ставил свою резолюцию, но так как светлых дней бывало меньше, и чаще государь был раздражен и гневен, тогда останавливал офицеров, находя упущение в амуниции, кричал на дам, не умеющих сделать положенного реверанса,{197} – то жители петербургские избегали в этот час показываться в Летнем саду, и только наивные провинциалы делались жертвой царского гнева.
Впрочем, государь как-то заметил, что Летний сад опустел, догадался о причине этого и очень гневался.
С тех пор была учреждена тайная очередь, и каждый день офицеры различных частей шли, крестясь и молясь чтобы прогулка обошлась благополучно, навстречу государю.
Всю ночь не отходила Агафьюшка от Машиной постели. Наплакавшись, уснула Маша, но спала неспокойно; словно в бреду, несвязное что-то бормотала она, то начинала звать жалобно Мишу, называя ласковыми его именами; то поминала незнакомое няньке имя господина Кюхнера и начинала быстро что-то лопотать по-немецки.
Молилась нянька, с уголка спрыснула девушку, плакала, будила Машу, но та как в горячке была. Хотела Агафьюшка уж будить барина, да побоялась, что за лекарем-немцем пошлют, а лекаря, словно черта, боялась старуха.
Рано утром проснулась Маша и сейчас же забеспокоилась узнать, который час.
Несмотря на все уговоры няньки, потребовала одеваться. Преодолевая слабость, тщательно умылась и причесалась, и даже выкушала горячего молока, принесенного Агафьюшкой. Казалась Маша спокойной и твердой; удивлялась, глядя на нее, старуха.
Только когда, выйдя в столовую, увидала Маша отца, за ночь будто на десять лет постаревшего, – не выдержала и, бросившись на шею Алексею Степановичу, зарыдала. Плакал и адмирал, как малый ребенок.
Первая успокоившись, нежно утешала Маша отца.
Около полудня тревога овладела Машей, приближался час, назначенный Кюхнером; боялась Маша, не знала, верить или не верить странному обещанию безумного немца.
После обеда, когда Алексей Степанович лег по обычаю отдыхать, а куранты пробили час, Маша отослала Агафьюшку на кухню, а сама, быстро одевшись, незаметно прокралась на двор и за ворота.
Сухой падал снег. Тускло было и холодно.
Почти бегом, будто боясь, что остановит ее кто, бросилась Маша по набережной Фонтанки к Летнему саду.
Проходя мимо дворца, вспомнила, что здесь томится жених ее, здесь и разлучитель их злой, – упало сердце, и показалось, что тщетны все надежды на спасение. Но как бы повинуясь чужой воле, продолжала она путь, уже не понимая хорошенько, что с ней делается.
У ворот Летнего сада стоял Кюхнер.
Маша даже сразу не узнала его; вчера показался он ей таким слабым, что представить не могла она, чтобы он двигался, сегодня же Кюхнер выглядел совсем здоровым, даже легкий румянец выступил на желтых, впалых щеках, тщательно выбритых.
Отвесив Маше низкий старомодный поклон, Кюхнер сказал очень просто и деловито:








