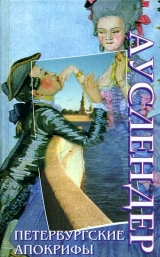
Текст книги "Петербургские апокрифы"
Автор книги: Сергей Ауслендер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 53 страниц)
– А жених-то, кажется, аукнулся, – обнимая мать, смеялась Наташа только наполовину с притворным весельем.
– Не пойму я тебя, Наточка; причудница ты у меня; добром не кончатся твои выдумки, – сокрушенно говорила Александра Львовна.
Наташа села за пианино и заиграла что-то бурное и веселое. Когда раздался на парадной звонок, Наташа вздрогнула. «Ужели он?» – подумала она почти с ужасом, но не перестала играть, хотя ноты прыгали в глазах. Смущенно пробежала горничная, сказала что-то, и Александра Львовна быстро прошла в переднюю. «Не он», – облегченно подумала Наташа и заиграла еще громче, как бы желая заглушить свой внезапный страх.
– Перестань! – сказала Александра Львовна таким изменившимся голосом, что Наташа резко оборвала музыку и повернулась на табурете.
– Князя убили, – тихо вымолвила Александра Львовна и опустилась на стул у стены.
В дверях стоял старик в лакейском пальто с большим воротником и, закрывая лицо руками, громко всхлипывал. Наташа будто во сне видела и слышала все.
– Ну, как же, как же случилось это? – спросила Александра Львовна.
– Не знаю, матушка; на улице зарубили, убили князиньку нашего, солнышко наше… на руках носил… – бормотал бессвязно Терентий.
– Княгиня просила нас приехать сейчас, – сказала Александра Львовна, вставая, но Наташа, кажется, не слышала ее слов.
На улицах было пустынно. Сырая оттепель окутывала все бледным туманом. Извозчичьи сани вязли в грязном снегу. Что-то говорила Александра Львовна, но Наташа сидела молча. Она не думала ни о князе, убитом женихе своем, ни о Мите, о котором мучительно не забывала ни на одну минуту. Сырой ветер почему-то напоминал ей корабль, какие-то далекие страны, все, не похожее на то, что окружало.
Только когда они подъехали к огромному дому на Сергиевской, очнулась Наташа.
«Дом князя М. В. Чугунова» – бросилась ей в глаза дощечка у ворот, и она в первый раз вспомнила: «Неужели правда, что он убит?»
От этой мысли ей стало страшно. Никто из близких ее не умирал, и мертвые внушали ей ужас.
«Неужели он умер? Не может быть. Как же теперь будет?»
Страх и жалость наполнили Наташу.
Проходя по огромной двухсветной зале, по изящно убранной маленькой гостиной, рассматривая все эти предметы почти царской роскоши, Наташа невольно думала: «Здесь жила бы я, и все это принадлежало бы мне». Ей было стыдно этих мыслей, и вместе подымалась острая жалость о чем-то утраченном. Вспоминался князь, такой ласковый, преданный, готовый повиноваться малейшему желанию ее.
Елена Петровна встретила Тулузовых в кабинете князя; она была так же тщательно причесана и одета, так же улыбнулась Наташе, только стала еще тоньше, еще беззвучнее стали ее движения.
– Ужасное несчастье, но доктора надеются.
– Он еще жив? – спросила вдруг Наташа.
Княгиня пристально посмотрела на нее.
– Его положение очень опасно, рана глубока, и череп… – Елена Петровна не кончила и как-то неожиданно заплакала, закрыв своими тонкими руками лицо.
Она плакала беззвучно, и мелкие-мелкие слезы катились между пальцев. Было что-то детское, беспомощное в ее тихом отчаянии.
Наташа встала, опустилась на колени и почти с ужасом повторяла:
– Не надо, не надо, не надо.
Княгиня перестала плакать.
– Да, да, не надо, – повторила она и открыла лицо. – Бог даст, он будет жить. Скажите, вы любите его?
– Я люблю его, я не хочу, чтобы он… я люблю его, всю жизнь буду любить его, – шептала Наташа, вся дрожа и целуя нежные руки княгини.
Та уже улыбалась сквозь слезы и старалась успокоить, в свою очередь, Наташу:
– Милая моя девочка, не волнуйтесь, мы будем вместе ухаживать за ним, мы спасем его нашей любовью.
– Да, да, я жизнь отдам за него. Я не могу жить без него, – повторяла Наташа.
Она была, как в бреду. Глядя на плачущую княгиню, показалось ей, что это она, Наташа, виновна во всем, и не было сил вынести нахлынувшего отчаяния и жалости.
Александра Львовна молча вытирала слезы.
– Можно видеть его? – спросила Наташа, когда княгиня подняла ее и посадила рядом с собой на диванчик.
– Он без сознания. Надо очень осторожно, чтобы не разбудить его. Всякое малейшее волнение гибельно, – сказала Елена Петровна и беззвучно пошла к двери, ведущей в спальню.
Наташа последовала за нею, подражая ее беззвучной походке.
Александра Львовна осталась в кабинете.
Приотворив слегка дверь, Елена Петровна не вошла, а проскользнула и знаком пригласила Наташу за собой. В комнате было совсем темно от опущенных плотных гардин. Только маленькая красная лампочка горела на столике у постели. Все предметы тонули в темноте; слабо выделялась большая кровать и белая пелеринка сестры милосердия, сидевшей в кресле.
Она не шевельнулась при входе Наташи и княгини.
Елена Петровна подошла к кровати. Наташе было страшно нарушить шорохом эту тишину, и она, сделав два шага, остановилась. Вытянув шею, она старалась разглядеть больного. Когда глаза ее привыкли к темноте, она увидела казавшуюся огромной от повязок голову князя. Лампочка слабо освещала левую половину лица, свободную от повязки. Эта половина лица – закрытый глаз и губы, будто слегка улыбающиеся (так хорошо знала Наташа эту робкую, почти детскую улыбку) – казалась совсем спокойной.
Сейчас проснется князь, откроет глаз, заговорит, и так обрадуется, увидев ее.
– Милый, милый, – прошептала одними губами Наташа и сейчас же неожиданно подумала: «Милый ли?.. Конечно, милый. Его я люблю, с ним буду счастлива», упрямо заставляла думать себя Наташа, но ей становилось почему-то тоскливо.
Елена Петровна тронула Наташу за руку:
– Пойдемте.
После тяжелой, темной спальни хотелось яркого солнца, и тусклый свет ранних сырых сумерек петербургских раздражал и томил.
– Но как же это случилось? – спросила Александра Львовна.
– Я не знаю подробностей, – заговорила княгиня. – Он ехал на извозчике. Случайно попал в свалку. Вы слышали про эти зверства. Ах, зачем, зачем мы приехали в этот страшный, варварский город? Впрочем, – все лицо княгини озарилось нежной улыбкой, и она привлекла к себе Наташу, – впрочем, если бы мы не приехали сюда, мой сын не узнал бы вас и не был бы счастлив.
Она приблизила к себе Наташину голову и несколько минут тревожно вглядывалась в ее лицо. Наташе опять стало стыдно и больно, опять вернулись жалость и нежность к этой маленькой, сломленной горем женщине, смотрящей на нее с такой тревогой и надеждой.
– Я люблю его, – почти крикнула истерически Наташа.
– Я знаю, я верю вам, – сказала княгиня и поцеловала Наташу.
– Ну, так вот, – продолжала она рассказ. – Он попал в толпу. Их гнали, безоружных, невинных, гнали и… – голос ее прервался. Вдруг гнев и ненависть охватили ее: – Я так не оставлю. Я разыщу убийцу. Я пойду к государю. Князья Чугуновы не раз проливали кровь за родину… – Опять слезы стали душить ее, но она сдержалась. – Сегодня будет консилиум. Профессор предлагает операцию, но это большой риск. Сегодня решат окончательно.
Тулузовы простились, обещая приехать вечером после консилиума.
– Так, значит, это правда? – спросила Елена Петровна Наташу, прощаясь.
Наташа только прильнула к ней, и та нежно гладила ее волосы и целовала, будто молча благодарила за сына. Наташа была взволнована и потрясена.
– Я не думала, – промолвила Александра Львовна, когда они уже сидели на извозчике, – я не думала, что ты так любишь его. Это мучило меня. Теперь, Бог даст, он поправится, и так хорошо все будет.
Наташа ничего не ответила.
На углу одной улицы извозчик испуганно задергал лошадь, хотел погнать быстрее, но потом торопливо своротил прямо на тротуар. Наперерез проскакал отряд казаков. В густых сумерках они казались призраками. Наташа вдруг вспомнила тот бессильный гнев, который на минуту охватил княгиню, когда она заговорила об убийцах своего сына.
– Мамочка, может быть, вот эти, вот эти убили, – хватая за руки Александру Львовну, шептала Наташа с ужасом и отвращением. Не выдержав, она вдруг заплакала.
– Не волнуйся, девочка моя милая, – старалась успокоить ее Александра Львовна.
– Не бойтесь, барышня. Не тронут уж больше, – обернувшись, сказал извозчик.
Смутные и тяжелые дни переживала Наташа. Она больше ни разу не плакала. Как ни старалась, она не могла вызвать больше настроения той нежной жалости, которую испытывала в первый раз при посещении Чугуновых.
Князю было несколько лучше, но все же опасность еще далеко не миновала. В комнату больного Наташу не пускали, но каждый день Тулузовы ездили на Сергиевскую. Эти визиты были мучительны для Наташи. Каждый раз, когда она видела Елену Петровну, ей становилось стыдно и тягостно. Они не говорили о любви Наташиной к князю, о том, что будет, когда тот поправится, но в улыбках, в поцелуях княгини было столько беспокойной нежности, что они мучили Наташу больше всяких вопросов.
Дома тоже было скучно; какое-то беспокойство ни на минуту не оставляло Наташу; часто по целым часам молча кружила она по комнатам, а когда становилось невыносимо, одевалась и под каким-нибудь предлогом бежала на улицу.
Она придумывала мелкие покупки, за которыми шла в какой-нибудь далекий магазин, или просто без цели бродила по целым часам, стараясь усталостью заглушить тяжелую, бессмысленную тоску.
В одну из таких прогулок, когда Наташа шла посетить старую гувернантку, на Пушкинской лицом к лицу ей повстречался Лазутин.
Оба шли быстро, крепко о чем-то задумавшись и, почти столкнувшись, одновременно подняли глаза и остановились на секунду, будто пораженные молнией.
Митя все это время сильно кутил. Он как-то почернел, как бы обожженный той неутолимой страстью, которая владела им. Под глазами были круги, бледность щек еще больше подчеркивалась синевой плохо выбритого подбородка. Но он не подурнел, напротив – в его надменной красоте появилось что-то новое – требовательное и дерзкое.
– Наконец я встретил вас, – первый заговорил Лазутин слегка сиплым голосом.
Наташа промолчала. Митя пошел рядом с нею.
– Все эти дни я ходил по улицам и думал, только бы встретить вас, – заговорил он.
– Вам, кажется, не было отказано от дома, и вы могли бы заехать к нам, если это так необходимо, – немного оправившись, насмешливо сказала Наташа.
– Да, это было необходимо. Я должен был сказать, что больше не могу, я люблю вас, вы это знаете… и ты меня любишь, любишь! – он шептал, задыхаясь, и нагибался к самому лицу Наташиному. Она почувствовала его тяжелое дыхание.
– Вы пьяны, – с отвращением сказала Наташа, стараясь освободить свою руку, которую крепко держал Лазутин. – Вы пьяны. Оставьте меня, или я…
– Да, я пьяный и развратный, а все-таки ты, невеста князя Чугунова, любишь только меня и будешь, будешь моей! – шептал Митя, действительно теряя сознание. – Ты придешь ко мне. Слышишь? – придешь. Я живу в Ковенском переулке, дом № 3, кв. 10, и ты придешь! – он сжимал Наташину руку до боли.
Странную слабость испытывала она. Он был отвратителен и страшен, и вместе с тем она чувствовала, будто действительно он имеет власть приказывать ей, и она не смеет сопротивляться.
Прохожие уже оглядывались на них удивленно.
– Ради Бога, не надо! Пустите меня! Митя, голубчик, что с вами? – говорила Наташа робко.
Лазутин опомнился, отпустил Наташину руку и промолвил, усмехаясь:
– Значит, вы помните мой адрес: Ковенский, 3, кв. 10. Буду вас ждать. А князь ваш еще жив, я слышал. Жалко, что я плохо рассчитал удар.
– Это вы его убили?! – с ужасом прошептала Наташа.
– Я еще не убийца, но я буду им, если вы… – Митя не договорил, притронулся слегка к фуражке и, повернувшись, пошел к Невскому.
Старая гувернантка, увидев Наташу, ужаснулась:
– Что с вами, мое милое дитя? Я слышала, такое ужасное несчастье постигло вас, но не надо отчаиваться. Вы на себя не похожи.
Прижавшись к гувернантке, Наташа заплакала, по-детски вздрагивая всем телом. Эти слезы как бы растопили тяжелую тоску, а встреча с Митей казалась кошмарным, невозможным сном.
Прошло дней десять.
Князю стало гораздо лучше. Он уже узнавал всех, и ему было разрешено разговаривать. Наташа по нескольку часов проводила с женихом. В комнате больного по-прежнему были спущены гардины, и только красная лампочка скупо освещала подушку, голову князя и столик с лекарствами.
Сестра милосердия уходила, и Наташа садилась в ее кресло.
Мысли и слова больного часто бывали туманны и несвязны.
– А знаете, Василий Петрович вовсе не Василий Петрович, а господин Léonas. Только это – страшная тайна. Пятьсот тысяч повесили, а ему все равно, он умный, он все знает. Когда мы поедем с вами в Ливерпуль, мы его спросим…
Князь каждый день начинал говорить о Василии Петровиче и об отъезде в Ливерпуль.
Наташе было сначала страшно, потом она привыкла, и ей казалось, что действительно поедут они в Ливерпуль и встретят там таинственного Léonas’a, который всему научит.
Часто, взяв Наташину руку, князь засыпал, а она неподвижно сидела часами, задумчиво смотря на красную лампочку.
Входила Елена Петровна, едва шурша платьем, нагибалась к Наташе через спинку кресла и целовала ее в лоб.
– Мы спасем его, мы спасем, – шептала княгиня.
Будто в дремоте жила эти дни Наташа; она не вспоминала прошлого, не думала о будущем. Какая-то вялость охватила ее. Приехав домой, Наташа ложилась на кровать и читала, что попадется под руку, или просто лежала с закрытыми тазами.
Как-то в конце января выдался солнечный и ветреный день.
Так бывает иногда, что вдруг, когда еще лежит снег, не греет тусклое солнце, совершенно ясно почувствуешь весну, просто вспомнишь по какому-то неуловимому намеку, что скоро уж, скоро растают тяжелые льды, заголубеет радостно небо, и от этого смутного намека томно заноет сердце, переполненное какими-то тайными, неисполненными желаниями.
Когда Наташа ехала по Литейному и с Невы подуло влажным ветром, вдруг нахлынул на нее пьянящий восторг. Кажется, с осеннего дня на острове не чувствовала Наташа себя так легко и радостно. Она улыбалась еще, когда входила в комнату князя, а Елена Петровна, идя сзади, говорила:
– Я не узнаю вас сегодня, милая Nathalie. Вы несете нам счастье. Посмотрите, князь, на вашу невесту. Один ее вид поможет вам лучше всяких лекарств.
Чугунов не улыбнулся почему-то на эти слова, и его глаз смотрел на Наташу почти сурово.
– Когда мы поедем в Ливерпуль, – начал он свой обычный разговор.
Наташа еще улыбалась, но ей было уже тоскливо и почему-то тревожно. Радость заглушалась этой мрачной темнотой, душным запахом лекарств и одеколона, бессвязными речами князя.
– Ах, предупреждал Василий Петрович меня, предупреждал, что плохо все это кончится, вот и накаркал, – бормотал Чугунов. Наташа села в свое кресло. – Вы думаете наверно, что я сумасшедший? – спросил вдруг Чугунов.
– Ну, вот какие глупости, – вяло возразила Наташа.
– Я измучил вас, милая моя, но ничего, скоро все кончится, – с нежностью заговорил Чугунов и взял холодную Наташину руку. – Все скоро будет хорошо. Я выздоровлю, мы обвенчаемся и уедем. Я почему-то мечтаю о Ливерпуле. Это не бред. Там хорошо. Такие бодрые, сильные люди, и свежий ветер с моря, а за городом зеленые лужайки. В парке пруды, и плавают белые лебеди, белые, белые… а Léonas… о, он все понимает.
Слова князя опять начинали мешаться, и скоро он замолчал, задремал.
Наташа вдруг вспомнила слова Мити: «Ты придешь ко мне».
Когда это было, во сне или наяву? Какой странный был Митя, такой новый, страшный и дерзкий.
Князь еще раз повторил: «Белые лебеди». Наташе казалось, что она сама начинает бредить.
«Ведь это он ранил его, да, – из-за меня», – думала Наташа, будто вспоминая что-то далекое, далекое.
Ей сделалось страшно; захотелось опять на улицу из этой давящей, зловещей темноты. Наташа осторожно высвободила руку и крадучись вышла из комнаты.
Она почти бежала по гостиной и зале. Лакей в передней удивленно посмотрел на нее.
Было уже сумеречно. Холодная сине-багровая заря охватила полнеба.
Наташа шла быстро, но еще быстрей неслись спутанные, тревожные мысли.
– Прикажите, барышня, – весело окликнул ее извозчик.
Наташа минуту постояла и потом сказала будто привычный адрес:
– Ковенский переулок, дом № 3.
Новозыбков.Июль 1912 г.

Поцелуи Венеции{304}

Переулки, то совсем узкие, то несколько шире, вывели меня снова на площадь Святого Марка.
Я только вчера прибыл в Венецию, и мне нравилось отыскивать самостоятельно, пользуясь Бедекером, дорогу на почту и обратно на площадь. Тут я сел на ступени одной из колонн и вскрыл полученное письмо.
«Милый Толя, – прочел я. – Пишу тебе уже в Венецию, – последний пункт, отмеченный в твоем маршруте. Слава Богу! Я не писала тебе, чтобы не испортить радости твоего путешествия, но теперь могу сказать, как страстно жду я твоего возвращения. Кирочка все лето прихварывал – я тоже не писала тебе. Да и вообще трудно и тоскливо все одной и одной. Очень прошу тебя, Толя, не утомляя себя, конечно, все же не очень задерживаться на обратном пути. Даст Бог, еще когда-нибудь соберешься, а теперь возвращайся, голубчик, домой…»
Это писала Таня, моя жена.
Я оглянулся кругом: голуби, пестрая шумная толпа. Венеция! Все эти недели я жил вне памяти прошлого, России, семьи. И сейчас, первый раз с самого приезда за границу, я вдруг почувствовал себя чужим и ненужным ей. Я даже встал и недоумевающе пожал плечами:
– Зачем я здесь? – почти вслух произнес.
В этот момент я забыл, как два месяца назад меня, полумертвого, отправляли за границу, как эта поездка казалась единственным спасением. Забыл, и каким родным чувствовал я себя в Италии, как короткими открытками отделывался от назойливых, мне казалось, вопросов домашних. Сейчас я чувствовал себя русским, чувствовал, что в России у меня остались мать, жена, двое детей. Чужая Венеция казалась неинтересной и ненужной.
Решительным шагом прошел я к столику кафе, тут же на площади, и, потребовав себе черного кофе, написал карандашом на открытке: «Дорогие Танечка и детишки мои. Возвращаюсь. Насмотрелся такого, что на всю жизнь хватит. Здоров. В Венеции пробуду дня три, не больше. Скоро обниму вас».
Я глотал отвратительный горький кофе и оглядывался, отыскивая почтовый ящик.
Звонкий голос у самых ног заставил меня вздрогнуть. Итальянский мальчишка разронял апельсины. Теперь он ползал на карачках, подбирая их, гримасничал и смешил прохожих. Два соседних итальянца протянули ему папиросы. Он закурил сразу две, но поперхнулся дымом, и папиросы при общем смехе полетели на землю. Тоже смеясь, мальчишка снова подобрал их.
– Грязные! – почему-то сказал я по-русски.
– О! Вы – русский? И мы – русский, – совершенно неожиданно выпалил мальчик, оборачиваясь ко мне.
– Хорош русский, – я невольно засмеялся, глядя на его черномазую физиономию.
– Русский, русский, – уверял он, и быстро затараторил по-итальянски, видимо, торопя меня кончить кофе и куда-то идти с ним.
Пирожные на моем столике внезапно привлекли его внимание, и, щелкая языком от удовольствия, он жестами попросил разрешения взять.
– Ну уж, так и быть, ешь, русский.
Я расплатился и встал. Мальчишка был подле, все убеждая идти с ним. Я показал ему написанное письмо, которое надо было опустить в ящик. Он понял, обрадовался и побежал вперед, сильно встряхивая корзину с апельсинами. Почтовое отделение оказалось в двух шагах.
– Vieni,{305} – снова позвал меня мальчик.
Из какого-то равнодушия, а не любопытства, пошел я за ним. Вошли в приемную антикварного магазина, сплошь заставленную напоказ разным товаром. Тут были и сумочки, и кораллы, и разные бусы и картины. Поднялись по лестнице во второй этаж и оказались в самом магазине. Какой-то странного вида человек встретил нас. Белокурые волосы, такие же борода и усы, особенно заметные на бронзовом от солнца лице. Мальчик что-то пояснял ему по-итальянски.
– Ах, синьор, вы русский? Пожалуйте сюда. Я – тоже русский.
– Вы – русский? – удивился я. – Как же вы попали сюда?
– А вот это – моя лавка. Я уже шестнадцать лет как уехал из России, из Петербурга. Да, из Петербурга. Синьор тоже из Петербурга? А это – мой сын, бамбино,{306} – указал он на моего знакомого мальчика, – сын, только он почти не говорит даже по-русски. Да и где научиться? Я сам начинаю забывать свой язык. Так редко слышишь его.
– И что же, вы не скучаете по России?
– Ах, синьор, что делать!.. Может быть, синьор посмотрит мой магазин. Синьор давно в Венеции?
Я стал спрашивать цену некоторых вещиц, принимая все это за обычную в Италии хитрость, чтобы заманить покупателя.
– Синьор не должен покупать. Я просто рад поговорить с русским, – остановил он меня. – Сядьте здесь, синьор, и, если будете добры, расскажите мне про Петербург. Что там нового?
Я рассказывал с особенным удовольствием все, что мог вспомнить о родном городе, все мелочи, даже какие новые памятники, мосты и церкви были в последнее время построены. Церкви особенно его интересовали.
– Молиться, конечно, можно везде, – вздохнул он. – Поверит ли синьор, – с жаром говорил он, – я даже вкус чая русского забыл. Сперва еще заходил в кафе, пил. Но здесь совсем не то, совсем не то.
– Как странно, а у меня взят с собой чай, но я с первой же недели бросил его пить и не вспоминал. Хотите, я вам принесу?
– Если синьор будет так любезен. Но и синьор выпьет с нами, не так ли?
– Хорошо, спасибо. Так сегодня, вечером, я приду.
– Если синьору угодно посмотреть что-нибудь в Венеции, то бамбино может его проводить, – предложил русско-итальянский синьор.
Я оглянулся на бамбино. Он тихо стоял подле сидящей у окна с работой женщиной.
– Это – моя жена, синьор, – пояснил хозяин, – синьора Бианка.
Я издали поклонился ей и успел заметить только бледное, усталое лицо и большие, будто незрячие глаза.
– Почему же вы теперь не вернетесь в Россию? – уже на лестнице спросил я.
– О, я бы никогда не жил в Венеции, – в Венеции трудно жить русскому, – но она не хотела уезжать.
Я не понял, о ком он говорит, и смотрел на него.
– Я женился, синьор. Синьора Бианка любит свою Венецию.
Я распрощался и ушел до вечера.
Вечером я пил русский чай у моих новых знакомых. Сам синьор глотал его с каким-то благоговением; синьора Бианка бледно улыбалась, а бамбино больше налегал на сласти, которые были поданы к чаю.
Я снова рассказывал о России и так увлекся, что забыл, где нахожусь, забыл, что, кроме синьора, никто из слушателей меня не понимает, когда вдруг, слегка звякнув чашкой, синьора Бианка отодвинула свой прибор, встала и молча и тихо вышла из комнаты.
Я смутился.
– Синьоре скучно, простите, ради Бога!
– О, нет, нет, – заторопился, тоже, видимо, смущенный, синьор. – Синьор не должен обижаться. Прежде синьора Бианка немного понимала по-русски, теперь, может быть, забыла… Но синьоре не скучно, – нет, нет, синьор. У ней горе, у синьоры, – он понизил голос.
– Горе у синьоры? – повторил я.
– Да, горе. Прошлый год умерла у нас дочка. Синьора Бианка так хотела иметь дочку. Сын не то, сын – на улице, дочь – в доме. И дочка умерла. С тех пор синьора Бианка все молчит и никогда не смеется.
– Но вы еще молоды… – начал я.
– Нет, нет, синьор не знает. Синьора Бианка больше не хочет…
Наступила некоторая неловкость, которую синьору так и не удалось рассеять, и я скоро ушел.
Ночь была лунная, вся площадь казалась сахарной, не настоящей. Блестела вода лагуны, сейчас совсем зеленая. Неприятно назойливо лезли воспоминания, виделись неживые глаза синьоры Бианки. Я досадливо повел плечами.
«Просто тихая помешанная. Нечего к ним больше ходить, вот и все».
С этим же решением встал я на другое утро. Было пасмурно. Я осмотрел дворец дожей, С.-Марка, пообедал и, ощущая какое-то смутное беспокойство, пошел, чтобы отвлечься, в академию. Но она оказалась уже закрытой. Решив побродить по переулкам, таким необычайным, которые можно видеть единственно в Венеции, я как-то неожиданно для себя оказался снова на площади и даже прямо против магазина моих знакомых. Сознаюсь, я был рад, что синьор заметил меня и привел к себе.
С этого дня дружба моя с этим странным семейством закрепилась. Уже не противясь желанию, проводил я у них весь день. Уходил только обедать.
Я смотрел, как зазывает покупателей и торгует в лавке синьор. Он теперь уже очень охладел к России, весь во власти своей новой, родной ему сейчас жизни. Смотрел, как курит, дерется с мальчишками, шалит и смешит окружающих бамбино.
А иногда сидел подле молчаливой синьоры Бианки, смотрел, как ловко и невозмутимо плетет она тончайшие кружева. Тут было тихо, как в церкви. Громкий голос синьора замолкал в ее присутствии, и одного взгляда ее незрячих глаз было достаточно, чтобы остановить любую шалость бамбино. Замечаний никому она не делала, вообще почти ничего не говорила. Не говорила она и со мной. И я часами просиживал молча, мечтая, может быть, вслух говоря свои мысли. Иногда она поднимала на меня глаза и долго смотрела не мигая, будто не видя меня, а может быть, читая в душе моей.
Так, как во сне, непостижимо шли дни. Во власти неясных чар находился я и забыл думать об отъезде. Жизнь остановилась и сосредоточилась в нездешних глазах синьоры Бианки.
В воскресенье синьор встретил меня предложением съездить на Лидо, благо погода стояла прекрасная. Бамбино прыгал тут же, убеждая ехать и прищелкивая от удовольствия языком. Хотелось знать, поедет ли синьора Бианка, но спросить было неловко, и я неопределенно, как бы нехотя, ответил:
– Пожалуй, поедем!
Оказалось, что синьора едет. На пароходе было тесно, и мы сидели в разных местах, так что я видел только спину и тяжелый узел темных волос синьоры Бианки. Я купил у газетчика игрушечную обезьянку-бибабо{307} и подарил бамбино. С ней он бегал по всему пароходу, смешил пассажиров.
Потом подошел к матери, и она обернулась, ища меня глазами, и я на минуту увидел ее бледное, усталое лицо и большой увядший рот.
Еще на пристани синьор встретил знакомых, и мы одни отправились на другой конец Лидо, к морю. Там, на громадной террасе над самым морем, мы уселись обедать. Синьор прибежал суетливый, озабоченный, рассказал что-то жене по-итальянски, а мне объяснил в двух словах.
– Богатый купец знакомый. Хорошее дело можно сделать, – и убежал, даже не выпив кофе.
К соседнему столику подошли двое, господин и дама.
– Здесь очень хорошо, – явственно донеслись русские слова.
Господин снял шляпу и широко перекрестился. Затем они сели за свой столик.
Мне почему-то не хотелось, чтобы они узнали во мне соотечественника, а бамбино уже волновался и дергал меня за рукав, повторяя: «Русские, русские!» Я поторопился расплатиться, и мы вышли на песчаный пляж.
Бамбино с разрешения матери убежал купаться, а мы уселись на сухом рыхлом песке.
Я лег на спину и смотрел в небо, а иногда и в бледное лицо синьоры Бианки. Но она не смотрела на меня. Ее глаза остановились где-то далеко-далеко, на краю горизонта. Такая усталая, с тоской неизбывной сидела она, что острая жалость и нежность необычайная пронзили меня.
– Как жаль, что вы не понимаете по-русски, синьора. Я бы мог многое сказать вам, но только по-русски.
Теперь ее глаза смотрели прямо на меня, и я снова заговорил, приподнимаясь на локте:
– Разве не странно, что судьба снова столкнула вас с русским? Ах, как жаль, что вы не понимаете по-русски, синьора. Именно по-русски. Судьба, чтобы вас полюбил русский, опять, как раньше, русский. Чтобы я полюбил вас, синьора.
Внезапно, не отводя с меня глаз, она поднесла палец к губам, как бы прося замолчать, и в тот же момент я услышал голос синьора, зовущего нас ехать домой.
…И снова я провожу целые часы в тихой комнате подле молчаливой синьоры Бианки. Она тонкими пальцами перебирает нити кружев и только изредка поднимает на меня свои немигающие глаза. А я смотрю на нее, и, как во власти непонятных, но сладких чар, не то думаю, не то вслух говорю свои мысли:
– Да, я уеду, синьора. Уеду, быть может, навсегда из вашей прекрасной Италии. Знаю, уж рвутся последние нити, видятся последние сны. О, сладкие сны Италии! И вы – последнее видение, тихий прощальный свет. Ваш образ сохраню я. Образ Венеции. Призрачная любовь призрачного города…
Эту дрему или явь прерывает приход синьора, смех бамбино, и я снова на время возвращаюсь к реальной жизни. Но сильны чары синьоры Бианки.
В среду, после обеда, встретил синьор меня озабоченно. Синьора Бианка непокойна весь день, а он должен отлучиться по делу.
– Может быть, синьор будет любезен проводить синьору на музыку? По средам, вечером, на площади – гулянье, музыка. Синьора развлечется, – говорил он.
И вот мы идем рядом. Небо черное, будто натянут черный бархат вровень с невысокими крышами домов. То громче, то совсем затихая, доносятся звуки духового оркестра. Толпа разноязычная снует, не соблюдая направления. Шум голосов, смех. Тут же – белые столики кафе. Нас толкают, идти неудобно. И я беру ее под руку. Теперь мне не видно лица синьоры, только нежные морщинки у глаза, только темная прядь волос, закрывшая ухо, теплая, такая тонкая рука в моей руке.
– Ах, как жаль, что вы не понимаете по-русски, синьора. Я мог бы рассказать вам про Россию, про мою семью. У меня есть дочь, дочь, о которой вы так безутешно грустите.
Я не вижу толпы, музыка доносится слабо, мы одни в этой темной бархатной ночи, и я говорю, близко наклонясь к плечу синьоры.
– Жаль, что вы не понимаете по-русски, я бы сказал вам, как нежно и пламенно люблю я вас. Нежностью невыразимой полно мое сердце. Ваш прекрасный печальный образ увезу я с собой на родину. Синьора, синьора Бианка, снова любит, любит вас русский…
И много-много нежных, сладких любовных слов подслушала в эту ночь Венеция, и долго ходили мы одинокие в шумной толпе.
Мы даже не сразу узнали бамбино. Он потащил нас в кафе, и я впервые за этот вечер увидел глаза синьоры Бианки. Солнце Италии было в них, – таким светом лучились они.
В первый раз услышал я ее оживленную речь, ее смех. Бамбино почти испугался и смотрел, не понимая, на мать, на меня. Он перестал щелкать языком и, вдруг затихший, как-то пугливо ел свое пирожное. А синьора, будто стараясь развеселить его, что-то говорила ему по-итальянски, только блестящие по-новому глаза ее смотрели все время на меня. Мы выпили вина, чокаясь, смотря друг другу в глаза, и даже не заметили, как и когда ушел бамбино.
Теперь я оглядывал толпу, с ясностью запоминая каждую мелочь, лица, покрой костюмов, будто видя все в последний раз.
С таким же чувством отчужденности смотрел я в освещенные по случаю музыки окна магазинов, отчетливо запоминая и розовые камеи, и нити янтаря.
И поцелуй, которым я коснулся губ синьоры Бианкн на темной лестнице в ее квартиру, – поцелуй, от которого она не отстранилась, – был для меня – я знал это – прощанием с Италией.
Я снова вышел на площадь. Моросил дождь. Кружево дворца дожей казалось декорацией. Хотелось в тепло, скорее в свою комнату из этой душной сырости.








