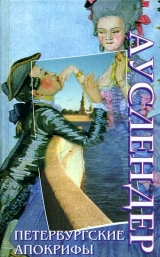
Текст книги "Петербургские апокрифы"
Автор книги: Сергей Ауслендер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 53 страниц)
– Здесь такая духота. Никакого передвижения воздуха. Прямо виски ломит. Жан, где мой сак, – обратилась она к Клеопатрову, – я должна освежиться!
– Мамочка, последнюю рюмашку и выкатимся, – лопотал тот.
Барышни поднялись за ней, и только самые усердные питухи остались в слишком хорошо самоваром, дыханием зрителей, лампой, папиросами нагретой комнате.
При одевании Оконников поддержал кофточку Баварской.
– Весело, – сказала она, завязывая косынку.
– Вы на меня сердитесь? – спросил Оконников.
– Я? Что вы. Разве я сердитая, Дмитрий Петрович?
– Апельсинчик с мармеладом, – пьяно ухмылялся тот.
Только охваченный свежим воздухом, Оконников почувствовал, что у него страшно болит голова и тяжелая муть подступает к горлу.
Разбрелись по темной улице парами и небольшими кучками. Тучи, быстро несясь, открывали то звезды, то узкие края месяца. Оконников шел сзади с мало знакомыми ему конторщиками. Все смутным и вместе отчетливым, как во сне, представлялось ему, и себя видел он, будто наблюдая со стороны. Входя вслед за всеми по крутому крыльцу в чью-то чужую избу, Оконников пошатнулся, оглянулся, не заметил ли кто-нибудь этого, и, поймав себя на такой мысли, улыбнулся в темноте.
«Где я, зачем я здесь, в этом занесенном снегом Кукушкине? Я – слагатель „непонятных, влекущих нежным бесстрастным грехом строчек“, как писал…» – кто так писал о нем, вспомнить он не успел, так как дверь уже отворилась, и визгливой гармоникой, гулом голосов, духотой плотно наполненной людьми избы ударило во входящих.
– На нашу поседку милости просим, гости дорогие, – кланялась степенная, толстая хозяйка, сильно навеселе.
Как в банном пару, двигались люди, плясали сосредоточенно, с потными серьезными лицами, выводя частушку, по углам жали масло, смеялись, взвизгивая:
У часовеньки ходила,
Золоты часы носила.
Только просидев несколько минут, Оконников мог разбирать лица, цвета лент у девушек, узоры ситца, иконы в углу, ребят и старуху на печке, слова песни, движения пляшущих. Все это еще с большей ясностью, чем всегда, запомнилось ему и потом не забывалось. Гости держались кучей в сторонке.
– Ну что ж мы будем сидеть так. Давайте и мы плясать, Дмитрий Петрович, – закричала Антонида Михайловна.
– Нет, уж вы одна, – упирался Селезкин сконфуженно.
– Девки, девки в круг, – закричали парни и стали выталкивать своих дам на середину, сами становясь хороводом.
Оконников тоже встал рядом с Лямкиным. Девушки затянули длинную песню, изображая танцами то, что пели.
Антонида Михайловна плясала с ними.
Кого любит,
Того поцелует —
визгливо оборвалась песня. Девушки, закрываясь руками, старались не исполнить последнего обряда.
Антонида Михайловна первая, не колеблясь, не обертываясь, быстро подошла к Селезкину и поцеловала его в самые губы. Лямкин выдернул свою руку из руки Оконникова.
– Вот так барынька. Здорово. Вот и вы нас так, – приставали парни к уже сдающимся девушкам.
Даже сам Селезкин казался растерянным таким публичным доказательством. Он улыбался пьяно и виновато.
– Можно, можно разве это снести. Вы должны… – шептал Оконников Лямкину, хватая его за руку в темных сенях, когда все шумной гурьбой выходили на улицу.
– Отстаньте хоть вы-то, – грубо вырвав руку, крикнул тот.
Большой костер уже пылал; ребятишки, вытаскивая снопы горящей соломы, разбегались по переулкам, и вспыхивали костры по всей деревне.
– Через огонь, через огонь прыгать! – и первая Антонида Михайловна, сбросив шубу на руки Селезкина, скакнула в пламя, скрывшись в дыму. За ней с визгом прыгали другие барышни и конторщики. Клеопатров, прыгнув, сел в самый огонь, и его вытащили сильно опаленного.
Деревенские тесным кругом наблюдали из темноты за играми незваных гостей, посылая шутки и восклицания все менее любезные.
– Ты что же это Машку-то трогаешь? Крепостная она што ли тебе, или в морду хочешь? – раздался чей-то сильно пьяный голос.
– Ну, ну, потише. Уж и пошутить нельзя, не растает, – оправдывался кто-то из приезжих несколько испуганно.
– Ты с своими фабричными гулящими и шути, а наших не замай. Да и все убирались бы к чертовой матери.
Барышни, встревоженные неучтивыми словами, спешили ретироваться. Из толпы поощрительно смеялись.
– Нет, я тебя и не отпущу. Может, она уже и давно в твоих полюбовницах ходит.
– Да что ж это? Братцы, заступитесь, – призывал голос покинутого на жестокую расправу.
Несколько конторщиков, собравшихся было сопровождать барышень, нерешительно повернулись назад. Лямкин и Селезкин были в числе их. Оконников пошел, не отставая ни одного шага от Лямкина.
В темном сугробе уже копошились.
– Полно вы, что за драка, – сказал кто-то неубедительно.
– Да что вы смотрите на них! Наших девок портить!
– А, разбой! Вот как я их разнесу! Васька, где мой браунинг, – орал Клеопатров и первый бросился вперед. Остальные последовали за ним, не то убеждая, не то наступая. Оконников не отставал; чья-то рука сшибла его шапку, и, нагнувшись пошарить ее, он ясно видел, как блеснул нож от головни, пролетевшей над их головами и на минуту осветившей также лицо Лямкина, совсем близкое, почерневшее, с сжатыми губами и глазами, полузакрытыми, как бы в страстном томлении.
В быстро наступившей опять темноте несколько секунд продолжалась свалка. Оконников смятый упал лицом в снег и не пытался встать.
– Господи, ведь убили кого-то, – и все стало тихо, Оконников подумал, что это говорят про него, приподнялся и громко засмеялся: «Ну, еще не совсем», но никто не ответил на его смех.
Встав, он увидел Александра Петровича Селезкина, лежащего ничком в снегу у самого костра. Котиковая шапка его упала в огонь. Еще не понимая, что случилось, Оконников сказал: «Шапка-то сгорит», – но вдруг догадавшись, в чем дело, по молчанию столпившихся кругом недавних бойцов, остановился доставать из костра уже тлеющую шапку.
VII
Подлесье
Оконников достал уже давно не надеваемые городские одежды: серый с желтыми полосами пиджак, черный бархатный жилет и остановился над галстуками: все они были слишком ярки для того, чтобы придать вид скромного и почтенного достоинства, с которым подобало ему сегодня держать себя.
Он выбрал лиловый с легкими крапинками и, одевшись, вышел в гостиную осмотреться в зеркало.
– Готовы? – окликнула его Мария Евгеньевна, сидевшая в большом платке на диване с ногами.
– Скажите, – заговорила она после некоторого молчания, – как все это случилось? Все эти дни я думаю об этом. Пьяная драка, свалка, все это так обычно для наших мест. Как наш кучер рассказывал, возвращаясь с праздника: «Большое гулянье было, пятерых убили, не считая старухи», – а старухе отрубил голову ее собственный сын, когда она не дала ему денег. Но здесь что-то было не то, не то.
– Вам хотелось бы, чтобы было не так просто? – спросил Оконников у зеркала, оправляя воротничок.
– Да, Александр Семенович, не так просто, – ответила она тоном, как показалось Оконникову, почти догадавшейся и, сам не понимая зачем, он повторил:
– Да, не так просто, Мария Евгеньевна.
Дама, еще плотнее закутавшись в платок, не спрашивала больше, как бы зная, что какое-то признание уже стало необходимым и без расспросов, ожидая его с нескрываемым волнением, которое помимо воли передавалось и ее собеседнику.
Оконников закурил и прошелся по комнате.
– Ведь убийца неизвестен, – сказал он.
– Да, но вы-то, вы-то его знаете, – произнесла Мария Евгеньевна,{254} почти до шепота понижая голос.
– Я не понимаю, почему вам хочется таких высоких трагедий. Я же не поклонник уголовных психологий во вкусе Достоевского.{255}
Но улыбаясь, стараясь говорить спокойно и досадливо, Оконников в первый раз с вечера в Кукушкине почувствовал, что что-то непоправимое и страшное совершил он, что сам он не знает, к чему это все приведет его, к каким словам, к каким поступкам.
– Да, конечно, я знаю убийцу, – быстро заговорил он, не успевая даже думать раньше слов, как будто кто-то другой за него произносил их, – то есть я знаю, что Селезкина убил я. Я задумал и знал, что так будет, еще когда никто об этом и мысли не имел.
– Что вы говорите! – вскрикнула Мария Евгеньевна, подымаясь, – не может быть. Вы больны,{256} голубчик Александр Семенович. Я совсем не об этом. Я думала, Лямкин вам признался, помните, вы намекали. Но чтобы вы! не может быть, замолчите, замолчите, какой ужас! – И она выбежала из комнаты, закрывая голову платком.
– Что за вздор, этого только недоставало, – сам не замечая, что повторяет слова вслух в пустой уже комнате, говорил Оконников и, взглянув в зеркало, не узнал он своей кривой улыбки, запекшихся губ, блуждающих глаз, лица почерневшего и чем-то странно напомнившего ему лицо Лямкина, освещенное летевшей головней, там, в Кукушкине.
Впрочем, скоро он, овладев собой и, выходя из дому в городском, весеннем уже пальто, что-то напевал.
В гору подыматься было трудно по сильно подтаявшему снегу. Солнце село, и розоватые облака, в первый раз уже по-весеннему, манили сладкими и томными обманами.
Весело и спокойно окликнув впереди его шедшую Шурочку, болтал Оконников с ней, даже с некоторым удивлением вспоминая, как по-другому мог звучать его голос несколько минут тому назад.
– А что же ваш брат? – спросил Оконников.
– Фетя прямо с фабрики придет. Ведь вот как случилось?
– Что случилось?
– Да Дмитрия Петровича убили.
– Вам жалко?
– Конечно, жалко, такой молоденький, хорошенький, хотя мы с ним мало знакомы были. Ведь Антонидин выкормыш, а она своих не очень-то к другим барышням подпускает.
– А как Феоктист Константинович к этому всему относится? – спросил Оконников, пристально смотря куда-то в сторону на серые ветки голых берез.
– Ему очень неприятно. Они товарищи считались, и потом, совсем на руках почти у него умер Дмитрий Петрович. Ведь вы тоже были около него тогда?
– Да, мы все стояли рядом.
– Его сегодня к следователю вызывали.
– Ну, и что же?
– Показал, как было. Кукушкинские не признаются. Пьяны, говорят, все были, ничего не помним. Фетя тоже ничего не видел.
– А нож не нашли?
– Вот про это уже не знаю. Да вас тоже, вероятно, вызовут.
– Наверно.
Они поднялись уже в деревню. Часовня стояла у околицы на пригорке. Батюшка в низких розвальнях перегнал их и, спешно перекрестившись, вошел, сгибаясь, в часовню. Ожидающие на паперти входили за ним, бросая папироски и болтая.
Оглядев с вдруг нахлынувшей тоскливостью, как бы в последний раз розовые облака, далекие во все стороны снега полей, синевший за прудом лес, Оконников вошел в низкую, скупо освещенную часовню, где батюшка, торопливо облачаясь, уже начинал печальными возгласами панихиду о новопреставленном рабе Димитрии. Со света Оконников сразу не мог ничего разобрать. Он протолкался от входа, и первое, что разглядел, привыкнув к сумеркам, было розовое лицо, улыбавшееся, с полузакрытыми глазами, с светлыми сбившимися на лоб смешными и трогательными кудельками.
Оконников в первую минуту как-то не понял, что это лицо Дмитрия Петровича, лежащего в гробу в том самом парадном коричневом пиджаке, в котором он танцевал неделю назад на балу после спектакля. Он совсем не изменился: крахмальный воротничок и криво завязанный галстух совсем делали его живым; образок на сложенных руках и погребальный венчик на лбу казались странными, почти кощунственными при этой улыбке, не то наглой, не то глупой, которая запомнилась Оконникову с того дня, когда повстречал он Селезкина по пути к Антониде Михайловне.
Зажгли свечи. Шурочка, стоявшая рядом с Оконниковым, шепнула:
– Евоная мать, сегодня приехала, – и указала на маленькую, беленькую, в купеческой шляпке с цветком, старушку, плакавшую беззвучно, у самого гроба. Оконников оглядел ее с тупым и тоскливым любопытством и, отвернувшись, стал рассматривать других.
Баварская в черной косынке стояла спереди и, не оглядываясь, истово крестилась, задерживая руку у лба. Остальные стояли с скучающе-равнодушными лицами. Елизавета Матвеевна Тележкина, войдя, сразу басистым шепотом заговорила кому-то: «Почем телятину брали у Мамашиной?» Потом, поймав взгляд Оконникова, приветственно закивала головой и спросила на всю часовню:
– Отчего не зайдете, Александр Семенович? Я про вас кое-что знаю.
Оконников отвернулся, будто не заметив. Обиженная дама, шурша шелком, шумно закрестилась. Неожиданные и неподходящие мысли приходили Оконникову.
Он крепко задумался и очнулся только тогда, когда кто-то тронул его за локоть.
– Вам нехорошо?
– Нет, право, ничего, – слабо ответил Оконников, поднимая глаза, но вдруг почувствовал ладан, который еще с детства действовал на него странно, сладко заволакивал и кружил голову. Все смотрели на него.
Лямкин, взяв под руку, как-то особенно осторожно и ласково вывел его на галдарейку, окружавшую часовню.
– Теперь лучше? – спросил он с нежной участливостью.
– Совсем хорошо, совсем хорошо, так славно, – говорил Оконников, радость какого-то освобождения чувствуя от снежного воздуха, от не совсем еще побледневшей зари и ласковости Лямкина.
– Сморило вас, душно уж очень, – сказал тот.
– Знаете, – заговорил Оконников через минуту, – знаете, тогда там в Кукушкине была минута, когда я колебался. Я чувствовал, что одно движение, одно напряжение, и ничего бы не случилось, но я не захотел.
– Про что вы говорите? – спросил Лямкин и взглянул, вскинув густыми ресницами, прямо в глаза глазами встревоженными, но непритворно недоумевающими и невинными.
– Нож отклонить ведь можно было одну минуту… Помните, но я не захотел и знаете для кого, для вас.
– Что с вами, Александр Семенович? – пугливо сказал Лямкин.
– Я вас не выдам, – еще тише шептал Оконников, – нож я припрятал, когда за шапкой нагнулся. Отдам вам.
– Вы с ума сошли! – вспомнив вдруг и письма в почте, и слова Оконникова, и сегодняшний допрос, догадавшись, к чему шло это все, гневно закричал Феоктист Константинович, побледнев нечеловеческой бледностью.
– Вот вы куда гнете? Меня запутать хотите. Я при всем народе сейчас объявлю, как дело было и чего вы хотели. Да знаете, если бы убивать я хотел, вас, вас бы убил. Вы на дороге мне стали, этот так, глупость одна.
– Тише, тише, ради Бога, успокойтесь, могут услышать, мы поговорим потом, – шептал Оконников.
– Да и говорить-то нам не о чем. – Лямкин, отдернув свою руку, быстро пошел вниз к деревне.
Из часовни вышли инженер Грузкин и невысокий старичок в валенках выше колен и дубленом полушубке.
– Господин Коровин, – познакомил как-то сумрачно Грузкин.
– Очень приятно, очень приятно. Вы и будете литератор Александр Семенович Оконников? Очень приятно, – обеими руками тряся руку, шамкал Коровин.
VIII
У ворот
Мария Евгеньевна не вышла к вечернему чаю. Грузкин был молчалив и пасмурен.
Барышни робко и пугливо жались друг к другу и разошлись сейчас же по своим комнатам.
Смутная тревога и досада овладевали Оконниковым. О завтрашнем допросе он не думал, но вдруг все происшедшее теряло смысл и делалось тягостным, ненужным и пугающим. Хотелось забыть все, что произошло, и особенно последний разговор с Феоктистом Константиновичем, такой неожиданный и, как казалось Оконникову, незаслуженный, но заставить себя думать о Петербурге, литературных планах, о знакомых – не удавалось, будто ничего не осталось больше, кроме странных и страшных дней между Кукушкиным и Подлесской часовней.
В темной гостиной Оконников пробовал петь, но хриплым и чужим казался ему собственный голос, и свечи у пианино наполняли его детским страхом.
Несносная и всегда казавшаяся какой-то позорной боль на вид обманно здорового зуба, возобновляющаяся часто в самые неподходящие и неудобные минуты, уже начиналась и не предвещала возможности заснуть и тем привести к утренней стройности все разорванные ненужные страшные мысли, власти которых он не умел уже сопротивляться.
Это была не жалость, не раскаяние, не страх, а какое-то ощущение пустоты, которая заполняла все чувства, все мысли и все рассуждения, приводила к одному тупику.
«Ну что ж, – думал Оконников почти вслух, мучительно преодолевая несносную боль, – ну, убил я, ну, не нужно это никому оказалось. Ну что ж, ведь не господина же я Коровина боюсь, не огорчаюсь же я невниманием какого-то Лямкина. Но что же тогда нужно и важно?»
И господин Коровин как нарочно тоже не поддавался напускному равнодушию, хитро как-то подмигивая и что-то суля еще, от чего холодно и мерзко становилось, и обида, нанесенная Лямкиным, не заживала. И главное, ни один исход не пленял радостной надеждой избавления. Хотелось лечь к стене лицом и лежать так без конца, всю жизнь.
Оконников вспомнил, как когда-то на улице он видел пьяницу, вытолкнутого из трактира. Все было прожито, ничего больше не хотелось. Как вытолкнули его головой в грязь, так и остался он лежать, хотя был уже не пьян, но куда же было идти и чего желать?{257}
Оконников накапал на сахар горьких и опасных капель, от которых доктор предостерегал его, и, не успев раздеться, повалился на неоткрытую постель, не заснув, а как-то перестав чувствовать все в тяжелом, давящем голову и грудь забытие.
Впоследствии Оконникову казалось, что видел он в эту ночь Дмитрия Петровича. Будто бы тот пришел к нему в комнату и ухмыльнулся, глупо-глупо.
– А шапка-то моя?
Оконников заметил, что у него противные нечищенные зубы с зеленым налетом, и стал он ему так мерзок, так мерзок.{258}
– Ну, что же? – спросил Оконников.
– Я вам сейчас покажу, – ответил тот, засмеялся своим блеющим смехом и вышел.
Был ли это сон, или бред, или отрывок из какого-то еще давнего разговора, Оконников вспомнить не мог, впрочем, особенного значения этому и не придавая.
Проснулся Оконников от страшного, как ему показалось, стука.
Лямкин стоял под окном и стучал пальцем в стекло. Оконников первую минуту заметался по комнате, не зная, что нужно сделать, потом открыл форточку. Веселым солнечным морозным утром ударило в него, и, не понимая еще того, что говорил ранний посетитель, он улыбался в ответ.
– Выйдите-ка, Александр Семенович, – сказал Лямкин.
– Сейчас, сейчас, – и радостно захлопотав, натягивая сапоги, улыбался Оконников, будто не было вчерашнего вечера, будто не по тому же страшному и непоправимому делу выстукивал его Феоктист Константинович.
Лямкин похудел и побледнел за ночь, щеки чуть-чуть впали, глубоким кругом обозначились глаза и еще реже поднимал он свои длинные черные ресницы, говорил медленно глухим и часто прерывающимся голосом.
Но спокойствие чего-то уж крепко решенного заметил в нем Оконников, что-то иноческое, если не мученическое, в его печальной, но твердой тихости.
– Я хотел вас предупредить, Александр Семенович, чтобы вы показали сегодня на меня. Я признаюсь, – говорил тихо Лямкин.{259}
– Как на вас? К чему это? Разве вы убивали? – сам не зная почему, вдруг усомнившись в том, в чем так бесповоротно был убежден, воскликнул Оконников.
– Нет, я не повинен, но лучше на каторгу пойти, чем еще такую ночь перенести, как сегодня. Вывертываться каждую минуту, бояться, что поймают тебя на слове, биться, как бы оправдывать себя, невинного ни в чем. Да и не выбиться, улики есть, на других подозрения нет, а следователь наш не таков, чтобы оставить на суд Божий что-нибудь. Он скрутил. Да и виновен я.
– В чем же, Феоктист Константинович?
– Мысли темные имел. Ненависть имел такую, что мог бы и в самом деле до ножа дойти, да не успел, видно.
– Против Дмитрия Петровича?
– Нет, Александр Семенович, – Лямкин в первый раз поднял глаза на собеседника, – нет, уж говорил я вам, против вас, против вас был бы мой нож.
– Да за что же, Феоктист Константинович, ведь я так старался, для вас все устроить хотел.
– Вот это-то устройство и трудно было мне сносить. Если бы любили вы Антониду Михайловну, как она вас, ну, погрустил бы и утешился. А то и себе не берете, и от себя не отпускаете. Ну, вот и устроили. Нестерпимо это ваше устройство. Теперь я утешился, все не по-вашему вышло. Сегодня у меня радость большая.
– Какая? – чуть слышно спросил Оконников, раздавленный всем, что он услышал, и вдруг понял.
– Матушка с Антонидой Михайловной помирилась, и обе решили, как быть.
– Ну и как же быть? – как бы не про себя спрашивая, произнес Оконников, вспоминая мать Лямкина, высокую, строгую старуху в очках, с гладко причесанными седыми волосами.
– Если засудят, отбуду. Антонида Михайловна со мной поедет.{260} А может, и помилуют.
– Да послушайте, значит, все это неверно, значит, вы невинно страдать будете. Это невозможно.
– Мне все равно теперь, только бы это кончилось.
– Что это?
– Ваше устройство. Власть ваша над нами, да и нет ее больше, нет больше над нами.
– Вы ненавидите меня?
– Нет, теперь уже нет. Ведь вы добра нам желали, загубить человека за нас хотели. Да не так все надо было делать. Вот и случилось.
– Как быть-то теперь? – спросил уже совсем про себя Оконников растерянно.
– Не знаю уж, как быть вам. Для себя-то знаю твердо. Прощайте, Александр Семенович. Лихом не вспомню. Не огорчайтесь уж так-то. Пройдет, – совсем ласково добавил он, беря за руку Оконникова.
– Прощайте, – он нагнулся, поцеловал как в столбняк впавшего Оконникова и быстро пошел к фабричным воротам.
Когда он уже скрылся за высоким, как монастырь ограждающим фабрику, белым забором, Оконников опомнился, хотел догнать его, сказать что-то, но сторож-татарин с огненно-красной бородой, верный и равнодушный страж, преградил ему дорогу в воротах.
29 июля 1909.
Парахино.









