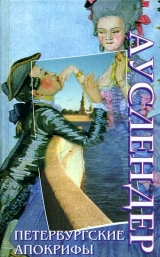
Текст книги "Петербургские апокрифы"
Автор книги: Сергей Ауслендер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 53 страниц)
– Ты удивляешься? Не узнаешь меня? – спросила она, улыбаясь, поймав на себе Мишин взгляд. – Я сама не узнаю себя. Так весело, так хорошо жить. Больше я ничего не чувствую. И представь себе, мне как-то решительно стало все равно. Любишь ли ты меня, любит ли Ксенофонт. Право, я слишком много придавала этому значения.
В ее улыбке было что-то высокомерное и вызывающее. Будто она ждала возражений, но Миша промолчал. Он не оскорбился, он вдруг почувствовал небывалую легкость и любопытство, больше ничего.
Отодвинув тарелку и прихлебывая из высокой кружки золотое пиво, Юля Михайловна продолжала:
– Ксенофонт сказал бы, что я мертвая и радость моя – освобождение смерти. Ну и пусть. Я не хочу больше жизни, рабства и мучений. Кстати, я велела тебя записать в книге моим братом, моим младшим братом. Не правда ли, это будет всего удобнее? – И вдруг, переменив тон, она сказала с насмешливой нежностью. – Мой милый, маленький братик, я буду заботиться о тебе и никогда, никогда не буду мучить, маленького.
Она погладила Мишину руку.
Когда они проходили, из-за соседнего столика, где сидела шумная компания студентов, один высокий белокурый молодой человек поднял кружку, и Миша заметил, как Юлия Михайловна улыбнулась ему.
Будто в самом деле младшего брата, Юлия Михайловна усадила Мишу в карету и повезла по заранее намеченным магазинам.
Мише нравилось, как быстро и деловито выбирала Юлия Михайловна все нужные и ненужные вещи. Его совершенно покоряла ее энергия. Видимо, она до мелочей заранее обдумала Мишин туалет, так как, почти не спрашивая его совета, Юлия Михайловна с такой же решительностью, как себе купила серый шелковый костюм, несколько светлых блуз и две шляпки, так выбрала и для Миши тирольский дорожный костюм: пестренькую курточку, короткие брюки и чулки до колен. Потом накидку и зеленую бархатную шляпу.
Когда Миша, при помощи ловкого приказчика, переоделся в маленькой комнатке и вышел, с нежностью улыбнулась ему Юлия Михайловна, оглядывая его с головы до ног.
– Ну, вот, теперь ты совсем выглядишь странствующим инкогнито принцем, – сказала она.
Миша взглянул в большое зеркало и не узнал себя в этом непривычном странном наряде. Будто кого-то незнакомых видел он, худенького мальчика с бледным лицом и рядом женщину, лицо которой под вуалеткой было словно в тумане, только глаза ее блестели нежным блеском влюбленной.
– Ты слишком долго любуешься собой, мой маленький принц, – засмеялась Юлия Михайловна.
Когда они вышли из магазина, шел дождь. Блестели мокрые тротуары, незнакомая улица казалась неуютной, почти страшной; торопились пешеходы под зонтиками. Каждый из них точно знал, куда он идет. Извозчиков свободных не было, и наши путники довольно растерянно брели, не зная, что предпринять, кончать ли покупки или добираться до отеля.
Мише было холодно в его новом костюме, Юлия Михайловна сердилась.
– Ну, кликни же фурмана, вон на том углу стоит, не могу же все я да я! – говорила она раздраженно, и Миша чувствовал себя уже не загадочным принцем, как полчаса назад, а беспомощным, слабым мальчиком.
Извозчика наняли раньше, чем успел Миша пробраться между экипажами и трамваем, и они шли еще довольно долго, нагруженные покупками, промоченные насквозь, оба раздраженные и несчастные.
– Нет уж, с малолетними путешествовать и нянькой быть – это не мой вкус, – грубо сказала Юлия Михайловна.
Миша ничего не говорил. Ему было тоскливо, как бывает в детстве, когда оставят в гостях одного, с чужими равнодушными людьми, которым даже нельзя рассказать о своей тоске.
Еще сидя в карете, они молчали угрюмо, и только когда приехали в отель и разошлись по своим комнатам, Юлия Михайловна вдруг страшно забеспокоилась, не промочил ли Миша ноги.
Не сняв мокрого плаща и шляпы, Миша сидел на стуле, не зажигая огня.
– Что с тобой? – тревожно спросила Юлия Михайловна, входя в комнату, и повернула кнопку электрической лампы.
– Ты так устал, бедный. Сними же скорее сапоги и переоденься, – говорила она заботливо и сама сняла с него шляпу и плащ.
Будто ребенка уговаривала она Мишу, и он повиновался тоже как ребенок.
Еще никогда не знал Миша Юлию Михайловну такой ласковой и простой. Она не боялась казаться старшей, почти матерью, и понимая, что Миша чувствует себя одиноким, несчастным после утомительной дороги, в чужом городе, она сумела обласкать его и утешить.
Эти дорожные мелочи, маленькие огорчения, хлопоты об еде сближают необычайно. И этот вечер в Вене, когда, сама сходив в лавку, Юлия Михайловна принесла какую-то особую длинную колбасу и бутылку шипучего, обжигающего язык асти Спуманти, этот вечер, когда с слипающимися от усталости глазами они жадно ели колбасу, запивая ее из одного стакана, и рассуждали только о расписаниях поездов, о гостиницах, о том, что нужно еще купить в Венеции, и совсем не говорили ни о чем важном и значительном, этот вечер как-то странно сблизил их, и, действительно, они стали как два товарища, будто не было мучительных, и сладких, и страшных, и безнадежных дней в Москве, в Петербурге и, наконец, еще так недавно в Варшаве.
Прощаясь, они даже не поцеловали друг друга.
Миша быстро разделся и юркнул под теплый пуховик традиционной венской кровати.
Он уже почти засыпал, когда дверь, которую он забыл запереть, открылась.
– Прости, – сказала Юлия Михайловна, – я забыла уложить маленький чемоданчик, а завтра едва поспеем на поезд.
Она зажгла огонь; и Миша сквозь дремоту видел, как она в белом легком капоте ходила по комнате, ловко и бесшумно укладывая вещи.
– Ну, прощай, спи, маленький, – нагибаясь над кроватью и целуя Мишу, произнесла она и вышла из комнаты.
«Завтра в Венеции», – вдруг радостно подумал Миша и в ту же минуту заснул, будто упал камень, брошенный в воду.
VI
На всю жизнь остался у Гавриилова в памяти этот день пути от Вены до Венеции. Как в сказке Гофмана{60} Маша, пробравшись по рукаву шубы, попала в прекрасное царство Щелкунчика, так и Миша, проехав, сонный еще, по туманным улицам Вены, преодолев все вокзальные неприятности, понесся, наконец, в вагоне и очутился в зачарованном царстве.
Сначала снежные горы, с уютными чистенькими деревушками у подножья, как на старинных гравюрах. Из одного туннеля в другой, то подымаясь по узкому полотну под отвесной скалой, то опускаясь в долину, несся поезд, этот нарядный поезд с удобными диванами, с широкими зеркальными окнами, с этой специальной публикой беспечных путешественников, оставивших дома все заботы и огорчения, жадных только к радости и новизне.
Когда на остановках открывалась дверь, то врывался свежий горный воздух, от которого словно пьянеешь, и тирольки, в своих несколько маскарадных костюмах, подавали на деревянном подносе аппетитные сосиски и кружки пива.
Это утро, проведенное у окна вагона, наполняло Мишу какой-то особой светлой радостью, легкостью беспричинного счастья. И когда он касался руки стоявшей рядом с ним, зараженной его радостью Агатовой, они взглядывали друг на друга и улыбались, и их соседи не без основания могли считать, что видят перед собой счастливых любовников.
Уже с половины дня виды стали меняться, горы становились все более дикими, пропали уютные деревушки, кое-где высились мрачные развалины старинных замков. Зато с каждой остановкой становилось теплее, и солнце делалось более жгучим.
Как ребенок упрямо не хочет оторваться от понравившейся ему игрушки, так Миша не хотел отойти от окна.
Уже Юлия Михайловна болтала о чем-то с юрким французом, уже в усталых глазах сливались очертания диких ущелий, неприступных утесов, и голова кружилась, а Миша стоял, побледневший от усталости, восторженный и зачарованный. Ему казалось, что он грезит, и сладко отчего-то ныло сердце.
На последней австрийской станции поезд должен был стоять несколько дольше.
Все пассажиры вышли на платформу подышать этим теплым предвечерним воздухом, полюбоваться на закат в горах.
– Милый мой мальчик, какой ты был странный сегодня. Как я рада твоей радостью. Вот и Италия. Принесет ли нам счастье эта счастливая страна. Ты чувствуешь, какой теплый ароматный ветер. Это первая ласка Италии.
Так говорила Юлия Михайловна, с улыбкой глядя на побледневшее Мишино лицо. Они шли по усыпанной мелкими камнями платформе. Пурпурное солнце без отсветов медленно катилось за синюю острую гору.
– Да, это один из счастливейших дней моей жизни, – будто в раздумье сказал Миша. – Мне кажется, что я… – он не успел договорить. С тех пор как они переехали русскую границу, он стал ужасно беспокоен, все казалось ему, что опоздают на поезд, не успеют пересесть, попадут в другой вагон. Это дорожное беспокойство делало его пугливым и безрассудным. Уже сейчас Миша несколько раз оглядывался на поезд. Вдруг, совершенно неожиданно, паровоз засвистел, и вагоны тронулись.
– Опоздаем, опоздаем, – закричал Миша и, бросив руку Юлии Михайловны, совершенно ничего не соображая, побежал к вагону и успел повиснуть на ступеньке. Что-то кричали ему станционные сторожа и пассажиры, оставшиеся на платформе. Миша крепко держался за перила. Поезд увеличил ход и влетел в темный туннель. Голова кружилась. Донесся страшный вопль. Это крикнула Юлия Михайловна. Зараженная Мишиным внезапным смятением, она, тоже ничего не соображая, бежала за вагонами, и когда поезд скрылся в темном жерле туннеля, непонятный ужас охватил ее, и она закричала. Ее окружили, успокаивали. Она, казалось, ничего не понимая, повторяла:
– Миша, Миша!
Через минуту все выяснилось. Из туннеля показался поезд, который просто совершал какой-то маневр.
Когда поезд остановился и Миша оказался на платформе, Юлия Михайловна бросилась к нему и обняла. Он чувствовал себя виноватым и был сам несколько напуган. Окружающие пассажиры, кто с сочувствием, кто с насмешкой, наблюдали эту нежную сцену.
– Неужели бы ты мог так оставить меня? – спрашивала Юлия Михайловна сквозь не высохшие еще на глазах слезы.
В сумерках в вагоне они сидели, тесно прижавшись друг к другу, изредка перекидываясь незначительными словами, утомленные и нежные.
– Ваш спутник, – болтал, слащаво улыбаясь, француз, – слишком впечатлительный молодой человек. Это маленькое приключение совсем расстроило его. Вероятно, у него очень нежное сердце. Впрочем, ваше сердце, madame, достойно его. Я никогда не видел такого прекрасного отчаяния, какое я прочел в ваших глазах в ту минуту.
Уже проехали итальянскую границу. Плотных, идолоподобных венцев сменили вертлявые, веселые, любезные итальянские кондуктора.
Тамбовский помещик, ехавший в этом же купе, с торжествующим хохотом вытащил запрятанную на границе бутыль домашней настойки.
В окна не было ничего видно, и только фонарь за желтой занавеской уныло освещал вагон.
На какой-то станции, последней перед Венецией, Юлия Михайловна попросила Мишу выйти на платформу.
– Плохо себя чувствую, голова кружится, – виновато сказала она.
Ночь была темная, по платформе шныряли какие-то крикливые девицы в ярких шляпах, сопровождаемые кавалерами. В грязном буфете висел список кушаний на итальянском языке, а когда вышли на платформу, посмотрели на темное, будто суконное небо с двумя-тремя звездочками, услышали аромат какой-то первой зелени, вдруг показалось обоим, что они где-то в России.
– Совсем как в Любани, – сказал Миша, и отчего-то защемило сердце; вспомнилась мать, монастырь и, в первый раз за все путешествие, Тата.
– Тебе грустно? – спросила тихо Агатова, прижимаясь к Мишиному локтю, – ты жалеешь, что уехал? Но, мальчик мой, ведь всего месяц или два Италия, а там еще вся жизнь. Ну, отдай мне эти недели, а потом уходи. Будь счастлив, свободен и только, если изредка, раз в десять лет, вспомнишь об этих днях, не сожалей о них. Вот все, чего я хочу. Милый мой маленький мальчик, не нужно грустить. Помнишь, я обещала не огорчать тебя.
Ее слова были ласковы и печальны.
От них еще грустнее и слаще становилось, и Миша, взяв ее руку, поцеловал в разрез лайковой черной перчатки, будто скрепляя этот договор.
Поезд уже мчался по этой удивительной плотине, узкой лентой соединяющей Венецию с материком. Черная вода лагун поблескивала, доходя чуть ли не до самых колес вагона. В открытое окно доносился тревожащий своим особым морским запахом ветер. Вдали уже блестели огни странного города.
Юлия Михайловна опять стала деловитой и заботливой. Посмотрела записанный в книжечке адрес рекомендованного знакомыми недорогого отеля, собрала вещи в маленький чемоданчик, не спеша оделась и тогда подошла только к Мише, который опять не мог оторваться от окна.
– Вот и Венеция. Как далеко мы заехали и совсем, совсем одни, – проговорила Юлия Михайловна.
– Юнонов обещал нагнать меня в Венеции дня через три, – сказал Миша, оборачиваясь от окна.
– Ну, что же, мне будет очень интересно с ним познакомиться, – меняя тон, ответила Юлия Михайловна, и какая-то складка легла около губ.
Было уже поздно, после дня дороги голова была тяжелая. Гондольер мрачно и ловко греб из одного узкого канала в другой. Горбатые мостики, высокие дома с террасами глядели прямо в воду, редкие прохожие с фонарями, – все это было призрачно.
Миша совсем засыпал. Он прислонился к плечу Агатовой и в полудремоте едва слышал, как тихо говорила она, нагибаясь к самому его уху.
– Как хорошо, как сказочно прекрасно. И, вот увидишь, наша жизнь в этом таинственном городе будет тоже как сладкая, пусть недолгая, сказка.
За углом кто-то распевал вполголоса призывную серенаду, и сладко рокотала мандолина.
Голова Миши уже склонилась на колени Агатовой.
– Прекрасный, возлюбленный мой, последний, которого ждала я. Милый мой мальчик, – говорила Агатова и, нагибаясь, нежно, бережно целовала его побледневшее лицо.
VII
Нет города более фантастического, более зачаровывающего странными чарами своей необычайности, чем Венеция. Уже на другой день, когда, только что проснувшись, Миша открыл окно, выходящее в узкий канал, он почувствовал эту власть города.
В окне противоположного старого дома сидела черномазая девушка в ярком платье и, напевая что-то, чистила картофель, бросая шелуху прямо в канал; по мостику проходил толстый монах с черными веселыми глазами, из-за домов виднелся разноцветный купол Святого Марка,{61} и все в это теплое сумрачное утро было необычайно, будто заколдовано.
Целый день Миша и Юлия Михайловна ходили, будто гонимые чужой волей, по городу;{62} бесчисленные узенькие переулочки, как коридоры лабиринта, привлекали, манили, не давая успокоиться. Все казалось, что вот там, за поворотом, откроется что-то небывалое, а за углом был новый мостик, новый поворот, потом маленькая площадка с мадонной или фонтаном, а через полчаса опять попадешь на то же место, откуда вышел.
В первый день они решили не осматривать музеев, церквей, дворца дожей, а просто бродить по городу. Они обедали в каком-то маленьком веселом ресторанчике, выходящем окнами на три канала, были на почте, перейдя риальто, попали в далекий грязный квартал, потом сидели на игрушечно-красивой площади Св. Марка, пили кофе в открытой кофейне. Солнце выглянуло ненадолго, низко летали ручные белые голуби, гремели трубы оркестра, туристы с бедекерами важно прогуливались. После целого дня бесцельной ходьбы Миша чувствовал усталость, незнакомый, странный город пугал.
Мимо прошли какие-то русские.
– Пароход на Лидо отходит через десять минут, – донеслись так неожиданно-радостно русские слова. Будто оба вспомнили сразу, что близко море, и обоим, и Мише, и Юлии Михайловне, захотелось ехать. Они засмеялись оба в одну и ту же минуту, сказав:
– Поедем на Лидо.
Маленький, довольно грязный пароходик доставил их через полчаса на песчаный остров с постройками обычного дачного вида, подозрительными кабачками и назойливыми нищими. Они прошли по улице, напоминающей какое-то «Лесное»,{63} мимо еще заколоченных дач со стеклянными шарами в палисадниках, мимо огромного, тоже еще мертвого отеля, и вдруг нестерпимая синева блеснула. В первую минуту они даже не догадались, что это – море.
Они шли по вязкому песку, и ласковый ветер ударял в лицо, а блестящее на заходящем солнце море слепило глаза.
Берег был пустынен. Только два паруса блестели далеко на горизонте, и казалось, что во всем мире они остались вдвоем. Светлая печаль какой-то заброшенности и вместе с тем близости охватила их. Они шли, взявшись за руки, как дети, и почти не говорили.
– Как странно, – вымолвила Юлия Михайловна, – я многое уже испытала, но никогда не знала такой тишины, такой неомраченной радости. Это ты мне ее дал, милый мой, нежный мальчик. Я ведь знаю, что у тебя вместо сердца – кусок льда, но теперь, вот сейчас, мне это не страшно. Я люблю тебя и не боюсь; все равно, вот этих минут ты не сможешь отнять у меня.
Она говорила все тише, почти шепотом, будто разговаривала сама с собой, и Миша не знал, слышит ли он слова или только догадывается о них.
Наконец они сели на какую-то разбитую лодку, и Миша сказал, тоже не зная, сам ли он говорит или слышит чужой голос:
– Мне хорошо сейчас. Не надо только ничего решать, угадывать, думать.
– Милый, конечно, не нужно! – вдруг, повернув к нему какое-то просветленное, совсем молодое лицо, ответила Юлия Михайловна, и Миша поцеловал ее смущенно и нежно, будто это был первый робкий поцелуй.
Когда, возвращаясь к пристани, они медленно шли, Юлия Михайловна сказала:
– Знаешь, у меня никогда не было того первого романа, который зовется гимназическим, романа безгрешного, светлого, радостного.
– У меня тоже, – улыбнулся Миша.
– А вот с тобой, – говорила Агатова, – я чувствую себя чистой застенчивой девочкой, которая боится поднять глаза на своего гимназиста.
Быстро спускались черные южные сумерки. Пароходика не было, и гондольер на ломаном французском языке предложил за три лиры доставить их в город.
Против течения плыли очень медленно, начиналась качка, дул ветер. Миша снял шляпу и накинул на голову капюшон своего плаща. На узкой скамейке они сидели, тесно прижавшись.
Гондольер затянул монотонную песнь.
– Какое у тебя сейчас строгое и нежное лицо, – говорила Юлия Михайловна, – точно юный монах, святой и прекрасный. Или девочка, совсем маленькая девочка с длинными ресницами.
Ее слова сливались с плеском волн о корму.
– Ты устал, милый?
– Нет, мне хорошо! – и, помолчав, не оборачиваясь к Агатовой, Миша сказал: – Я люблю тебя.
Юлия Михайловна вздрогнула.
– Не нужно, милый, не нужно слов. От них страшно.
Казалось, эти первые слова любви не обрадовали ее, а испугали, и, прижавшись к углу гондолы, она молчала, как взволнованная первым признанием девочка.
На площади они купили апельсинов и роз.
– Какой странный и прекрасный город, – говорила Юлия Михайловна, когда они стояли уже у своего отеля.
– Обманный город, точно мираж, точно чудный и страшный сон. Перестаешь думать, что живешь, кажется, будто грезишь нежными опасными грезами.
Они поужинали в общем зале, разговаривая о каких-то пустяках, чокаясь маленькими стаканчиками, наполненными кровавым кьянти, и, уже кончив ужин, медлили уходить из опустевшего зала.
В коридоре они простились, и когда Миша уже повернул ключ, Юлия Михайловна сказала тихо:
– Может быть, ты придешь ко мне? – Она, казалось, не ждала ответа и быстро открыла дверь.
Миша зажег свечи (электричества не было в этом тихом старомодном отеле), вымылся тщательно, долго ходил по длинной узкой комнате. Зачем-то поставил свечи на комод и долго разглядывал свое лицо в небольшое тусклое зеркало.
Потом потушил свечи, постоял в темноте несколько минут и осторожно, на цыпочках прошел к двери.
В коридоре тускло горела одна лампочка, и вдруг почему-то вспомнился другой коридор, там в «Петропавловске», и это воспоминание не испугало, а какой-то веселой решимостью наполнило.
Юлия Михайловна стояла спиной к двери; когда медленно она обернулась, то с удивлением посмотрела на него.
– Что с тобой, как горят твои щеки, как блестят глаза.
– Я люблю тебя, – повторил во второй раз за этот вечер Миша.
Душным ароматом духов ударило в голову.
– Почему так пахнет? – спросил Миша, слегка даже покачнувшись, так кружилась голова.
– Я разлила духи, когда открывала чемодан.
Они стояли друг против друга, говорили о чем-то и, казалось, пьянели.
– Я открою окно, хочешь? – спрашивала Юлия Михайловна, слегка задыхаясь.
– Не нужно, так хорошо.
– Ты задохнешься, мой милый!
– Все равно, я люблю тебя.
Она протянула руки, вся белая в своем легком капоте. Ее руки, волосы, вся она, были пропитаны горьким, почти нестерпимым ароматом.
– Я знала, я знала, что ты проснешься, что ты придешь. Я ждала тебя, – шептала Юлия Михайловна.
Миша с какой-то особой остротой видел все, все понимал и вместе с тем не верил, что это он, что его охватила эта веселая, буйная радость.
Нарочно или нечаянно Юлия Михайловна толкнула стол, и со звоном покатился медный подсвечник.
– Вот, нам уже нельзя будет называться братом и сестрой, – с неожиданной шутливостью шепнула Агатова.
VIII
Они уже осмотрели все, что полагалось осмотреть; все переулки и площадки сделались знакомыми, уже слегка утомляла их эта приевшаяся красота площади Св. Марка, но они откладывали свой отъезд изо дня в день, точно боясь проснуться от этого душного венецианского сна. Уже больше двух недель жили они в Венеции.
Утром, когда Миша еще спал, Юлия Михайловна приходила к нему и бросала розы на подушку. Он просыпался уже с несколько мутной головой от благоухания.
Будто стараясь усыпить своего любовника, заставить его не думать ни о чем, Юлия Михайловна накупала целые пуки роз, мимозы, проливала флаконы духов на платье, на ковер, на диван; она душила Мишины волосы, руки, плащ, и когда они ходили по улицам, этот дурманящий аромат несли они с собой. Девочка, продающая кораллы на углу, всякий раз, когда они проходили мимо нее, громко фыркала, стараясь поглубже вдохнуть сладкий запах духов и цветов.
Точно облако окутывало Мишу, благоуханное, дурманящее облако. Он не работал, даже забыл думать о работе, не читал, не писал и не получал писем; даже когда осматривали галереи, он видел картины, одно название которых волновало его еще с детства, точно через закопченное стекло.
Только на Лидо ветер освежал ненадолго, но томно улыбалась Юлия Михайловна и, нагибаясь поцеловать руку, он уже вдыхал эту отраву благоуханий.
– Твои перчатки, – сказал он как-то, – напоминают мне перчатки великой Медичи,{64} которая отравляла своих врагов прекрасной парой тонких перчаток.
– О, я не отравлю тебя, не бойся. Ведь ты только и остался у меня в жизни, мой милый, нежный мальчик. Хотя, если бы… – она не договорила.
– Если бы я изменил тебе? – спросил Миша.
– Если бы я узнала, что ты предал меня… Но и тогда не тебя, нет, не тебя.
– Разве ты не веришь мне? – улыбнулся Миша.
– Твои глаза по-детски наивны и лживы. Я не знаю, не знаю и боюсь думать.{65} Если б ты только мог понять.
Она ласкала его, благоуханное облако окутывало их.
Наконец они решили ехать во Флоренцию.
Когда портье уже понес вещи в гондолу, Юлия Михайловна в последний раз осмотрела комнату. Она уже была в шляпе и кофточке. Зайдя в Мишину комнату, где тот уже надевал плащ, она подошла к нему, обняла и поцеловала.
– Что это, мы будто прощаемся? – сказал Миша. – Ведь еще Флоренция, Рим.
– Да, а потом Петербург. Хочешь, я перееду в Петербург? Потом поедем в Ганге. Да ведь, да?
Она прижималась крепко, а Миша улыбался своей нежной неопределенной улыбкой и говорил:
– Конечно, конечно. Но почему в Ганге?
Лакеи и горничная, ожидавшие прощальных лир, заглядывали нетерпеливо в полуоткрытую дверь.
День был солнечный и ветреный. На Большом канале сильно качало.
– Почему у тебя блестят глаза? Ты плачешь? – спрашивал Миша.
– Нет, это надуло с моря, брызги. О чем же мне плакать? Я так счастлива, так счастлива. Никогда в жизни я не думала даже, что получу такую радость. За эту весну в Италии я отдала бы все.
Так говорила Юлия Михайловна, с тревожной нежностью смотря на Мишу.
Опять заблестели лагуны по обеим сторонам поезда, а потом замелькали поля, рощи, по дороге скакал всадник на белой лошади.
– Как странно, – сказал Миша, – ведь всего этого мы не видели две недели, я даже забыл, что есть поля, леса, лошади. Не правда ли, Венеция будто приснилась, «Итальянский сладкий сон» – сказано в стихах.
– Да, итальянский сладкий сон, – повторила задумчиво Юлия Михайловна. – Но разве сон, что ты любишь меня, что ты – мой; разве сон, что мы вместе и будем еще долго.{66} Разве ты сам, мой нежный, прекрасный принц, только сон?
Миша, откинувшись на спинку дивана, рассеянно поглядывал в открытое окно.
Пахло свежескошенным сеном, сиренью, еще чем-то. Солнце склонялось к закату. За лесом на холме блестел маленький старинный город золотыми шпицами соборов. Миша молчал и только ласково гладил руку Юлии Михайловны.
Во Флоренцию приехали ночью. Пока ехали в гостиницу Миша успел рассмотреть только белые площади с журчащими фонтанами, и это впечатление какой-то особой белизны и просветленной чистоты осталось навсегда от Флоренции.
Комнаты выходили на Арно, и когда утром Миша открыл жалюзи, яркий свет солнца, полноводное Арно с живописными старыми домами на другой стороне, старым мостом, с магазинами ювелиров, нежные в дали горы, веселая толпа на набережной, все это наполнило бурной радостью.
Они пили кофе в общей столовой.
– Милый, посидим сегодня дома. Я устала. Ведь еще успеем все осмотреть, – говорила Юлия Михайловна.
– Конечно, как хочешь, – вяло ответил Миша.
Его манили шумные улицы, солнце, прохладные соборы, в галерее Боттичелли и Венера Медичейская.{67}
– Ну, не огорчайся. Завтра же я пойду всюду, куда захочешь. А сегодняшний день подари мне, – виновато просила Агатова.
– Михаил Давыдович, вот вы где, наконец, – раздался голос.
Миша даже вздрогнул от неожиданности.
Перед ним стоял Юнонов.
– Вы… вы… – повторял Миша растерянно.
– Да, познакомьте же меня, – весело сказал Юнонов.
Юлия Михайловна тоже испуганно подняла глаза на неожиданного гостя.
Юнонов – веселый, помолодевший, с гвоздикой в петлице светлого костюма, сам представился и, не спрашивая позволения, подсел к их столику.
– Наконец-то. Ведь вы обещали мне оставить свой адрес на почте в Венеции. Я пробыл там два дня. Вас не нашел, стосковался на этом болоте и вот уж пять дней здесь. Теперь смогу удовлетворить свою гордость опытного туриста и похвастаться всеми великолепиями Флоренции. Не правда ли, вы позволите быть вашим гидом? Кстати, какая счастливая случайность: мы оказались в одном отеле. О, теперь я вам надоем. – Юнонов болтал оживленно и весело.
– Ну-с, сегодня же и начнем осмотр. Нельзя же пропускать таких дней, – сказал он, когда кофе был кончен.
– Вот Юлия Михайловна устала с дороги, – нерешительно промолвил Миша.
– Ну, так что же, Михаил Давыдович, мне будет свободнее отдохнуть одной, разобрать вещи. Я так рада, что у вас есть спутник. – Юлия Михайловна говорила любезно, улыбаясь, и только в глазах была тревога. Но Гавриилов не посмотрел ей в глаза, а поспешно, как школьник, освобожденный от скучного урока, поцеловал руку и стал торопить Юнонова.
Они вышли из отеля. На улице было шумно, весело, празднично. Звонили колокола, ревели ослы, кучер проезжавшего экипажа хлопал длинным бичом, смеясь, перекликались через всю улицу две женщины, босоногие, хорошенькие мальчишки насильно прикалывали букетики фиалок.
– Разве не радостно, не прекрасно жить, пока существует Флоренция, – воскликнул Юнонов.
Он говорил без умолку. Рассказывал все петербургские истории, последние сплетни, описывал вечера и спектакли. От его оживленных слов о таком милом и как-то забытом, от этого солнечного оживленного города Миша чувствовал восторг, почти опьяняющий. Будто он спал тяжелым беспокойным сном и вот проснулся, бодрый, свежий, сильный, радующийся солнцу, людям, домам, жизни. Они с какой-то яростной жадностью бегали по городу. На каждой площади, на каждом углу умел Юнонов что-нибудь показать и рассказать. Они были и в Уфициях,{68} и на рынке, где у чугунного кабана целыми грудами лежат цветы, овощи, фрукты, визжат связанные поросята и, размахивая руками, торгуются пылкие тосканки. Отдохнули в тенистом соборе Святой Марии на Цветах,{69} зашли к Донею выпить шоколаду, были на Арно, потом в дом Микель-Анжело{70} и, казалось, не могли насытиться.
В первый раз открытыми глазами увидел Миша Италию, и у него захватило дух от радости перед этими живыми, такими радостными чудесами. Только в шестом часу, усталые, возбужденные, возвращались они в свой отель.
– Вечером возьмем коляску и поедем во Фиезоле. Из виллы Медичи прекрасный вид на Флоренцию, – говорил Юнонов и у самого входа вспомнил:
– Да, вам очень кланяются Ивяковы. Особенно Татьяна Александровна. Пеняют, что не пишете, даже беспокоились.
– Я сегодня же напишу, – ответил Миша, и какая-то горячая торжествующая радость охватила его.
В комнате Юлии Михайловны были сумерки от закрытых жалюзи и окна. Душный аромат духов после свежего воздуха казался нестерпимым. Юлия Михайловна лежала на постели.
– Я ждала тебя, милый. Как мог ты бросить меня на целый день. Я измучилась, – говорила Агатова.
– Как душно. Надо открыть окно, – сказал Миша.
– Ты не любишь больше, – прошептала Агатова.
Миша сел у стола. Ему вдруг сделалось скучно и тоскливо{71} в этой темной душной комнате.
IX
Пятого мая Юлия Михайловна и Гавриилов приехали в Петербург.
Было уже совсем летнее утро, одно из тех, когда так радостно прекрасен Петербург.
Обратная дорога была тяжела для Миши. Денег оставалось очень мало; давно не приходили известия из Кривого Рога, и это беспокоило Мишу. Но зато, когда ехали с вокзала по утренним улицам, сделалось вдруг легко и радостно.
– Как я люблю Петербург. Я даже сам не знал, – сказал Миша. – Как я соскучился о нем.
– Тебе было скучно. Ты уже забыл нашу весну в Италии, – с укором промолвила Юлия Михайловна.
– Ах, я не об этом. Я соскучился по городу, – с раздражением ответил Миша.
Его тяготило, что нельзя соскочить с извозчика, побегать по улицам, повидать сразу всех милых друзей, забытых будто бы и теперь от этого еще более близких, милых.
Дядя написал еще в Рим, что уезжает в командировку и квартиру сдал, так что решили остановиться в гостинице.
Наскучили Мише эти лица отельных лакеев, эти нежилые неуютные комнаты и было странно здесь, в милом, родном Петербурге, испытывать ту же бесприютность путешественника.
Последние дни они избегали говорить о будущем, и поэтому Миша совсем не знал, долго ли думает Юлия Михайловна прожить в Петербурге и что предполагает делать. Была она не та итальянская, помолодевшая, радостная, а опять московская, с безнадежной тревогой в глазах, будто придавленная какой-то мрачной мыслью, и часто страшно было с ней Мише.








