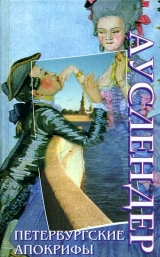
Текст книги "Петербургские апокрифы"
Автор книги: Сергей Ауслендер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 53 страниц)
II

Мне минуло шестнадцать лет,
Но сердце было в воле.
Я думала, весь белый свет —
Наш бор, поток и поле.{204}
Барон Дельвиг

I
Обогнув озеро, Катя пустила в галоп Красавчика и, промчавшись по деревне мимо собак, шарахающихся овец, ребятишек у ворот, проскакав под жарким еще, хотя и вечерним, солнцем, по желтому со снопами полю, только у опушки казенного леса{205} стала сдерживать взмыленного коня. Алеша не поспевал за ней на упрямой пегой кобылке.
– Скорее, Алексей Дмитриевич, – кричала Катя. – Скорее, а то Красавчик не стоит совсем.
Алеша преодолел упрямство своей кобылки и вскачь взлетел на пригорок, где Катя, разрумянившаяся, с выбившимися из-под шляпы волосами, в сиреневом развевающемся шарфе, на танцующем под ней Красавчике, как сиянием, освещенная низким солнцем, ждала его.
– Неосторожно ездите, Катечка. Разобьетесь когда-нибудь, – сказал Алеша наставительно, как старший.
– Ах, это было бы недурно: наш отъезд отложился бы по крайней мере, – с полушутливым вздохом ответила Катя.
– А что мне тогда прикажете делать? Прострелить ладонь, как, помните, Юра пытался, когда его отправляли в ссылку?
– Милый Юра, где-то он теперь? Удалось ли ему завести новые переживания в его Териоках?{206} Помните, как он был великолепно мрачен, когда уезжал? Впрочем, вы его, кажется, не очень любили, Алеша, – с лукавой гримасой спросила Катя.
– Нет, отчего же, он очень мил, только уж слишком занимал всех и все своей особой.
Молодые люди ехали шагом по узкой лесной дороге. Солнце боковыми лучами золотило стволы сосен. Приторный запах недалекого болота дурманил голову.
– Помните, как вы дулись, когда Юра только что приехал и дядя Володя в шутку намекнул, что это мой жених?
Молодой человек, не ответив, чуть-чуть улыбнулся и опустил глаза. Катя же пристально и вопросительно смотрела на него.
– Вы сердились тогда? – тихо спросила она, после некоторого молчания.
– Нет, за что же, просто я хандрил. За что и на кого я мог сердиться, – недовольно дергая худыми плечами, говорил Алеша, не поднимая глаз, бледный, только слегка розовея.
Резко щелкнув хлыстом, сама покачнувшись от неожиданного движения, Катя пустила Красавчика во весь галоп.
– Катя, Катя, куда вы, сломите голову! – кричал Алеша.
Слабый голос его относило ветром; кобыла упрямилась; Катин лиловый шарф был уже далеко.
Так скакали они по пронизанному солнцем лесу, мимо красных полян, высокого копорского чая,{207} мимо зеленого круглого озера, подымаясь на пригорки, спускаясь в долины: Катя – раскрасневшаяся, с сердито сдвинутыми крутыми бровями, с крепко сжатыми губами, Алеша – бледный, беспомощный, едва справляющийся со своей лошадью.
Успокоил ли быстрый бег Катино внезапное раздражение, или она просто устала, или пожалела задыхающегося Красавчика, но, проскакав минут двадцать, миновав полуразрушенную часовню у святого ключа, откуда дорога становилась еще уже, а лес темнее, она стала сдерживать разгоряченного коня, с галопа перевела его на рысь, а потом пустила шагом. Сорвав уже чуть-чуть покрасневший лист клена, медленно и задумчиво ехала Катя, когда Алеша догнал ее. Удивленно посмотрел он, слегка нагнувшись, на нее, и ничего не сказал. Несколько минут проехали они молча.
– Через неделю уж в Петербурге буду. У нас новый учитель физики, злюка, говорят, страшный, – первая заговорила Катя.
Алеша молчал.
– А на будущее лето мама хочет нас всех за границу везти. Так «Потонувший колокол»{208} и не придется ставить, или, может быть, другая Раутенделейн{209} найдется, – слегка поддразнивая, сама уже раздражаясь, сказала Катя, но Алеша опять промолчал, внимательно разглядывая дорогу, и через минуту Катя заговорила:
– А помните, как мы репетировали в беседке, какая гроза тогда была? Дядя Володя еще разулся и бежал босиком, чтобы не испортить своих туфель. Как было это давно! Ведь всего месяц назад. Весело лето прошло в этом году. А прошлый год я вас совсем и не помню. Вы у нас «диким мальчиком» назывались.
– Да, быстро лето прошло, печально это, – промолвил Алеша тихо.
– Почему печально?
– Не знаю, мне всегда грустно, когда проходит. Весною чего-то ждешь, а потом незаметно и лето прошло, как будто что-то не исполнилось.
– Потонувший колокол.
– Может быть.
– Нет, я не долго лета жалею. Зимой интереснее: гимназия, по субботам такие веселые вечера у Горловых, в Мариинском театре{210} часто бываем. Ведь у вас тоже не скучно.
Катя была спокойна и равнодушна.
– Вернемся, – сказала она.
Пустили лошадей рысью. Катя смеялась, когда низкие ветки задевали лицо, и изредка кричала Алеше:
– Вот наш священный дуб, листья-то как пожелтели; здесь тетя Аглая со змеем сражалась, – помните? А грибов-то сколько!
Выехали на луг. Солнце низко склонилось к горе. Между кустов протекал ручей, журча по камням.
– К нимфе, к нимфе, – закричала Катя и пустила Красавчика прямо по траве, не по-осеннему зеленой еще.
Около самого мостика, узенького, без перил, Красавчик вдруг заупрямился. Катя сильно ударила его хлыстом и едва удержалась, слабо вскрикнув, когда Красавчик вскинул задними ногами и потом метнулся в сторону. Быстро соскочил Алеша, бросив свою кобылу, подбежал к Кате и поймал потерянные наездницей поводья.
– Противный Красавчик, – пробормотала Катя, отворачиваясь, чтобы скрыть слезы внезапного страха, и потом, еще не вполне успокоившись, стыдясь своего испуга, улыбнулась Алеше. – Я не думала, что вы такой ловкий.
А Алеша стоял перед ней, тоже улыбаясь сконфуженно, стройный от высоких сапог, без шляпы, с развевающимися волосами, обнажившимися – под упавшими рукавами рубашки – по-детски худыми в кистях и белыми руками, высоко держа за уздечку Красавчика, еще вздрагивающего и косящего налившимся кровью глазом, но уже покорного.
– Вы слезьте, а я переведу Красавчика по мосту, – сказал Алеша.
С молчаливой покорностью, опершись на Алешину руку, соскочила Катя. Алеша сначала Красавчика, потом свою кобылу перевел через ручей, привязал их к дереву и вернулся на другую сторону, где Катя, уже совсем повеселевшая, пила прямо из ручья.
– Я вам фуражку свою дам, – предложил Алеша.
– Не надо, так веселее и с нимфой же нужно поздороваться, – поднимая мокрое лицо, смеялась Катя.
– Нимфа, нимфа, нимфочка! Знаете, в детстве мы всегда у этого ручья играли в «нимфу», приносили ей жертвы, плели венки, устраивали праздники. Да вот она!
Тритон{211} испуганно выскочил из куста, пробежал по желтому под прозрачной водой дну и, блеснув серой спинкой, спрятался под камень. Нагнувшись совсем низко к воде, Алеша и Катя увидели свои отражения. Он – выбившиеся косы, смеющиеся, слегка припухлые губы, длинные ресницы; она – тонкое лицо, внимательное и печальное, вышитый ворот рубашки, первым пушком черневшие улыбающиеся нежные губы.
Так несколько секунд рассматривали они друг друга, и Катя первая, быстро поднявшись, закричала:
– Ехать, ехать, а то к ужину опоздаем. У нас воздушный пирог сегодня. Он ждать не будет.
Разбежавшись, она легко прыгнула через ручей, и Алеша за нею.
Проворно вскочила Катя на лошадь, раньше чем Алеша успел помочь ей, и поскакала в гору, к пламенно-синему закатному небу, в которое упиралась крутая дорога.
II
Пламенели настурции, отраженные в стеклах балкона. Тетя Аглая и лесничий Андронов ходили по усыпанной желтым песком круглой дорожке, около большой клумбы алых и белых осенних роз.
– Вы сами понимаете, Дмитрий Павлович, как неприятно все это нам. Я всегда говорила: за Катей надобен глаз и глаз. В гимназиях за чем смотрят? Верченые девчонки пошли. Вы знаете, как мы любим Алешу, но это наш долг, – восклицала тетя Аглая, высоко поднимая голову с коротко остриженными седоватыми кудрями. Полумужской одеждой, синими блестящими глазами, румяными обветренными щеками, резкими движениями она походила на английского проповедника.
Андронов, маленький, рыжеватый, недовольно кусал бороду, рассеянно нагибался к цветам и, когда тетя Аглая возмущенно замолкала, сумрачно мямлил:
– Да, да, я приму меры, я поговорю. Вы правы.
– Дело не в мерах, а во взгляде на воспитание. Мы отвечаем за наших детей, – опять начинала Аглая Михайловна.
Солнце заходило за прудом; на лужайке бегали мальчики в розовых и голубых рубашках; Соня в длинных клетчатых чулках качалась в гамаке; из раскрытых окон гостиной доносилась музыка, на балконе накрывали ужин.
В чем-то убедила тетя Аглая сумрачного лесничего. Спустившись с пригорка, Катя и Алеша полным галопом влетели во двор, проскакали по кругу, обсаженному акацией, и, чуть не сбив с ног возвращающихся в дом Аглаю Михайловну и Андронова, осадили приученных коней у ступеней террасы. Катя быстро соскочила с Красавчика и бросилась к сидевшей на верхней ступеньке, в зеленоватом капоте, с желтой французской книжкой Марии Константиновне.
– Мама, мамочка, милая мамуся, останемся до будущего воскресенья, – обнимая мать, кричала Катя.
Мария Константиновна с ленивой ласковостью улыбалась, поправляя сбившиеся Катины волосы.
Тетя Аглая гневно засверкала глазами.
– Разве вы не знаете, Китти, что в понедельник уже занятия начинаются? Вы за книгу целое лето не брались и прямо с дороги в класс. Хорошо ученье пойдет! Впрочем, об этом вы разве думаете.
Мария Константиновна, смотря на розовые облака, рассеянно улыбаясь, сказала:
– Милые дети, они так любят деревню!
– Да, деревню! – негодующим басом прогремела Аглая Михайловна, сурово взглянув на Алешу, смущенно перебирающего поводья лошадей, которых конюх еще не взял от него, и на Катю, обиженно надувшуюся.
– Идемте же, Дмитрий Павлович, я должна сказать вам несколько слов, – обратилась она к Андронову и строго вошла в комнаты. Андронов покорно поплелся за ней.
Несколько минут Мария Константиновна улыбалась, молча перебирая волосы нагнувшейся к ней Кати, потом вздохнула и опять взялась за книгу. Катя, прижавшись к коленям матери, тоже молчала, и Алеша, постояв в смущении перед ними, уныло повел лошадей к конюшням. Отведя лошадей, Алеша медленно прошел в сад и стал ходить по круглой дорожке, задумчиво опустив голову.
– Алеша, что вы бродите неприкаянным? Идите ко мне!
Алеша вздрогнул от неожиданного голоса, огляделся и, подняв голову, увидел у окна мезонина Владимира Константиновича Башилова, который улыбался, куря тоненькую папиросу. Так радостно стало от этой ласковой улыбки Алеше, что сам он улыбнулся и с непривычной живостью ответил:
– Иду, Владимир Константинович, иду!
Пробравшись через заднее крыльцо, Алеша прошел по коридору и из-за притворенной двери услыхал негодующий голос тети Аглаи, читавшей вслух: «И так я его люблю, что жизнь бы отдала, кажется, а он и не знает и не чувствует. Как-то проживу без него целую зиму».
– Вы понимаете, о ком это она пишет? – прервав чтение, спросила Аглая Михайловна.
– Ужели вы думаете… – робко заговорил Андронов.
– Испорченная девчонка, – забасила тетя Аглая, но Алеша уже подымался по темной лестнице, не слыша продолжения разговора.
– Можно? – робко постучался Алеша в дверь комнаты.
– Пожалуйста, пожалуйста, – не вставая от стола, за которым у открытого окна при зажженных уже свечах что-то писал он, приветливо ответил Владимир Константинович и, не переставая писать, улыбнулся вошедшему. – Сейчас кончу.
Алеша вошел, закрыл за собой дверь и остановился, оглядывая эту привычную и милую комнату с голубыми обоями, с розовой занавеской на широком окне, в которое видны были: круглая клумба с яркими георгинами, пламенное небо за прудом и желтым пригорком; эту комнату с полками книг, с глубокими прохладными креслами, с высокой старинной конторкой в углу, над которой дедушка Башилов в белом гвардейском мундире улыбался, будто подмигивая одним глазом; комнату, наполненную тонким ароматом духов, употребляемых дядей Володей, с розой в маленькой помпейской вазочке{212} на письменном столике; комнату, в которой столько часов проводил он, то занимаясь вместе с Катей и Соней французским, то слушая в сумерках чтение Владимира Константиновича или проходя с ним роль мастера Генриха.{213}
Владимир Константинович кончил писать, запечатал конверт зеленым сургучом, потушил свечи, закурил папироску и прошелся по комнате.
– Хорошо вы скакали по полю с Катей! Так красиво ездить верхом. Высокие сапоги к вам идут: вы от них стройнее и мужественнее, пахнет от вас кожей и лошадью, будто казак какой-то, «тайный похититель дев», – медленно говорил Владимир Константинович, улыбаясь, думая о чем-то совсем другом.
Став у окна с темнеющим закатом, он замолчал.
Алеша тоже молчал и, смотря на дорогу, по которой недавно скакали они с Катей, мечтал о себе, каком-то другом, сильном, веселом, грубом, от которого пахнет кожей и лошадиным потом. Печалью и тревогой наполняли Алешу эти смутные мечтания.
– Ну что там внизу? – спросил Владимир Константинович, отворачиваясь от окна, громким и веселым голосом, будто стараясь отогнать свои тоже невеселые мысли. – Тетушка злобствует и тиранит?
– Да, Аглая Михайловна чем-то недовольна, – ответил Алеша.
– Злая девка, фантастическая, как у Достоевского то же про Аглаю сказано.{214} Притом же старая дева, ну вот и развела куражи да интриги. Ведь вы главный виновник торжества, Алеша, – посмеиваясь, говорил Владимир Константинович.
– Я не знаю, чем я мог прогневить Аглаю Михайловну, – вдруг будто что-то вспомнив, что-то поняв, смущенно пробормотал Алеша, густо покраснев, что в сумерках, впрочем, не было заметно.
– Какой вы еще мальчик, Алеша, – серьезно сказал Владимир Константинович и быстро переменил разговор. – Хотите, почитаемте до ужина.
Он взял с полки маленький, хорошо знакомый Алеше томик Пушкина и, сев в кресло, рассеянно перелистывал его.
Мычали коровы на заднем дворе, кухарка ругала кучера, и звонко разносились ее слова по воде.
– А ты не лай, а ты не лай, – кричала она, не давая вымолвить слова своему собеседнику.
– Вы в Петербург едете, Владимир Константинович?
– Ах, Алешенька, ничего я не знаю, ничего я не знаю! – задумчиво ответил тот и, закинув руки за голову, замолчал с раскрытым Пушкиным на коленях, в темных уже сумерках у открытого окна, а снизу, из гостиной, доносился высокий, детски-сладкий Сонин голос:
Мне минуло шестнадцать лет,
Но сердце было в воле.
Я думала, весь белый свет —
Наш бор, поток и поле.
– Не надо грустить, Алеша. Еще так много радостей, так много радостей вам, – сказал Владимир Константинович.
Алеша молчал. Соня допевала внизу:
Ни слова ни сказала я,
За что ж ему сердиться?
За что покинул он меня
И скоро ль возвратится?{215}
III
Обманные августовские дни нежданным возвращением после дождливых, сумрачных вечеров, холодных закатов, снова ясного, словно вымытого, неба, жгучего утреннего солнца, летней праздничной истомы манят воображение. Когда Алеша проснулся и увидел солнце на шторах, желтого зайчика на обоях, казалось ему, что не было вчерашнего тоскливого вечера, неприятных разговоров, тяжелых мечтаний, скорого отъезда; казалось, что лето еще только начинается, что много радостных и безоблачных дней, веселых прогулок, тихих вечеров ожидают его.
Алеша быстро оделся и, не умываясь, вышел на балкон. По-летнему было жарко, по-летнему застывшими стояли деревья, синело безоблачное небо, зеркалом блестело озеро, только слишком прозрачные дали с пригорками и селом, летом не видными, напоминали осень.
Из соседнего сада Алешу окликнул приват-доцент Долгов, гостивший у управляющего.
– Ну, сегодня и вы, надеюсь, не скажете, что холодно купаться. Идемте-ка, батенька, а то заспались совсем.
Он стоял, размахивая мохнатым полосатым полотенцем, рыжий, веселый, весь в солнце, и Алеше стало еще радостнее от его громкого голоса, раскатистого смеха, чесучевого пиджака, напоминающего, что лето не кончилось.
Не захватив с собой даже фуражки, Алеша побежал догонять Долгова, который уже шел, подпрыгивая и напевая что-то. К купальне надо пройти всей усадьбой, расположенной вдоль озера. Кучера у конюшни мыли экипажи.
– Опять фестиваль какой-нибудь затевают наши ленд-лорды, – сказал Долгов насмешливо.
– На лихую кручу сегодня двинемся, – скаля зубы, приветливо раскланиваясь, закричал кучер Кузьма.
– На лихую кручу, лихую кручу, – басом запел Долгов.
В большом доме все шторы были еще спущены, и только Владимир Константинович в русской белой рубашке, голубых носочках и желтых сандалиях прохаживался в цветнике с маленькой, как молитвенник, книжечкой в сафьяновом переплете.
– От 10 до 11 господин Башилов изучает французских поэтов, от 11 до 12 – греческих, потом английских. После 2-х пишет любовные письма, а стрех деловые, т. е. просит денег или отсрочки платежей. Замечательно пунктуальный человек. Только расходы свои с приходами никак не может свести. Посему томен и элегичен,{216} – говорил Долгов, язвительно улыбаясь.
В купальне Долгов быстро разделся и, делая французскую гимнастику, громким голосом поучал:
– Надо быть сильным и бодрым. Разве не высшая радость иметь здоровое тело, свежую голову, хороший аппетит? А то посмотрите на себя: ведь вы и не поправились за лето, а еще молодой человек. Стыдно, стыдно.
Алеша смотрел на его красную волосатую грудь, толстые обрубистые ноги, и ему уже не хотелось, как вчера вечером, быть сильным и грубым.
Со всего размаха бросился Долгов в воду, и она запенилась и зашипела от его тяжелых движений.
– Хорошо, – высовывая голову из-под воды, кричал он. – Отлично, замечательно, лезьте скорее, а то забрызгаю.
Такой большой, неуклюжий и красный, он казался маленьким мальчиком, на которого Алеша смотрел с пренебрежительной улыбкой, стоя на верхней ступеньке и только одной ногой пробуя холодную воду.
Алеша осторожно вошел в воду, окунулся и лег на спину. Солнце слепило глаза, и, зажмурившись, едва работая ногами, Алеша плыл, будто убаюкиваемый.
– Больше пяти минут вредно, – закричал Долгов, взглянув на часы, положенные им на перила, и полез жестоко тереть себя мохнатым полотенцем.
Пока Алеша с ленивой медленностью одевался, Долгов ходил по купальне быстрыми шагами, курил, иногда начиная скакать на одной ноге, чтобы вытряхнуть воду, набравшуюся в уши, и громыхал:
– В ваши 17 лет деревенские парни уже хозяева и часто мужья. А вы совсем мальчик, грудная клетка не развита, руки без мускулов. Какой вы мужчина, вас не только баба, любая девчонка пальцем задушит. Кстати, характерный анекдот. Знаете Лизку рыжую, девчонка ведь совсем, лет 16, и связалась она с нашим кучером Яковом. Василий Иванович поймал, как она в окошко на сеновал лезла; ну, прогнал, конечно, а Якову нагоняй: как не стыдно, говорит, ведь она совсем девочка, а ты ее портишь. Яков смутился, чуть не плачет: «Она сама лезет, кто ее испортит. Я этим делом до сей поры не занимался, а она три года уж гуляет». – Тут Василию Ивановичу был конфуз, а ведь Якову поди лет 20, здоровенный парень. Вот мужчины нашего века и женщины, их достойные.
Алеша, задумавшись, почти не слышал приват-доцента, и только когда тот распахнул дверь купальни и закричал: «Довольно прохлаждаться, идемте простоквашу есть по Мечникову»,{217} – Алеша сорвался со скамейки и, быстро натянув рубашку, с кушаком в руках, выбежал за Долговым на мостки.
Алеше хотелось идти домой и посмотреть почту; хотя писем особенно интересных он ждать не мог, но любил первым разобрать всю корреспонденцию, распечатать газеты, разрезать журналы. Долгов же почти насильно, взяв за плечи, втащил его в сад управляющего.
– Нечего, нечего, идемте простоквашу есть. Дали бы мне вас на недельку, вышпиговал бы здорово.
Двухлетняя Оля, в кисейном белом платьице, с голубыми глазами, с рыжими, как у отца, кудрями, голыми ножками, бежала, протягивая пухлые руки навстречу.
– Ну, что, дофина?{218} – поймал ее Долгов, взял на руки и понес, высоко подбрасывая смеющуюся девочку к балкону.
– Далеко не ходи, смотри, – сажая в песчаную гору, где двоюродный брат Олин Сережа возводил сложные какие-то укрепления, сказал Долгов и пошел на балкон.
– Не пойду, я с Сереженькой буду, – картавя ответила девочка серьезно.
На обтянутом парусиной балконе сидели три дамы, все веселые, шумные и в капотах, – жена управляющего, ее сестра, жена Долгова, и третья их сестра, акушерка, девица Говядина. Все они говорили разом, громко смеялись, и каждая сама себе наливала кофе из огромного медного кофейника, отчего на маленьком балконе было шумно и тесно.
– А, Алексей Дмитриевич, редкий гость, – заговорила мадам Долгова, – только и видим, что с окошечка, как на барский двор пробираетесь. За кем же вы ухаживаете – за Сонечкой или Катечкой?
– За Аглаей Михайловной, – громыхал Долгов.
– Нечисто тут дело, – ехидно запела жена управляющего, и за ней мадам Долгова и мадемуазель Говядина, и все три враз погрозили пальчиками.
– Ну, насели на парня, он и так робок, – закричал Долгов, чмокнул с утренним приветом всех трех сестер и потребовал простокваши.
Дамы заговорили вперебой о чем-то другом. Пришел сам управляющий, Василий Иванович, еще молодой человек английской складки в полосатой кепке.
Долгов посолил простоквашу и заставлял Алешу есть из одного с ним горшка.
– Бардзо добже,{219} – говорил он, громко чмокая и облизывая усы.
– На завтра назначен отъезд, – сказал Василий Иванович, улыбкой показывая золотые пломбы.
– Ну вот, хоть недельку отдохнем без призора Аглаи Михайловны, на свободе. Кстати и погода теперь установилась, – заговорила мадам Долгова.
– Бабье лето, – с видом остроумца сказал Долгов, и все засмеялись.
На балкон вошел Сережа. Было ему лет восемь, вид он имел неприятный, мотался из стороны в сторону и гримасничал; шалости его всегда были злые и жестокие.
– Ну что, Сергиус, хочешь, простоквашей угощу, – сказал Долгов и протянул деревянную ложку, с которой капало на скатерть и в чашку Говядиной.
Сережа, ломаясь, подошел к столу, исподлобья взглянул на Долгова и, скривив губы, сказал, тихо и равнодушно:
– Оля как куст горит, я не виноват.
Долгов, будто не слыша, переспросил: «Что?», – потом бросил ложку на стол, обрызгав Алешу простоквашей, и вскочил.
– Где? – хриплым шепотом спросил он и, не дожидаясь ответа на вопрос, побежал в сад; все вскочили за ним.
Алеша один, кажется, слышал апатичный Сережин ответ: «Там, у рябины», – и поэтому прямо свернул на боковую аллею хорошо известного ему сада.
Около красной рябины, на желтой дорожке увидел Алеша мигающее, движущееся пламя. В ужасе остановился Алеша, не понимая, что это идет к нему навстречу вспыхнувшая Оля, от дыма не могшая кричать. Несколько секунд прошло в полном молчании. Все, казалось, застыло, и только беспощадное солнце жгло, да тоненький синий язык пламени подымался от горевшей девочки. С другой стороны бежал Долгов; увидев огонь, он вскрикнул и, обжигая руки, бросился срывать платье с Оли. После крика Долгова закричали все. Откуда-то бежали женщины, кучера, мелькнули лица Аглаи Михайловны и Владимира Константиновича. Долгов стащил пиджак и, как обезумевший, мял, давил огонь всей тяжестью своего тела, хотя ему и кричали, что он задушит Олю.
Какой-то парень вытащил перочинный нож, выхватил тлевшую еще Олю из рук Долгова и, разрезав платье, ловко содрал его с девочки.
Алеша стоял неподвижно у решетки; он чего-то не понимал, хотя ясно видел и слышал все: видел, как парень нес, держа обеими руками, что-то красное и отвратительное, что осталось от Оли; как мать девочки кричала на тупо гримасничающего Сережу: «Убийца, убийца, он ее сжег», – и потом повалилась на куртину с розами, а садовник сказал: «Цветочки изомнете; может, еще и отходится»; как Аглая Михайловна садилась в экипаж ехать за доктором.
Все наконец разошлись; только из дома управляющего несся протяжный стон, будто выла собака – это акушерка Говядина купала Олю.
Алеша остался один у решетки; на желтой дорожке тлела куча пепла и в стороне лежал рыженький локон, будто срезанный на память аккуратной и нежной рукой.
Все это продолжалось несколько минут.
Из дома управляющего кто-то крикнул:
– Принесите скорее аптечку из барского дома.
Алеша, вдруг выйдя из столбняка, перепрыгнул через забор и бросился к дому. На террасе встретили его Соня и Катя, бледные, с распущенными волосами, в нижних юбках и ночных кофточках.
– Что, что такое случилось? – накинулись они на Алешу.
– Такой ужас, Сережа сжег Олю в саду. Она кричит, слышите? – и, вырвав аптечку из рук горничной, он побежал обратно.
Долгов, без пиджака, с обвязанными пальцами, согнувшись, быстро прошел, тупо взглянув на Алешу. На скамейке сидела мать Оли, облокотясь на Василия Ивановича, и не плакала, не кричала, но какими-то остановившимися глазами смотрела на Сережу, который спокойно занимался своими песчаными укреплениями.
Говядина с засученными рукавами деятельно распоряжалась и, взяв аптечку, закричала на Алешу:
– Что же ваты-то не принесли, тысячу раз говорить? Несите скорей!
Алеша опять бегом отправился к барскому дому. Алешу удивил обычный и спокойный вид самовара на террасе, расставленных аккуратно стульев и Владимира Константиновича, опять взявшегося за свою книжку.
– Ну, что там? – спросил Башилов равнодушно.
– Не знаю, – раздраженно дернул плечами Алеша.
– На вас лица нет. Вы не ходили бы больше туда. Все равно помочь трудно, – сказал Владимир Константинович.
– Ваты нужно.
– Я сейчас позвоню и пошлю горничную.
Они замолчали.
– С барышней плохо, – понижая голос, сказала горничная, входя.
Владимир Константинович вздрогнул.
– Я так и думал, – и быстро пошел в комнаты. Сам не зная зачем, Алеша пошел за ним.
В комнате девочек шторы были опущены. Соня, совсем одетая, стояла на коленях, со стаканом воды, перед неубранной кроватью, на которой лежала Катя, все в той же кофточке и нижней юбке. Ноги ее в черных ажурных чулках и желтых туфлях сводило судорогами. Глаза, полузакрытые ресницами, мутно блестели. Руками она будто не то отталкивала, не то привлекала к себе кого-то невидимого. Владимир Константинович нагнулся к ней и ласково погладил по голове.
– Катюша милая, не надо, не надо. Слышишь, не надо, – шептал он, как бы приказывая.
Судорога еще сильнее дергала все тело. На мгновение Катя приподнялась даже, глаза широко раскрылись, потемневшие губы что-то шептали, но слов не было слышно из-за крепко стиснутых зубов. Вдруг одно слово тихо, но явственно, произнесла она:
– Алеша, – и снова забилась.
Алеша стоял в ногах и смотрел, испытывая тот же ужас, что полчаса назад, в саду управляющего. Новым, незнакомым и вместе близким каким-то казалось ему это посиневшее лицо, закрытые, будто в странном томлении, глаза, запекшиеся губы, шептавшие его имя. Владимир Константинович встал на колени и, гладя бившиеся ноги, целуя извивающиеся руки, говорил что-то нежное и вместе повелительное. Алеше казалось, что он читал не то молитву, не то заклинание.
– Зачем вы здесь, этого еще недоставало! Сумасшедший дом какой-то, – гневно шипела Аглая Михайловна, ураганом врываясь в комнату…
IV
Владимир Константинович догнал Алешу на балконе.
– Ничего, Катя заснула, теперь ей легче будет. А вы идите домой, немножко отдохните. Не волнуйтесь, – говорил он и гладил Алешу так же нежно и повелительно, как минуту назад бившуюся Катю. – Не волнуйтесь. С девочками Катиного возраста это часто бывает. Невидимый жених их посещает, как сказано где-то. Идите домой, а потом надо будет всем куда-нибудь подальше отправиться, хоть на таинственное озеро.
Беспощадно жгло солнце. Полдневная застывшая тишина нарушалась только безостановочным заунывным стоном, несшимся из открытых окон дома управляющего. Шатаясь от слабости, стараясь убежать от этого стона, едва добежал Алеша, собирая последние силы, до дому. Захлопнув окно в своей комнате, спустил штору и, обливаясь потом, повалился на кровать.
Дмитрий Павлович позвал Алешу обедать. За столом они молчали. Отодвинув тарелку, Дмитрий Павлович прокашлялся и сказал:
– Я хотел с тобой поговорить, Алексей. Ты плохо смотришь. Такая неприятность сегодня. Потом еще с Екатериной Александровной это случилось. Видишь ли, я, конечно, понимаю, все это пустяки, но с другой стороны… Вы оба так нервны, это очень вредно и нехорошо. Ты не виноват, я тебя не упрекаю, но как-нибудь, понимаешь ли, надо держаться осторожнее, хотя, конечно, с другой стороны…
Дмитрий Павлович запутался и закашлялся. Кухарка подала второе. Сбивчивы и мягки были слова отца, но, как хлыстом по лицу, ударяли они Алешу и вместе с тем непривычной беспокойной сладостью наполняли. Он то бледнел, то краснел и наконец сказал громко:
– Если хотите, папа, я перестану бывать там, но ведь вы сами меня посылали.
– Нет, зачем же совсем, только целый день напрасно торчать, а изредка… Вида не надо показывать, к тебе так мило относятся все, и Аглая Михайловна, – мямлил Дмитрий Павлович.
«Вот это что», – подумал Алеша и, странно успокоившись, принялся за курицу с рисом.
Заглушенный, ослабевающий, но непрестанный стон боровшейся еще со смертью Оли несся из дома управляющего.
– Барину и молодому барину велят гулять идти, – сказал, влезая прямо в столовую, кучер Кузьма.
– Хорошо, сейчас, мы сейчас, – засуетился Дмитрий Павлович.
Алеше была неприятна эта поспешность. «Перед хозяевами лебезит», – думал он и с преувеличенной медлительностью мыл руки, надевал чистую рубашку.
– Алеша, я иду. Неловко заставлять себя ждать, – закричал Дмитрий Павлович.
– Хорошо, я сейчас, – ответил Алеша и, рассматривая в зеркало свое еще больше побледневшее за сегодняшний день, с кругами под глазами лицо, он помедлил немного, хотя ему уже хотелось скорее бежать и сердце падало и замирало от сладкой тревоги.
На террасе Аглая Михайловна в крутой с огромными полями соломенной шляпе энергично складывала ватрушки в корзину; Соня, тоже в шляпе, пела у рояля в гостиной, улыбаясь на слова румяного гимназиста Анатолия Корчагина, сына соседа-помещика. Туся и Муся, барышни Корчагины, чинно рассматривали альбомы за круглым столом. Сам Корчагин в светлом жилете и серых перчатках, седой, элегантный, пахнущий пачули,{220} прохаживался в цветнике с Марией Константиновной и, изящно жестикулируя, что-то рассказывал ей горячо и почтительно, на что дама в кружевной накидке, с маленьким китайским лиловым зонтиком, улыбалась улыбкой королевы, уже отцветающей, но еще прекрасной.
Из липовой аллеи вышли Катя и Владимир Константинович. Катя в голубом платье, соломенной шляпке шла, опираясь на руку дяди Володи, который говорил ей что-то и улыбался. Катя имела вид вполне спокойный, равнодушный и даже веселый. Только некоторая бледность лица, усталая томность в движениях и как-то необычно темневшие глаза напоминали о припадке.
Когда Катя увидела Алешу, будто легкая тень скользнула по ее лицу; может быть, это был луч солнца, прорвавшийся сквозь густую еще листву пожелтевших лип. Но сейчас же она успокоилась, и только легкий румянец появился на бледных, опавших щеках.








