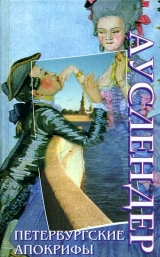
Текст книги "Петербургские апокрифы"
Автор книги: Сергей Ауслендер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 53 страниц)
– А снег хорошо пололи вчера? Что же вам вышло?
Лиза удивленно взглянула на него.
– Снег полоть еще рано, барин. В посту грех. Так я пойду на стол подавать.
– Что бы это значило? Путают они что-то! – задумчиво повторял Костя, шагая из угла в угол по комнате.
Алексей, проснувшись, кричал весело:
– Ну, как спал, Костик, на старом пепелище? Я же отлично; и елку видел во сне, и подарок мне подарили. Только какой, – тут меня и разбудили. Вот досада! Это к удаче, Костик, не правда ли?
– Да, да, конечно, – рассеянно отвечал Константин. – Вставай скорей, тетушка с завтраком ждет.
– Благодать! – стоя в одном белье, намыливая лицо и шею, болтал Алексей, – не жизнь, а малина. От завтрака до обеда, потом до ужина. Пожалуй, танцевать с поповнами заставят и медведем рядиться.
Долго и тщательно одевался Алексей, болтая веселый вздор и напевая: «Должна признаться, люблю кататься я со студентом молодым, да не с одним».
Натянул новые малиновые рейтузы, старательно зачесал редеющие височки, тоненькой кисточкой тронул около глаз и губы, напудрился, надушил платок мимозой терпкой и приторной, осмотрев себя в зеркало, прищелкнул пальцами:
– Недурна канашка!.. Ну, пойдем, Костик, что таким мрачным встали, ваше сиятельство?
В столовой, просторной и пустоватой, было как-то особенно светло от снега за окнами и неповешенных еще к празднику гардин.
Андрей Павлович возился около спиртовки. Мария Петровна в величественном капоте и чепце с бантами, с болонкой на коленях, пила кофе, косясь из-под пенсне на газетный лист, развернутый перед ней.
– Что же вы мне вчера не сказали, что в Париже наводнение. Французский посол устраивает базар в пользу пострадавших. Люся и Тоня, верно, опять будут выставляться, ждать женихов, – оживленно заговорила она, целуя братьев в лоб.
– Пей, матушка, кофе. Убирать пора, да и завтракать. Потом в Осиновку поедем. Что тебе за забота до Парижа, – ворчал Андрей Павлович, наливая стаканы Косте и Алеше.
Вошла Шура.
В беленьком платьице с синим матросским воротником, в платочке, повязанном по-крестьянски, она имела вид девочки, и будто солнцем озарила Костю ее веселая лукавая улыбка, когда она здоровалась с ним; что-то знакомое и милое узнавал он в ней и сам улыбался, слушая шутки, которыми сыпал Алексей.
До завтрака пошли в залу петь.
В большом камине ярко горели дрова.
Пока Алексей ходил за нотами, Шура показывала Косте своих инсепараблей{234} в золоченой клетке.
– Мне их мисс Нелли подарила. Папа говорил, подохнут, а они живут и ручными совсем стали. Смотрите, какие милые, – щебетала Шура.
Она открыла клетку, и четыре зелененькие птички выпорхнули, закружили по комнате и на Шурин голос слетелись все снова, и с писком садились на голову, плечи, руки хозяйки.
– Помните, Костик, – будто обмолвившись, назвала Шура Костю старым, детским именем и сама вспыхнула и засмеялась, – помните, мы бегали по этой зале, спасались от разбойников. Разбивали табор… Как это было давно!
– А мне кажется, это было вчера. Всего два года прошло, и все время я так часто вспоминал Курганово и вас, – ответил Костя, чувствуя, что радостным румянцем заливается и его лицо.
– Будто бы вспоминали нас, провинциалов? – кокетливо промолвила Шура.
– Какая идиллия, прелесть! – хохотал Алексей. – Дева, кормящая птиц небесных! Только ты, Костик, более поэтическую позу прими, преклони хоть колено! Вот так. – И он сам гибко опустился на колено; и, взяв Шурину руку, поднес ее к губам и запел какую-то арию.
Шура смущенно улыбалась. Встревоженные инсепарабли закружили над ее головой.
Костя сел аккомпанировать; старый рояль певуче дребезжал. Гулко разносились по зале голоса: слегка надтреснутый маленький, но приятный Алексея; по-детски сладкий еще, высокий – Шурин. Она нагибалась к нотам, и кончиками платка касалась Кости, и сладко и радостно ныло его сердце.
Завтрак прошел оживленно и весело. Мисс Нелли смеялась до того, что закашлялась и принуждена была удалиться из-за стола.
После завтрака Андрей Павлович и Мария Петровна стали собираться. Рыженький Рысачок уже ржал нетерпеливо у крыльца.
– А вы, молодежь, с горы покатайтесь или на лыжах, – сказала Мария Петровна.
– Да, да, на лыжах! Я еще не обновила своих, – захлопала в ладоши Шура и побежала причесаться.
Костя и Алеша смотрели из окна, как усаживались в ковровые мягкие сани Мария Петровна в лиловой ротонде{235} и Андрей Павлович, еще красивый и стройный в своем с красными цветочками дубленом полушубке и в шапке с ушами на заячьем меху, который сливался с седыми кудрями его.
– Красивый старик генерал, – сказал Алексей и, помолчав, прибавил тихо. – Два дня еще.
Костя ничего не ответил. Страшная мысль на минуту омрачила его, но Шурочка, уже совсем готовая, в крытой красным бархатом шубке, высоких суконных сапогах, шапочке с меховыми отворотами, весело вбежала.
– Что же вы не одеваетесь, господа кавалеры? – кричала она.
Алексей надел коротенькую охотничью куртку, Костя – шинель. Лиза помогла натянуть им валенки; Василий ждал на крыльце с лыжами.
Захрустел твердый наст. Скатились с горы; переправились через реку, и поле, с черневшей далекой опушкой леса, открылось перед ними. Покатили быстро, сосредоточенно работая палками, изредка перекидываясь короткими фразами.
Костя бежал быстрее и, обогнав, останавливался, и, оглядываясь, смотрел на разрумянившуюся, улыбающуюся ему Шуру, и сам улыбался ей, и хотелось бежать еще быстрее и дальше, дальше без конца…
Поднялись на пригорок.
– Покатимся без палок, – закричала Шура.
– Кубарем бы не скатиться, – смеялся Алексей, – в мои годы это не очень прилично.
– Ну, вот еще! Папа с нами катается в овраге, там в десять раз круче.
– Катитесь, дети, а я посмотрю и покурю, – ответил Алексей.
Костя встал рядом с Шурой.
– Раз, два, три! – скомандовал Алексей.
Костя оттолкнулся палками и полетел вниз, стараясь не перегонять Шуры.
– Падаю, падаю! Задавлю! – со смехом кричала Шура.
Костя обернулся, и в ту же секунду Шура пошатнулась, задела лыжей его лыжу, и оба они были в снегу.
– Браво, браво, бис! – кричал Алексей с горы.
Костя лежал внизу, Шура сверху. Она смеялась и от смеха не могла подняться. Алексей осторожно спускался на помощь, но Костя прижал к себе Шуру, приподнял и поставил.
– Спасибо, Костик! – второй раз назвала его так Шура. – Я бы завязла тут по горло. Вот что значит отвычка. С прошлой зимы не бегала. Но что с вашей лыжей?
Одна из Костиных лыж была сломана пополам.
– Как же теперь быть? – опечалилась Шура. – Придется домой пешком идти. Да вон наши едут, они вас подвезут.
Невдалеке по дороге мчались сани.
– Мама, папа, погодите! – закричала Шура и побежала наперерез саням… Алексей последовал за ней. Костя печально поплелся, таща лыжи и завязая в сугробах. Андрей Павлович придержал Рысачка, и Мария Петровна кричала взволнованно:
– Что такое? Костик ногу сломал?
– Нет, только лыжу, довезите его! – в сумеречной тишине звонко разносился веселый Шурин голос.
Костя добрался до дороги и сел на козлы.
– Не вывали нас, Костик. Смотри! – волновалась Мария Петровна.
– Раза два кувырните их, пожалуйста; там раскат есть удобный у моста, – смеясь, кричала Шура и, повернув лыжи, заскользила обратно.
Сдерживая резвого Рысачка, Костя косился на далекое поле, где на белом снегу алела Шурина шубка и рядом Алексей.
В доме топили печи, пахло горячим сдобным тестом и елкой, которую только что втащили в переднюю.
Мисс Нелли в серой вязаной фуфайке разбирала на полу залы корзины с елочными украшениями.
– Ну, как тебе Шура понравилась? Изменилась? – спрашивала Мария Петровна.
– Она очень милая, – отвечал Костя, глядя в окно на аллею, по которой должны были возвратиться лыжники.
– Смотрите, не влюбитесь, ребятишки; не посмотрю на твой юнкерский чин, выпорю! – погрозила пальцем вспыхнувшему Косте тетка и хлопотливо пошла на голос Андрея Павловича из столовой.
– Marie, где у тебя веревка? Вечно растащут, потом ищи!
Сумерки быстро надвигались, тусклые и метельные.
Между березами мелькала Шурина шубка, Алексей шел рядом с ней, держа лыжи, и что-то говорил Шуре, улыбаясь. Та, разрумянившаяся, слушала, опустив глаза, и тоже улыбалась.
Совсем молодым казался Алексей в своей курточке с мехом, в удальски заломленной шапке с пунцовым верхом.
Костя отошел от окна и заговорил с мисс Нелли, прислушиваясь, как долго и весело раздевались в передней Шура и Алексей.
– А вы уже приехали. Не вывалили? – как-то равнодушно спросила Шура на ходу и побежала через залу в свою комнату.
IV
На второй день праздников издавна был заведен обычай всем окружным помещикам съезжаться в Перетну к уездному предводителю Еваресту Степановичу Колымягину на именины. Кургановы хотя и держались в стороне от соседей, но с Колымягиными связывала их старинная дружба и даже отдаленное родство, поэтому Мария Петровна, поворчав немного накануне, объявила, что ехать необходимо.
Поднялись со светом, но пока одевались, пока домашняя портниха перешивала на новом Шурином платье ленты, оказавшиеся не на том месте, на котором полагалось им быть по мнению Марии Петровны, пока пили кофе и Андрей Павлович кричал на Василия, запрягавшего Рысачка в тройку, а не в одиночку, пока перепрягали лошадей, отыскивали для всех валенки и рукавицы, совсем рассвело, а когда выехали из усадьбы и поднялись на гору, солнце как-то вдруг выкатилось, заливая ясное небо и далекие снежные равнины багровым пламенем.
Впереди на Рысачке ехали: Андрей Павлович с Марией Петровной; на тройке: Костя, Алексей и Шура.
Шура, не выспавшаяся, закутанная в тяжелую ротонду, имела вид довольно кислый. Алексей тоже был молчалив.
Одного Костю радовало и солнце, и снег, и предстоящая длинная дорога. Сидя на облучке, он расспрашивал Василия о каждой повертке, о видневшихся вдалеке деревнях, вспоминал, как было раньше и что изменилось, оборачиваясь к сидящим сзади, старался оживить их, но Шура только качала головой и закрывала утомленно глаза, а Алексей отвечал односложно, меланхолически кутаясь в воротник шубы.
– Когда письма привозят, утром, рано? – спросил Алексей.
– Да часов в восемь, а разве вы ждете? – встрепенувшись, спросила Шура.
Костя оглянулся; каким-то жалким показалось ему лицо Алексея, сегодня особенно желтое, с подведенными глазами и накрашенными губами.
– Отчего же не ждать мне писем? – с притворным смешком отвечал Алексей. – Эх, Александра Андреевна, кому же, как не мне, осталось только сидеть у окошечка и ждать письмеца.
– Держитесь, барин! – крикнул Василий, и Костя покачнулся, едва успев схватиться за сиденье. Лошади галопом вынесли сани из глубокого ухаба и помчались по ровной дороге к лесу.
Алексей, понизив голос, сказал что-то, и весело засмеялась Шурочка.
Колокольцы заливались, скрипел снег под полозьями; голоса относило ветром, так что только отдельные слова оживленной болтовни долетали до Кости.
Алексей приосанился, отогнул воротник, подбоченился, смеялся, рассказывал анекдоты, пересыпая их невинными комплиментами; Шурочкины глаза тоже блестели из-под спущенного на лоб мехового отворота шапочки; красные губки ее улыбались, а Костя чувствовал себя почему-то отчужденным, и все реже оборачивался и вмешивался в шутливый разговор, и все реже обращался к Василию с вопросами.
Примелькались ему белые равнины, мерзли ноги, от нестерпимого блеска солнца на снегу утомлялись глаза.
Ехали долго. Синели и голубели снега, ослепительно сияли далекие пригорки.
Проехали большое торговое село. Народ расходился от обедни; ребятишки бежали за санями, клянча копеечку; у казенки{236} горланили мужики.
Выехали на широкий Боровичевский тракт, переехали по опасному мосту, над незамерзающей бурливой Перетной, и, наконец, Перетенская усадьба с недостроенной «вавилонской башней», с полуразрушенной каменной аркой и огромным красным остовом сгоревшего паркетного завода, – показалась в широкой ложбине.
Лихо пустил тройку под гору Василий и, несмотря на отчаянные крики Марии Петровны и грозные взгляды Андрея Павловича, не разбирая дороги, по косогору, раскатам, сугробам перегнал Рысачка.
– Молодец, Василий! – крикнул Алексей.
Василий, осклабившись, обернулся и, привстав, еще подстегнул лошадей.
– Какой красавец! – сказал Алексей по-французски. – Это тип русской красоты: румян, глаза бычачьи, усы черные, губы – малина. Сохнут об нем девушки!
Шура, будто вспомнив что-то, вспыхнула и потупила глаза.
– Ей-богу, – рекомендую влюбиться. Это пикантно для «молодой девицы или дамы», как пишут на модных картинках, – смеялся Алексей.
Усадьба являла вид полного запустения.
Широкий двор сплошь был занесен высокими сугробами. Пригодным для жилья из всех затейливых сооружений Перетенской усадьбы остался боковой флигель, длинный и узкий, к нему, по дороге между глубокими сугробами, Василий подкатил лихо, а Марии Петровне и Андрею Павловичу пришлось высадиться на снег, так как поворотить не было никакой возможности.
– Ты что же это, мерзавец, лошадей загонять хочешь? – яростно начал кричать Андрей Павлович, но Мария Петровна быстро успокоила его, сказав по-французски:
– Андрюша, не компрометируй себя!
– Ну уж, матушка, этот народ!.. – махнул рукой Андрей Павлович и пошел по веранде, занесенной глубоким снегом.
Все было нелепо и неудобно в усадьбе Колымягиных; наружная дверь вводила прямо в столовую, в которую наши путники и ввалились. За длинным столом уже сидело человек двадцать гостей. Сам Еварест Степанович в дворянском мундире и орденах, с длинными крашеными баками сидел во главе стола.
– А, Курганово двинулось! Ведите их раздеваться, а мы, господа, не будем им мешать! – будто скомандовал перед строем Еварест Степанович и прекратил суматоху, внесенную на секунду новоприбывшими.
Мария Петровна и Шура в тот же миг попали в объятья Елены Михайловны Колымягиной, дамы полной и суетливой, и худосочной дочери ее Лели. Мужчинами занялись сыновья Колымягиных, студент Юраша и кадет Павлуша.
В комнате мальчиков гости сняли свои шубы и валенки. Алексей подошел к зеркалу, поправил прическу, разговаривая с кадетом, который, краснея и восхищаясь гвардейской формой офицера, отвечал, становясь навытяжку: «так точно!», «никак нет!».
Костю занимал студент, расспрашивая о порядках в училище, а Андрей Павлович потребовал теплой воды и переодевался чуть не с головы до ног в крахмальное белье, сюртучную пару, которые были привезены, чтобы не измять в дороге, в чемодане вместе с платьями Марии Петровны и Шуры.
Наконец сам Еварест Степанович пришел за гостями и загромыхал благосклонным басом:
– Долго, судари мои, прихорашиваетесь, не по-военному. Идемте, идемте закусить скорее. Я для вас устриц припас. От Елисеева,{237} отличнейших. За завтраком я подавать не велел. Наша интеллигенция-то, пожалуй, с ними обращаться не сумеет, грызть начнет. А мы теперь, под сурдинку, и бутылочку разопьем. Давненько мы с тобой не виделись, Андрей Павлович, давненько. Все в хлопотах.
– Что ж ты опять завод какой-нибудь устраиваешь? – комкая непослушный воротничок, спросил Курганов иронически.
– Миллионное дело, mon cher!{238} Глинисто-каменно-угольные залежи на Перетенке оказались, и, кроме того, кинематограф завожу. Хочешь в компанию?
– Нет, уж уволь! Кто ж в твой кинематограф будет ходить? – обдергивая жилет, вымолвил Андрей Павлович.
– Как кто? – входя в азарт, басил Колымягин. – Простой арифметический подсчет. На ярмарку в Перетну съезжается ежегодно круглым счетом пятнадцать тысяч, местное население волости, помещики. У нас в России никто по пальцам сосчитать не умеет, потому и бьют нас, и еще мало.
– Да ну тебя, веди лучше есть. Сколько раз ты-то рассчитывал и подсчитывал.
– Стар стал – пеленаться стал, – засмеялся Колымягин так, что подсвечники на столе задребезжали.
Гостей из столовой уже перевели в гостиную.
Мария Петровна вышла в темно-малиновом платье; Шура в белом легком платье с высокой талией, убранном голубыми лентами, казалась рядом с некрасивой, не первой молодости Лелей совсем девочкой, шаловливой и слегка смущенной.
Алексей сейчас же подошел к барышням.
– Какой вы Ольгой-Татьяной{239} сегодня кузина, и наш приезд допотопных помещиков так стилен.
– Кто же Онегин? Вы, m-r Рудаков? – спросила, грассируя, Леля.
– Тогда Косте достанется роль Ленского. Кстати, он сегодня мрачен и томен, – с живостью ответил Алексей.
Колымягин, рассаживая за стол, посадил Костю рядом с Лелей. Алексей сел напротив, а Шура, которую Еварест Степанович хотел непременно посадить между сыновьями, побежала на другую сторону к Марии Петровне.
– Вы что бунтуете, кузиночка? – поймав ее за руку, сказал Алексей. – Кавалеров избегаете? Садитесь тогда со мной. Я буду служить вам защитой.
И он почти насильно усадил Шуру рядом с собой.
Леля, поджимая губы, жеманно занимала Костю разговорами.
Студент наливал рябиновку и чокался.
Солнце сквозь замерзшие окна заливало всю столовую.
Подали блюдо устриц. Хлопнула пробка шампанского.
Алексей учил Шуру глотать устрицы и требовал, чтобы она допила свой бокал. Шурочка смеялась, отказываясь. Было шумно и весело. Говорили в десять голосов.
У Кости от жары и вина с непривычки кружилась голова. Он уже не отвечал даже на вопросы Лели; молча пил, когда чокался с ним кто-нибудь, и неподвижными глазами смотрел на сидящих напротив Алексея и Шуру.
Из гостиной, где оставленные хозяевами на произвол судьбы гости должны были занимать сами себя, уж доносились звуки вальса. Наконец встали из-за стола. Алексей подошел к Косте и сказал, улыбаясь:
– Ну вот, в два часа дня уже пьяны, и бал в полном разгаре. Что с тобою, Костик, на тебе лица нет? Позеленел весь. Тебе нехорошо?
Мутно взглянув на брата, Костя ответил:
– Я все о тебе думал. Ведь завтра твоя судьба! – Он вдруг засмеялся хрипло и громко.
– Костя, ты пьян, подумай, что ты говоришь, тебе, как другу, я все рассказал… Что с тобой? – растерянно бормотал Алексей, бледнея. – Ты с ума сошел!
Он резко повернулся и, преувеличенно твердо ступая, пошел в гостиную.
– Пожалуйста, Алексей Петрович, будьте распорядителем, без вас ничего не выйдет. Все просят! – бежала ему навстречу Шура.
Алексей поклонился, подал ей руку и повел, сияющую и смущенную, в гостиную.
– Вальс, – через секунду донесся его раскатистый, слегка сиплый голос. – Вальс, пожалуйста.
Костя, прислонившись к стене, будто соображая что-то, шептал:
– Что я наделал! Что я наделал!
– Что же ты, Костик, не танцуешь? – накинулась на него Мария Петровна. – Барышень так много, а кавалеры по углам забились. Посмотри на Алексея, какой молодец; старше тебя чуть не на десять лет, а какой живой. Посмотри, какая они пара с Шурой. А ты как пентюх какой: не танцует, не ухаживает, от барышень бегает. Ну, пойдем, пойдем!
Она взяла Костю под руку и почти насильно втащила в гостиную. Алексей танцевал, небрежно повертывая Шурочку, заставляя обегать вокруг себя, приподнимая ее на воздух. Шурочка, оживленная, раскрасневшаяся, с распустившимися локонами, старательно выделывала па вальса.
– La valse est finie,{240} – закричал Алексей и, обмахиваясь шелковым платочком, прошел мимо Кости, не взглянув на него. Заиграли па-де-патинер. Мария Петровна толкала Костю:
– Ну, иди же, медведь косолапый!
Костя вышел на середину комнаты, оглянулся и подошел к Шуре. На молчаливый его поклон Шура сделала гримаску:
– Разве вы танцуете?
Костя еще раз молча поклонился.
Шура нехотя встала. Молча прошли они первый круг.
– Вам нездоровится? – спросила Шура и улыбнулась.
– Нет, ничего, – бормотал Костя, – почему вы думаете?
– Вид у вас мрачный, и Алексей Петрович говорил.
Они еще помолчали.
– Как вы сбиваетесь с такта! – промолвила Шура. – А кто из барышень вам больше всего нравится сегодня?
Костя промолчал несколько секунд, будто не слышал вопроса, и потом, совершенно неожиданно, сказал:
– Вы мне нравитесь.
Шурочка посмотрела на него насмешливо.
– Вот не думала. Каким вы комплиментщиком стали!
Они прошли еще круг молча.
Шура промолвила «мерси» и хотела сесть.
Костя задержал ее руку и сказал, запинаясь:
– Зачем вы, Шурочка, зачем?..
– Что зачем? Спасибо. Я устала! – И, вырвав руку, Шура побежала к Марии Петровне.
Алексей перерезал ей дорогу, подхватил и повел в круг.
Костя еще долго топтался, мешая танцующим.
– Что же ты не пригласишь Лелю, она хозяйка, неудобно! – шептала Мария Петровна, но Костя, не слушая ее, вышел из гостиной.
Костя прошел несколько полупустых комнат и в задумчивости остановился у окна.
Солнце уже зашло, и багрово-синим пламенем сиял закат. Машинально чертил Костя на замерзшем окне все одни и те же две буквы: А. К.
Заглушенная доносилась музыка из гостиной, пробежали мимо две барышни, смеясь.
Юраша прошел, посмотрел удивленно на отвернувшегося к окну Костю, спросил что-то и, не получив ответа, ушел. Кому-то аплодировали в гостиной, и опять заиграла музыка. В комнате становилось совсем темно. Закат бледнел, начинал падать снег.
В соседней комнате тихо говорили и смеялись сдержанно. Костя не слушал.
– Какая вы глупенькая, Шурочка! – долетел до него вдруг пониженный голос Алексея. – Ну же, ну!
Костя обернулся. В соседней комнате в сумраке белело платье. Алексей, стоя спиной к нему, еще что-то сказал тихо. Шура засмеялась. Алексей придвинулся к ней. Костя видел, как две обнаженные до локтя руки обняли Алексея. Явственный звук поцелуя раздался.
Костя не шевелился.
– Ну вот, так, так бы давно, милая моя девочка! – говорил Алексей. – Только смотрите, ни гу-гу.
И, разговаривая тихо, они прошли в другую комнату. Костя, осторожно ступая, шел за ними. В столовой Шура и Алексей остановились, встреченные Марией Петровной. Костя из темноты коридора долго разглядывал освещенные их лица, побледневшее Шурочкино, улыбающееся смущенно, и спокойное торжествующее Алексея.
Потом Костя медленно вошел в гостиную. Румяный попович, местный поэт, став в позу у рояля, декламировал:
Угас Грифошка наш! Угас!
Душа собачья отлетела!
Ведь он за сына был у нас,
Дитей души, души – не тела!
V
По училищной привычке Костя проснулся рано. Голова была тяжелая, слегка мутило; как после долгой болезни, тело было вялым и слабым. Не хотелось ни вставать, ни спать. Смутным и тягостным сном представлялось вчерашнее. Молчаливая обратная дорога. Метель. Василий вылезал искать след. Ехали медленно и долго. Алексей не сказал ни слова, прошел в свою комнату и крепко захлопнул дверь за собой. Тупо вспоминал Костя все, что произошло, будто это были не она, милая, любимая Шура, не он сам, а какие-то чужие, враждебные люди.
Особенно Алексей. И далекие отрывистые картины вставали перед Костей. Вот они мальчиками. Костя совсем маленький, неуклюжий, некрасивый. Алеша черномазый хорошенький кадет; «херувимчик» зовут его горничные; веселый, смелый, привлекательный для Кости и немножко страшный в своих шалостях.
Костя внизу под балконом в песке.
– Костик! – кричит Алеша с крыши. – Костик!
Костя встает и восхищенно смотрит на брата.
– Костик, я сейчас плюну на тебя! – кричит тот.
Костя не убегает, не ревет, а только сгибается и покорно говорит: «Ну, плюй!» Обидно ему и сладко, и кажется, что все, все готов он перенести от Алексея.
И другие возникали смутные и нежные образы, и, лежа в постели, Костя улыбался, и было, как в детстве, больно и сладко, и невыносимыми казались жестокие вчерашние слова.
Костя быстро вскочил, наскоро оделся и, не умываясь, на цыпочках вышел из комнаты.
Еще было совсем темно; едва белел снег за окнами, и красноватый пламень топившейся печки в столовой освещал один угол.
Лиза в нижней юбке, босиком вошла с посудой.
В темноте она не узнала Костю и тревожно ахнула:
– Кто это?
– Это я, – ответил Костя. – Почты еще не привезли?
– Перепугалась я, барин. Думаю, кто в такую рань встанет. К тому же поздно вчерась приехали. За почтой Василий поехал, надо быть, скоро вернется, – и, стуча пятками, Лиза побежала в кухню.
Костя прошел в переднюю, оделся и вышел.
Снегом за ночь завалило ступени крыльца и дорогу. Было холодно. Тусклый рассвет занимался. Костя, с трудом пробираясь широкими сугробами, пошел вниз по аллее. Зловещими призраками стояли высокие липы в инее. Костя спустился к мосту. Лаяли собаки в деревне; с ведрами бежали ребятишки к проруби. Костя стоял на мосту, засунув руки в карманы и хлопая ногой об ногу. Далекий донесся паровозный свисток. Светлее становилось небо. Одна мысль владела Костей: «Скорее бы, скорее бы ехал Василий, пока еще никто не проснулся в доме».
Долго пришлось стоять Косте. Наконец, далеко за деревней показались санки. Быстро ехал Василий, но Костя не мог дождаться и пошел навстречу к нему. Поравнявшись, Василий удивленно попридержал лошадь и сказал:
– Здравствуйте, барин. Изволите, подвезу?
Костя сел в сани; дух захватывало у него. Надо было начать говорить, и не знал он, как сказать.
Вот уж мост проехали, стали подыматься в гору.
– Что, письма есть? – спросил Костя, и голос его осекся.
– Кажись, семь штук.
– Кому, ты не знаешь?
– Нет, я не разбираю по-писанному; как почтарь дал, так и везу.
– Дай-ка, я посмотрю, нет ли мне? – Костя взял сумку, но в эту минуту подъехали.
Андрей Павлович смотрел из окна, поджидая газет.
Но Василий не сдержал Рысачка у парадного крыльца, и тот понес к конюшням.
– Ничего, я через кухню пройду, – сказал Костя и на ходу соскочил.
В темных сенях он вытащил из сумки пачку писем. Первым был узкий розоватый конверт, знакомыми духами от него пахнуло, и Костя, не смотря даже адреса, поспешно сунул письмо за обшлаг. Андрей Павлович кричал из кухни:
– Ну, Костик, почту давай скорей!
Раздеваясь в передней, Костя осторожно вытащил письмо и долго рассматривал крупным, острым почерком надписанный адрес и зеленоватую большую печать с головой Антиноя.
Хотелось Косте разорвать, бросить в огонь это страшное письмо, но, заслышав шаги по коридору, он быстро спрятал конверт в боковой карман и прошел в свою комнату.
Дверь в комнату Алексея была закрыта.
От Костиных пальцев пахло духами письма; в каком-то ужасе, будто отмывая кровь, усердно принялся Костя мыть руки, намыливал их несколько раз, и все казалось ему, что тонкий приторный аромат не выдыхался.
Костя отдернул занавеску и взялся за книгу. Буквы прыгали, прочитанные строчки оставались непонятными, и все внимание невольно отвлекалось к тому, что делается в комнатах Шуры и Алексея. Но там было тихо.
Долго сидел Костя, поднося по временам к лицу пальцы, от которых едва уловимый, сладкий и ядовитый запах несся; будто случайно проводил рукой по куртке, щупая не пропало ли письмо, или не приснилось ли ему все это. И прислушивался так, что, казалось бы, каждый вздох, каждое слово услышал бы, но никто даже не шевельнулся в соседних комнатах.
Наконец Лиза постучала в дверь:
– Кофе кушать!
Костя стукнул Алексею:
– Алеша, вставай! – Но, не получив ответа, вышел.
Андрей Павлович один сидел за самоваром. Отложив газету, он налил Косте стакан и сказал:
– Гулять ходил? Молодец! Утром полезно пройтись. Я сегодня проспал. Этот дурацкий вечер! Последний год туда ездок. А тебе было весело?
– Да, дядя, конечно! – рассеянно ответил Костя.
Они молча допили свои стаканы.
– Хочешь, пройдемся на скотный? – предложил Андрей Павлович.
Целый час водил он Костю по стойлам, объясняя породистость тучных, высоких коров. В теплом коровнике пахло молоком и навозом. Андрей Павлович кричал и распоряжался, а Костя думал только о том, как бы скорей возвратиться.
Когда они вернулись, все уже встали.
Шура в сереньком пуховом халатике и Мария Петровна в капоте пили чай. Мисс Нелли у окна вязала, Алексей ходил по столовой и курил. Громкий, веселый голос его услышал Костя еще из передней. Алексей поздоровался с братом, молча подставив щеку, и, коснувшись этой, слегка колючей, пахнувшей табаком и духами щеки, Костя такую нежность почувствовал к Алексею, что хотелось ему заплакать, или поцеловать эту маленькую, волосатую руку, или хоть сказать что-нибудь ласковое.
Но Алексей отстранился; что-то холодное и суровое было в его глазах, и, посмеиваясь, продолжал он свой рассказ:
– Этот попович прямо ископаемое какое-то. Он напился потом, стал читать нам свои экспромты, к несчастью, непечатные. Удивительный тип. Да, один можно прочесть. Опять в честь Грифошки, вот собачий поэт:
Это – золото, не пес;
Он ужасно зол от уха.
У него ведь в ухе чёс
Оттого, что золотуха!
– Фу ты, какая глупость! – смеялась Мария Петровна.
Шура блестящими глазами следила за каждым движением Алексея.
Томительно проходил день для Кости. Шура пела. Потом Алексей у камина читал ей и Марии Петровне Мопассана{241} по-французски. Прислушиваясь к мягкому, слегка картавому выговору, Костя ходил по кабинету, смотрел то на Алексея, закинувшего ногу за ногу, то на Шуру, сидевшую нагнувшись к коленям матери и неподвижными, немигающими глазами уставившуюся на Алексея, изредка дотрагивался до кармана, нащупывая письмо, и становилось грустно и страшно ему.
В сумерках, ходя по зале, долго и тихо о чем-то говорили Шура и Алексей, а Костя прислушивался к их шагам, сидя в кабинете с книгой в руках, не перелистывая страницы, не разбирая в темноте строк, но не властный встать, сделать хоть малейшее движение.
Сейчас же после обеда все разошлись. Шура ушла в свою комнату. Мария Петровна в спальню. Андрей Павлович писал и щелкал на счетах в кабинете. Костя сел со своей книгой к столу в гостиной, за которым мисс Нелли вязала. Алексей долго ходил по темному, освещенному камином залу, насвистывая из Фра-Диаволо.{242} Потом он постоял, прислонившись к косяку в дверях гостиной, кинул несколько шутливых слов мисс Нелли и пошел по коридору.
Костя слышал, как он постучал в дверь Шуры: «Можно?»
Только стучали спицы мисс Нелли, тикали часы и где-то хлопала оторванная ставня.
Наконец вышла заспанная Мария Петровна.
– Куда же все разбежались? – спросила она. – Пойдем, Костик, искать пропавших.
Костя пошел за ней. Сильно билось сердце, и ноги дрожали.
– Шура! – закричала Мария Петровна. – Шура, куда ты забилась? – и, не дожидаясь ответа, открыла дверь.
Мария Петровна ничего не заметила. В комнате была полутемнота от густого розового колпака на лампе. Но зоркий и ревнивый взор Кости заметил и то, что слишком преувеличенно далеко, на разных концах дивана сидели Шура и Алексей, и то, что слишком быстро вскочила Шурочка и бросилась матери на шею, слишком весело заговорил Алексей.
– А мы здесь план обсуждаем, как рядиться.
– Ну, что ж, вот и отлично, – сказала Мария Петровна.
– Ты, Шурочка, Нимфой.
– А я козой, – запищал Алексей.
– Что это у тебя, какая-то перестановка, – спросила Мария Петровна, оглядывая комнату.
Костя заметил, как вдруг покраснела Шурочка и сбивчиво отвечала:








