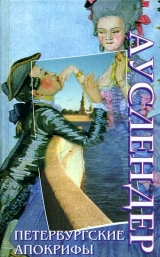
Текст книги "Петербургские апокрифы"
Автор книги: Сергей Ауслендер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 53 страниц)
Желтая карета{340}

I
Желтая маленькая карета со спущенными занавесками, запряженная серым жеребчиком, с кучером в зеленой ливрее на высоких козлах повернула на набережную Мойки. Два молодых человека остановились на углу Невского, давая ей проехать.
– Ба! Карета маэстро Корнелиуса. Ну, Сашка, не будет нам удачи, – воскликнул один из молодых людей, – знаешь, попа ли, чародея ли встретить, идя на амурное свидание или к ростовщику, – это не к добру.
– Но ведь ни то ни другое не предстоит нам сегодня, – ответил другой, невольно следя взором за блестевшей на октябрьском солнце желтой каретой, быстро удалявшейся.
– Счастлив наш Бог, а то у Корнелиуса глаз тяжелый, особенно для влюбленных и должников.
– Да кто же этот столь таинственный господин Корнелиус?{341} – спросил Александр Федорович Буранов, из двух собеседников младший, еще по провинциальному неловкий в своем изящном от модного портного рединготе.{342}
Другой, Семен Иванович Серебров, был невысокого роста, в длинных рыжеватых кудрях, с слегка одутловатым бледным лицом, которому придавал он то ироническое, то мечтательное выражение, в очках, одетый тщательно и даже щегольски, с намеренным отступлением от моды.
– Никто точно не знает, что за особа маэстро Корнелиус. Иные почитают его едва ли не за самого Вельзевула, другие считают ловким шарлатаном и светским человеком, – промолвил с усмешкой Семен Иванович. – Мне случалось раза два встречать его. Корнелиус не стар, то есть лета его никому не известны; он красив, нравится женщинам, пренебрегая, впрочем, ими, так как только деньги и политика, кажется, интересуют его. Вот что я знаю достоверно. Рассказов же про него не оберешься. Это самая модная тема вот уж третий сезон. Я знаю одно: что эта желтая карета портит мне аппетит, а повстречаться ночью лицом к лицу с господином Корнелиусом я бы вовсе не желал.
Серебров замолчал.
Больше о господине Корнелиусе не заходил разговор, и, увлеченный новыми для него столичными развлечениями, скоро забыл думать о мимолетной встрече Александр Федорович Буранов, сын богатого самарского помещика, посланный в Петербург отцом для усовершенствования образования и возобновления старинных знакомств и родственных связей.
II
Анета Тихородова, сидя у окна, вышивала по широкой нежнобирюзовой полосе розовые цветочки и мурлыкала про себя грустную песенку. Против своего обыкновения она не поднимала головы, когда в окне мелькала тень какого-нибудь прохожего, не рассказывала городских новостей, не смеялась и вовсе не обращала внимания на Александра Федоровича, уже более получаса сидевшего неподвижно в кресле и курившего свою трубку.
Попробовал было Александр Федорович сам начать разговор, спросив:
– Весело ли вчера на балу танцевали, Анна Павловна?
Но Анета только поморщилась и ничего не ответила.
Александр Федорович, осторожно ступая, походил по комнате, внимательно разглядывая давно изученные картинки, – пастушку с барашком, голубков на окне, гусара с саблей. Он обрадовался, когда из соседней комнаты окликнула его полковница Елизавета Михайловна.
– Иди, батюшка, кофейку выкушай.
Тихородова была тучная дама лет под пятьдесят, еще бодрая, нрава веселого и простого.
Привезенный в этот маленький домик Серебровым, доводившимся дальним родственником Тихородовым, находил Александр Федорович здесь ласку и тепло.
Особенно же благоволила к молодому человеку сама полковница, но и Анета, лукаво посмеиваясь над провинциальной неловкостью манер Буранова, болтала с ним охотно и дозволяла исполнять желания и прихоти свои, заставляя то держать шерсть, то читать вслух трогательные стишки, то мчаться сломя голову за билетом в театр. Поэтому был огорчен и удивлен сегодня Александр Федорович странным приемом Анеты; вспоминал, чем мог досадить ей, и не мог вспомнить. Становилось ему тоскливо, и, не выдержав, спросил он у Елизаветы Михайловны, не знает ли она причины расстройства Анеты?
– Ох, уж с этими девками, – заговорила Елизавета Михайловна, понижая голос, так как побаивалась она слегка строптивой дочери, – на свою голову избаловала ее только. Вчера на бале-то прямо срам. Не хочет и не хочет танцевать. Кавалеры приглашают, а она забилась в золотую гостиную, да цельный вечер с немцем и просидела.
– С каким немцем? – беспокойно спросил Александр Федорович.
– Да пес его знает, что за немец. Высокий, белобрысый такой. Я уж у княгини спрашивала: что это, дескать, за человек, не опасный ли? Она отвечает, что его и во дворце принимают. Важный немец. Имя вот только забыла, мудреное.
– Не Корнелиус ли? – сам не зная почему, вспомнив мимолетную встречу, спросил Буранов.
– Вот, вот, этот самый. Да ты, батюшка, разве его знаешь? – говорила полковница.
– Нет, так, случайно вспомнил, – мямлил Александр Федорович, испытывая не то страх, не то ревность.
Вошла Анета; нахмурившись, посмотрела на говоривших.
– Шепчетесь, шептуны, – спросила она насмешливо, – все обо мне судите, почему такая, а не этакая?
– Да, вот, о твоем немце рассказываю. Похвалить не за что, – набравшись смелости, промолвила Елизавета Михайловна.
Румянцем вспыхнуло лицо Анеты.
– О чем же тут говорить? Много интересного мне рассказал он, вот и сидела с ним. А танцевать не хотелось – голова болела.
То, что Анета не рассердилась, не прикрикнула на мать, как часто бывало, а будто оправдывалась смущенно, странным показалось Александру Федоровичу. Все тоскливее становилось ему. Елизавета Михайловна длинный завела разговор о новых модах. Анета, подперев рукой голову, молча сидела у стола. Падал за окном крупными хлопьями снег. Был только третий час, а уж темнело.
Буранов не остался, как обычно по воскресеньям, до вечера, а распрощался, не удерживаемый хозяйками, которые, после вчерашнего вечера не то не выспались, не то были в дурном настроении.
Выйдя на улицу, долго колебался Буранов, в какую сторону направиться. Наконец решил он пойти к Сереброву; хотелось ему что-то узнать, о чем-то посоветоваться с приятелем, хотя точно не знал он, о чем именно, как не знал он еще, что смутная тоска его причиной своей имеет не что иное, как любовь к лукавой и шаловливой Анете Тихородовой.
Было уже почти темно, когда добрался Буранов до дома Сереброва и, стукнувшись лбом о забытую по рассеянности перекладину в дверях, вошел в две весьма изящно убранные горницы, снимаемые Семеном Ивановичем у Покровской дьячихи.
Серебров в бухарском халате сидел у столика, на котором стояли две бутылки и тарелка с черносливом, и играл в карты с хозяйкой-дьячихой. Дьячиха была молодая, телом пышная, лицом румяная, в алом повойнике{343} и зеленом сарафане.
Игроки громко смеялись, и казалось, приход неожиданного гостя несколько смутил их.
– Кто там? – недовольно промолвил Семен Иванович, закрывая свечу рукой, чтобы рассмотреть вошедшего.
Узнав Буранова, он сказал более любезным, но все же не совсем уверенным тоном:
– Ах, это ты, дружище! Хорошо сделал, что зашел. Сижу анахоретом{344} и скучаю.
Он встал навстречу и смешал карты.
Дьячиха же, которая смущена была очень мало, лукаво усмехнулась:
– Заскучал сударик наш Семен Иванович, вот веселю его, сколь умею, глупыми нашими бабьими затеями.
Уходить же она, казалось, и не думала. Собрала карты, стасовала и стала раскладывать их на червонную даму.
Приятели же, взявшись под руку, прохаживались по комнате, закурив свои трубки и обменивались короткими вопросами.
– Ну, как живешь? Что нового?
И такими же ответами.
– Плохо, брат. А новости, – какие же наши новости!
Наконец Серебров спросил:
– Ну, а Тихородовы что? Честная вдовица и проказливая Анета. Давно их не видал? Здоровы ли?
– Здоровы-то, здоровы, – промолвил в раздумье Александр Федорович, которого будто кольнуло что при воспоминании о страшном знакомстве Анетином с таинственным немцем.
– Так что же, замуж Аннушка, что ли, выходит? Так тебе что? Ужели успел влюбиться? Тогда дело плохо. Кузиночка помучить любит, и ответа ее не дождаться. Бывали примеры!
– Что ты глупости говоришь. Как не стыдно пустяки врать, – бормотал покрасневший даже Александр Федорович.
– А вот сейчас всю правду узнаем. Карта не врет, – пропела дьячиха и зашлепала засаленною колодою.
Долго раскладывала она, и заинтересованный Александр Федорович перестал уже опровергать и сердиться на шутки Сереброва. Выходило мудреное нечто по картам. С одной стороны, будто задуманная особа надежду подает, с другой – пиковая дама, не родственная, и даже вряд ли знакомая, все время дорогу преграждала и удаче мешала.
– Пихнуть бы старуху в бок, чтобы без толку не толкалась, – засмеялась дьячиха, белые показывая зубы, и улыбнулась лукаво. – А то такой молодой человек страдать должен попусту.
– С чего взяли вы, в самом деле, – бормотал Буранов.
– Нечего, нечего отказываться, – смеялся Семен Иванович, беря за талию приятеля, – ну, выпьем-ка чарку, а хозяюшка принесет закусить, чем Бог послал, – говорил Серебров, который опять был в хорошем настроении, видимо, – и перестань стесняться товарища.
Был Семен Иванович без очков и совсем не имел того вида насмешливого умника, каким всегда нужным считал казаться своему провинциальному приятелю. Весело перемигивался он с дьячихой, которая проворно накрыла стол белой скатертью и заставила его блюдами и бутылками.
Умела веселая хозяйка уговорить выпить, и сама со смешком выпивала. Скоро все захмелели.
– Ну, эту чару за твою любовь, Сашенька, – поднял бокал Серебров, – пей до дна, люби до конца!
– Кто же полюбить его удержится, – смеялась еще более раскрасневшаяся дьячиха, поглядывая на Александра Федоровича умильно, – желаю сладко любиться вам, да поскорее честным пирком да и за свадебку.
Мутилась голова у Буранова от вина, от слов этих. Будто сейчас только понял он, что и на самом деле полюбил Анету Тихородову и счастье с ней его ожидает.
Уже не стесняясь, целовался Семен Иванович с пригожей хозяйкой.
– Ничего, он друг мне, и человек сам влюбленный. Его беречься нечего, – не совсем ясно бормотал Серебров, а Александр Федорович, отойдя к окну, смотрел на прояснившееся небо с яркими звездами, на фонарь, стоявший у самого окна, и, прижимаясь лбом к холодному стеклу, бормотал:
– Аннушка, Анета, родная моя, жизни всей счастье мое! Жить разве могу без тебя! Ведь любишь, любишь, не обманешь!
От сладкого умиления слезы уже катились из глаз.
Вдруг дико он вскрикнул: под самым окном, блеснув у фонаря, проехала желтая карета, серым жеребцом запряженная.
– Что с тобой, друг мой? – спрашивал заботливо Серебров, но Александр Федорович дрожал всем телом и бормотал только:
– Погубит он ее, голубку мою белую, погубит!
Лицо его искажено было ужасом.
III
Что-то останавливало Александра Федоровича пойти в ближайшие дни к Тихородовым, где каждодневно прежде бывал он. Да и чувствовал он себя плохо; с утра до вечера лежал Александр Федорович у себя в комнате, не то в забытье, не то в тяжелом раздумье. Вставал только обедать сходить в соседний трактир, потом опять ложился, не отвлекаясь мыслями об Анете, о странном происшествии с желтой каретой (хотя много раз начинал вспоминать, в чем, собственно, происшествие состоит, и немало удивлен всякий раз бывал, убедясь, что происшествия, собственно, никакого и не было). Понял в эти дни Александр Федорович, что любит он Анну Павловну, и почему-то недоброй и роковой казалась эта любовь его расстроенному воображению.
Когда дней через пять посетил его Серебров, то немало поражен был видом приятеля.
– Да что ты, запоем пьешь, или лихорадка бьет тебя, братец. Совсем желтый стал, и глаза горят. А я, собственно, звать тебя к Тихородовым приехал. Да где уж тебе! – говорил Семен Иванович.
Как конь, трубный звук услыша, всполошился Александр Федорович и, несмотря на все уговоры Сереброва, что время терпит, можно и в другой раз поехать, а теперь лучше полежать, потребовал Александр Федорович одеваться, немалую живость вдруг обнаружив.
Погода сумрачная стояла, мокрая, и оттепель приближалась. Всю дорогу Александр Федорович, не умолкая, болтал, с одного на другой предмет перескакивая.
Серебров смотрел на него с удивлением, не без тревоги.
– Право, напрасно поехал. Горячка у тебя не начинается ли? – промолвил он.
– Вздор, вздор! Никакой горячки! Так просто, меланхолию на себя напустил, а теперь вижу, сколь глупо это было. Так лежать, можно и впрямь счастье свое пролежать, а этого я не намерен, нет. Нет, никому не уступлю, – говорил Александр Федорович, хитро подмигивая глазом.
– Помилуй, дружище, я в толк не возьму, – все более и более удивляясь, спросил Серебров, который и думать забыл о пьяных речах и странном припадке приятеля.
Анета встретила Буранова, казалось, смущенно. Зато Лизавета Михайловна чуть не расцеловала его от радости.
– Наконец-то пожаловал, а я думала, совсем забыл нас! – говорила она, усаживая гостя.
– Помилуйте, разве мог забыть, – бормотал Александр Федорович, сразу потерявший развязность свою.
– Вот привез вам беглеца. Застал его в состоянии ужасном. Не знаю, что исцелит его. Разве кузиночка за это возьмется, – посмеивался Семен Иванович.
Анета без улыбки выслушала эти слова и, встав, произнесла:
– Очень виновата я перед Александром Федоровичем. Если сумею, постараюсь загладить вину свою. Ежели нет, – не обессудьте, нет, значит, сил моих.
Она была очень бледна, может быть, от тусклой темноты, может быть, от волнения.
– Вот всегда скажет такое непонятное, а у меня сердце падает, – жалобно промолвила Лизавета Михайловна, тогда как оба кавалера удивленно молчали.
– Не знаю, – запинаясь, начал Александр Федорович, – в чем укоряете вы себя и в чем смею я прощать или не прощать вас.
– Ах, не знаете, ну, так смотрите, поздно будет, когда узнаете! – со злым смехом сказала Анета и быстро вышла из комнаты.
– Бедовая девка! – сокрушалась Елизавета Михайловна, – сладу с ней никакого.
Посидели в сумерках, изредка незначительные слова произнося. Наконец дверь открылась и выпорхнула Анета. Словно подменил ее кто: смеялась, шутила, обнимала мать, и следа не было задумчивости прежней.
Предложила ехать вечером в театр. Все словно обрадовались этой веселости. Не расспрашивали о значении странных слов. Семен Иванович тотчас вызвался достать билет на ложу, Елизавета Михайловна захлопотала с обедом, что-то веселое продолжала рассказывать Анета Александру Федоровичу, плохо понимавшему ее слова: стучало у него в висках, в глазах рябило.
– Да что с вами, Александр Федорович, – прервав свою речь, вдруг спросила Анета и близко, близко нагнулась к Буранову, заглядывая беспокойно в глаза его.
– Я ничего. Я счастлив так, что по-прежнему ласковы вы со мной, – слабо улыбаясь, говорил Александр Федорович, который, действительно, безмерную сладость какого-то успокоения испытывал в ту минуту.
– Вы счастливы, правда ли это? – понижая голос, не отодвигая головы своей от его лица, спрашивала Анета. – Правда ли это? Значит, вы… – она остановилась, как бы колеблясь, а Александр Федорович вдруг докончил:
– Я люблю вас.
Анета выпрямилась.
Почти темно было в комнате, и едва видно ее лицо.
– Я знаю это давно, – сказала наконец Анета тихо, – и если вправду готовы вы сделать для меня все, как тоге) истинная любовь требует, то я поверю вам и тоже скажу, что… – она опять замолчала, и опять докончил Александр Федорович:
– Все, все, хотя бы жизни моей потребовали.
– Ну, этого-то, пожалуй, и не потребуется, а нужно мне только, чтобы сейчас проводили вы меня, обождали немного и назад привели. А то маменька не пустит, дело же у меня есть одно спешное, о котором потом расскажу.
Александр Федорович даже удивился; не ждал, что так проста будет просьба, вдруг повеселел, и тот тяжелый туман, который все эти дни наполнял голову, рассеялся.
По улице шли, просто и весело разговаривая, будто два товарища.
Только слегка дрожала Анетина ручка, которой она опиралась на руку Александра Федоровича.
Зажигались фонари, теплый ветер дул с моря, и, несмотря на декабрь месяц, весной почему-то веяло.
– А в деревне у вас хорошо, – спрашивала Анета, – снегу, наверное, много, на санях ездят. Не бывала в деревне, а хотелось бы. Устала я от бестолковой жизни петербургской.
– Да, у нас хорошо Вот сами увидите, когда… – начал было Александр Федорович и, смутившись, замолк.
Анета ничего не сказала, только слегка пожала его руку.
Не узнавал Буранов улиц, по которым они шли, будто во сне все совершалось.
– Вот здесь подождите меня, милый! – шепнула вдруг Анета и исчезла в подъезде. Александр Федорович ходил по скользкой панели от одного фонаря к другому. Не было мыслей о будущем, сладко только ныло сердце в какой-то непонятной радостной тревоге.
Обернувшись от одного фонаря, он заметил, что маленькая карета остановилась у подъезда, в который только что вошла Анета. Он сделал несколько шагов, и вдруг ужас безумный охватил его, – он узнал желтую карету маэстро Корнелиуса.
– Сам ее ему отдал, проклятому! – почти вслух произнес Буранов.
Ненависть, сознание, что погибло все, наполнили его.
Быстро подбежав к карете, сам не зная, что делает, рванул дверку.
– Убить его, убить! – мелькнуло в голове.
Старуха в меховом капоре, сидевшая в карете, взвизгнула.
IV
На другой день в «Ведомостях» было напечатано о том, что престарелая княгиня Б., подъехав к своему дому в своей собственной карете, подверглась неожиданному нападению. Захваченный преступник отказался дать объяснения своему поступку, повторяя одно:
– Погубил, проклятый, погубил!
Призванный доктор нашел его лишившимся рассудка и одержимым, видимо, некоей странной манией.
С. П. Б.Декабрь 1912.

Русалочье зелье{345}

I
«Дорогая моя Lise, ты спрашиваешь, как я живу. Что можно сообщить о нашей жизни? Казалось мне, что не переживу я зимы, когда снег лежал до самых почти окон нашего дома, когда человека чужого не видишь целый месяц. Спасибо за книги, тобой присылаемые. Только в них находила утешенье, хотя тетушка запрещала зажигать огонь в моей светелке, будто бы боясь пожара, но более от природной своей скупости. Глаша, единственная наперсница моя, усердно мне помогала, воровала огарки, при скудном свете которых уносилась я мечтою в волшебные страны.
Спасибо, милая Lise, что не забываешь меня среди шума и блеска, которые тебя, счастливицу, окружают.
Вот и весна наступила. Первые дни, когда только почувствовала я приближение весны, ходила я словно во сне. Казалось мне, что близко, близко освобождение и радость, но вот зазеленели деревья, зачирикали птички; вместо снега зачернели поля, а мне скучно и тяжко по-прежнему, если еще не более прежнего. Ничего не изменилось. Дядюшка в том же халате целые дни проводит на диване, вонючим табаком своим наполняя все комнаты. Тетушка так же дрожит из-за каждого куска. А гости, которые стали наведываться, лучше бы и вовсе не приезжали.
Единственное событие, нарушившее здешний порядок и послужившее поводом для многих толков, – это приезд в соседнее с нашим имение молодого владельца, князя Кокорина.
Приехавши в нашу глушь прямо из чужих краев, сей странный чудак вот уже целый месяц провел в полном уединении, сам никуда не выезжая и к себе никого не принимая.
Меня, конечно, мало это событие интересует, но вся округа соседняя взволнована».
Писавшая эти строки остановилась и задумалась. Боялась Анета Кирикова показаться смешной провинциалкой своей столичной подруге Лизе Балдиной и потому далеко не всю правду ей писала.
Хотелось ей сохранить в письмах тон разочарованной несчастливицы, которую ничто не может развлечь в деревенской глуши.
Поэтому-то, сообщая в элегическом тоне о страданиях одинокой непознанной души, Анета не сообщала о тех скромных, правда, развлечениях, к которым она, при всей столичной гордости, все же снисходила.
Не писала она, как на Святках бегала тайком с дворовыми девицами в поле о суженом гадать, захаживала и на поседки;{346} как сосед Чегорин приезжал с гитарой, пел нежные романсы, а потом, томно поводя глазами, говорил о ничтожестве одинокой жизни. Правда, сюртук Чегорина был из грубого домашнего сукна, сшитый доморощенным портным; правда, что был он не очень молод, достаточно толст, от волнения потел, но все же и с ним без скуки проводила время Анета.
Не писала она и о многом другом, а также о приезде князя Кокорина, который занимал ее воображение едва ли не больше, чем кто-нибудь еще.
Вот и сейчас, упомянув в тоне небрежном его имя, задумалась Анета. Вспомнила она, как в одно весеннее утро, заслышав колокольцы, вышла она на крыльцо и увидела медленно шестериком влекомую по грязи коляску, в которой сидел молодой человек.
Едва разглядела Анета острый профиль и под синим, особого какого-то фасона картузом длинные кудри.
Проезжающий имел вид сосредоточенный; даже не обернулся в Анетину сторону.
Чего не разглядела Анета, то дополнило ей услужливое воображение.
Часто, сидя у открытого окна, смотря на эту белую мглу майской северной ночи, мечтала смутно и сладко Анета. Молодой князь, стройный, бледный, с задумчивым нежным взглядом, черными кудрями до плеч, красивый, – ах, какой красивый! – рисовался мечтательному воображению.
Был одет он изысканно. Ароматом модных духов веяло от него, тихим, будто ручья шепот, голосом говорил он слова нежности необычайной. И даже дальше шли нескромные мечты, но не будем, любезный читатель, слишком злоупотреблять нашим правом подслушивать и подсматривать за тем, что делается в тайных девичьих светелках.
Долго не могла заснуть в эти ночи Анета, а наутро по десяти раз посылала тетка будить сонливицу.
Дядя, Осип Иванович, попыхивая трубкой, говорил, усмехаясь:
– Девкам сон впрок. Вот, приехала Аннушка игла иглой, а теперь толстеет, что рождественская индюшка.
Анета обижалась неучтивым сравнениям, брала книжку и уходила в сад, первой яркой зеленью зазеленевший. Читала ли про любезнейшего, очаровательнейшего кавалера Адольфа{347} или про храброго, таинственного, с ног до головы в железо закованного рыцаря, – представлялся ей князь Кокорин, красная крыша дома которого чуть-чуть поблескивала на холме за рекой и рощей.
Впрочем, действительно, не одна Анета занята была новым соседом и странным его поведением.
Лишь приедет кто в гости, сначала поговорят о посевах и телятах, а потом сейчас же сведут разговор на Кокорина. Старики вспоминают крутой нрав покойного князя и подробно перечисляют все достатки нового владельца. Молодые люди злословят и негодуют на неприличную заносчивость уединенного соседа, никого не почтившего своим знакомством; девицы же краснеют, а потом промеж себя шепчутся:
– Ах, ma chère,{348} душка, какой, говорят, князь, просто прелесть. Лукерья наша на днях бегала к куме своей, княжьей ключнице, так видела, как он по аллее прогуливался. Такой, говорит, красавец, что сказать невозможно.
– Ну, душенька, не очень-то вкусу Лукерьи верить можно, – презрительно кривила губы Анета, сама, впрочем, с любопытством выслушивая все сплетни и пересуды, доходившие через баб от княжеской дворни.
Однажды приехал Чегорин и еще с крыльца, помахивая картузом, заговорил оживленно:
– Осчастливлен я, осчастливлен!
– Да что с тобой, батюшка, белены объелся? – сердито прервала его бессвязные восклицания Анетина тетка, Марья Семеновна, – коли случилось что, так рассказывай, а не кричи.
Усевшись с важностью в вышитом кресле, отирая пот с радостно сияющего лица, начал Чегорин рассказ.
– Первым из всех соседей осчастливлен сегодня знакомством с его сиятельством князем Кокориным. По собственному его зову приехал сегодня к нему и не без приятности провел время. Потчевал меня обедом, и прямо от него – к вам.
– Да зачем ты ему понадобился? – спросил Осип Иванович, от любопытства спустив даже ноги с дивана.
– Видите ли, земля наша с княжеской лежит рядом. Тяжба, если изволите знать, еще покойным моим родителем против его покойного родителя начата была. Так вот, пожелал кончить миром.
– А ты к нему по первому зову так и поскакал, к мальчишке? Еще дворянином себя почитаешь, – сердито вставила Марья Семеновна.
– Да любопытство, матушка, одолело. Только чтобы все разузнать, и поехал, только любопытства ради, – оправдывался Чегорин.
– Ну, сказывай тогда, каких диковин насмотрелся? – торопила Марья Семеновна.
– Наипервейшая Диковинка – это сам князь Дмитрий Павлович, чудака такого вряд ли другого встретишь, – начал свой рассказ Чегорин и во всех подробностях описал свою поездку, комнаты, трех собак английских, костюм князя, напоминающий не то рясу, не то халат, странные речи, которые пришлось ему выслушать.
– Тебя, сударь, послушать, так впрямь сущеглупый князь-то твой. Да не врешь ли, Платон Иванович? – когда кончил Чегорин, промолвила Марья Семеновна.
– Как вам, матушка, угодно: верьте, не верьте, – обиделся Платон Иванович и умолк.
Поговорили еще о чем-то, и наконец, взяв картуз, Чегорин собрался уезжать, отклоняя все просьбы остаться поужинать.
Анета вышла его проводить на крыльцо.
Пережидая, пока прогонит пастух стадо, высокий столб пыли поднявшее, задержался Чегорин, с томной улыбкой поглядывая на Анету. Ко та, казалось, не обращала внимания на кавалера; смотря на розовые облака, мечтала Анета о чем-то далеком.
– Не позволите узнать, какой предмет занимает ваши мысли? – откашлявшись, робко (застенчив был Платон Иванович с девицами) осмелился спросить Чегорин.
– Нет, я ни о чем. Так, вспоминаю ваши рассказы, – будто спохватившись, ответила Анета и, покраснев вдруг, прибавила. – Может быть, пройдем в сад? Так приятно погулять в этот час пред закатом.
Была в ее словах просьба и смущенье, от которых сердце сладко забилось у Платона Ивановича, и, пробормотав:
– Я, что же, я всегда готов, – неловко подал он руку и надвинул картуз на самый почти нос.
Прохаживаясь по узкой дорожке между кустами крыжовника и смородины, несколько минут молчали они.
Наконец первая заговорила Анета:
– Большая просьба у меня к вам, Платон Иванович. Не раз слышала я уверения в дружбе и преданности вашей. Вот случай испытать их.
– Приказывайте, все исполню, – ударив себя в грудь кулаком, воскликнул Чегорин.
Анета опустила глаза и смущенно промолвила:
– Вы не подумайте, Бога ради, чего. Но, видите ли, есть у меня в Петербурге подруга (кажется, говорила я вам о ней). Она очень заинтересована князем Кокориным, так вот… – голос Анеты прервался, и Платон Иванович, раскрыв рот, от изумления даже остановился, – так вот, – быстро вдруг заговорила Анета, не выпуская руки Чегорина, а сжимая ее крепко, – так вот, Платон Иванович, ради меня должны вы хитростью, притворством, угождением, лестью, чем угодно, добиться дружбы князя, чтобы ездить к нему каждый день, все выведывать, все знать, что делается у него, и потом мне сообщать. Слышите, Платон Иванович?
Анета слегка даже тряхнула Чегорина, чтобы лучше вразумить его в своем странном поручении.
– И еще, очень прошу в строжайшей тайне сохранить все это, – из повелительного в ласкательный тон перешла Анета. – Милый Платон Иванович, ведь ради меня, ради меня исполните вы это?
– Извольте, попытаюсь. Ради вас… ведь вы знаете, все готов ради вас, – бормотал Платон Иванович, намереваясь в свою очередь приступить к признанию, но ловко Анета избегла этого.
– А вот и Степка ваш едет, – сказала она и указала на кучера чегоринского, спокойно сидящего на облучке.
Пришлось Платону Ивановичу, вздохнув, лезть в тарантас.
– Так завтра же жду вас, – взбежав на крыльцо, прокричала Анета и приветственно замахала белым платочком выезжающему со двора Чегорину.
II
Анета сидела в своей светелке у обитого розовым ситцем туалетного столика. Внимательно разглядывала себя в зеркало. Сердило ее слишком круглое, слишком румяное, с слегка вздернутым носиком лицо. Не такой представляла она героиню ею задуманного романа, привести который к той или иной развязке дала она себе клятву.
Глаша вертелась около.
– И что это вы, барышня, все грустите? – спросила она. – Чего недостает вам, кажись? Красавица вы у нас, во всей губернии другой не сыщешь. На приданое дядюшка не поскупится. Только бы веселиться вам девической волей.
– Ах, дура ты, Глашка, – с досадой прервала ее Анета. – Много мне радости в глуши вашей медвежьей сидеть.
– Не все же медведи, барышня, – не смутившись господским гневом, лукаво усмехнулась избалованная девка, многое из тайных дум госпожи своей знавшая. – Вот погодите, наскучит князиньке одному у себя чудить, вспомнит о соседях и нас не забудет.
– Надоела ты мне с твоим князем, – уже менее досадливо ответила Анета и жженой пробкой начернила брови.
– А вот и Платон Иванович приехали, – взглянув в окно, сказала Глаша.
Анета вздрогнула и уронила заячью лапку, которой пыталась придать лицу своему томную бледность.
Почти каждый день приезжал Платон Иванович, трепетно ждала его Анета; каждый раз представлялось ей, что несет он важное известие о нем, о князе Кокорине, но, обтирая обильный пот со лба, не мог ничего интересного сообщить Чегорин. То перечислит блюда, которыми угощали его, то расскажет в подробностях, сколько навозу вывозят со: скотного княжеского двора, то опишет псарню, запущенную ныне; но приметить чего-нибудь, что рисовало бы владельца и странный образ жизни его, не умел Платон Иванович.
Чувствуя недовольство Анетино, смущался и начинал постылый разговор о чувствах, им питаемых.
Быстро сбежала Анета по скрипучей лестнице и одновременно с Платоном Ивановичем вступила в гостиную.
Тетушка Марья Семеновна сидела в креслах и ругала стоявшего с равнодушным лицом в дверях кучера Агафона. Осип Иванович лежал на диване, курил трубку, изредка вставляя от себя какое-нибудь крепкое слово.
Было это ежедневным занятием помещиков Кириковых, и строго соблюдалась очередь, кого из дворни в какой день ругать.
Недовольная тем, что прервали ее, сердито промолвила тетушка Чегорину:
– Пойди, батюшка, погуляй в саду с Аннушкой, пока мы дело кончим. Совсем людишки наши распустились.
– Да я, барыня, что, – сказал вдруг Агафон, улыбнувшись и тряхнув волосами, – только ошибиться изволили. Сегодня очередь Аграфене.
– Молчи, негодяй, не путай! – прикрикнула было Марья Семеновна, но подумала и приказала, – ну, зови Аграфену, а до тебя, голубчик, я тоже доберусь. Дай срок!
– Пойдемте, – шепнула Анета Платону Ивановичу.
– Новости вам привез, – сияя, заговорил Чегорин, лишь только вышли они за дверь.
– Воображаю, – притворно-небрежным тоном ответила Анета, презрительно скривив губы, хотя сердце так и забилось. – Только конюшни да собак умеете вы примечать.
– Нет, длинный и откровенный разговор имел я вчера вечером с князем Дмитрием Павловичем. Только тайна это огромная.
Платон Иванович даже захлебнулся и должен был несколько минут помолчать, чтобы перевести дух.








