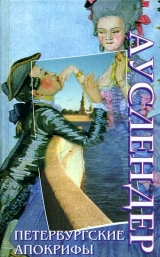
Текст книги "Петербургские апокрифы"
Автор книги: Сергей Ауслендер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 53 страниц)

I
Графиня Б. принимала по субботам. Салон ее не был особенно обширен, но только люди безукоризненных репутаций имели доступ в него. Саша Кондратьев, считавшийся троюродным внуком графини, приехал первый. В гостиной еще не было никого. Из соседней комнаты, заглушенные портьерами доносились нежные звуки клавесина. Саша встал у окна, и, глядя на первый густой снег, задумался так крепко, что не слышал, как смолк клавесин, как графинюшка Соня выглянула из-за занавески, как подкралась тихонько к нему и встала совсем рядом, так что когда он резко обернулся, то чуть не ударил ее.
– Как вы рассеянны, кузен! – засмеялась она. – Опять влюблены?
– Опять влюблен, кузиночка, конечно. А Мальтийца у вас нет?
– Какого Мальтийца?
– Как, вы не знаете, что все пажи – рыцари Мальтийского ордена?{170} Они дают обет безбрачия.
– На всю жизнь? – так искренно испугавшись, вскрикнула графиня, что Саша улыбнулся. – Вы всегда придумаете глупости. Вы забываете, что я вам уж не девочка, – гневно сдвигая крутые брови, чуть не плача от досады, топнула она ножкой.
– Простите, все забываю. Но брата мне очень нужно.
– Ну и ищите его, где хотите.
– Только у ваших ног…
Шурша сиреневым атласным платьем, вошла, высоко неся седую голову в буклях, графиня.
– Это очень мило, что ты заехал к нам. Но у тебя опять какие-то истории. Князь Дмитрий сказывал, – строго обратилась она к офицеру, целуя его в лоб.
– Охота вам слушать, графиня, этого старого враля, – с досадой ответил тот.
– Я знаю цену его словам, но ты смотри. Да вот и он сам.
Чистенький, худенький старичок торопливо вбежал и еще в дверях закричал:
– Важные новости: испанка-то наша жидовкой оказалась и по сему случаю уже рассказывают…
– Ах, батюшка, уволь. Сколько раз просила мне о ней не докладывать. Слушать тошно, до чего мы доходим, – прервала его графиня.
Впрочем, заметив Кондратьева, князь и сам потерял охоту продолжать свой рассказ, – и подойдя к ручке, вынул табакерку и, набивая нос и многозначительно косясь на офицера, вздохнул сокрушительно:
– Да, да, большое смятение умов.
Этот сезон много говорили о приключениях испанской танцовщицы Хуаны Пелаэс. Было модным сходить с ума по ней, и рассказов, самых удивительных, о ее фантастическом, жестоком и страстном характере ходило по Петербургу великое множество.
Лакеи в старомодных ливреях внесли канделябры. Гостей прибывало. Говорили о возможной войне и последнем приеме. Кондратьев был рассеян и нетерпеливо поглядывал на дверь. Когда в ней показался такой же высокий, стройный, странно схожий с ним, только несколько более бледный, паж, он сделал движение к нему навстречу, однако, опомнившись, остался ждать и, поцеловав его, шепнул:
– Николай, выйдем в кабинет, нужно поговорить.
Паж помедлил несколько минут, тихо переговариваясь с Соней, и вышел за братом. Тот стоял, опершись о камин.
– Завтра я стреляюсь за нее с Пастуховым. Условия тяжелы. Если я буду неблагополучен, обещай мне отомстить ей. Понимаешь. Если буду жив, сам убью ее.
– Да, – тихо ответил паж и, больше не сказав ни слова, они молча пожали друг другу руки и вышли из кабинета, оба стройные, бледные и чем-то еще больше схожие друг с другом, будто одна и та же печать легла на молодые тонкие их лица. Николай подошел к Соне и сдержанно нежно заговорил с ней. Александр поспешил откланяться и, гремя саблей, вышел.
– Знаете, ведь он завтра, – зашептал, захлебываясь, сыпля табак на бархатный голубой свой жилет, князь Дмитрий, нагибаясь к графине, которая уже не помнила своего запрета говорить об этой женщине.
II
Уже прошел месяц с тех пор, как в морозное ноябрьское утро привезли в карете к дому Кондратьевых на Литейном бледного, со странно заведенными глазами Сашу, в разорванном белом мундире, с небольшим черным пятном против сердца; как постлали солому на улице; как, не приходя в себя сутки, в бреду шепча: «Ана проклятая, милая Ана», – он умер; как мать рыдала над ним и долго не могла видеть Николая, повторяя: «Как ты похож на него, как похож». Уже Пастухов отбыл свое наказание в крепости, а дом Кондратьевых опустел, так как вся семья выехала за границу; уже в обществе перестали говорить об этой дуэли, волновавшей город целую неделю.
Николай, казалось, перенес все это спокойно и даже как-то равнодушно. Многие удивлялись его выдержке, другие упрекали в бесчувственности. По субботам он бывал у графини, воскресенья же проводил один в пустом и обширном доме, единственным хозяином которого он был теперь. Утром, в Сочельник, Николая разбудили, доложив, что художник, которому было заказано сделать портрет Александра, принес картину.
Николай заплатил, не осматривая работы, хотя художник, желая знать его мнение и ожидая похвал, поставив портрет к свету, спрашивал:
– Как, сударь, находите вы глаза, потом относительно колорита? Можно бы сделать все светлее.
– Я ничего не понимаю в вашем искусстве. Когда приедет maman, мы пришлем за вами, если понадобятся изменения.
Художник обиженно удалился.
Николай тщательно, как всегда, окончил свой туалет, выпил кофе в столовой, выслушав доклад дворецкого, отдал ему распоряжения и спокойно, медленно прошел по ряду пустых гостиных, с мебелью и люстрами, затянутыми чехлами, в большую залу, где в кресле против света остался портрет Александра. Он встал спиной к окну и долго внимательно разглядывал знакомое и будто забытое лицо, томные, насмешливые глаза, полузакрытые тяжелыми веками, изогнутые брови, узкие усы, сквозь которые краснели тонкие губы. И когда, встав, он увидел в большое золоченое зеркало другое лицо, показалось ему, что это то же самое, той же загадочной, неподвижной печатью отмеченное. Не узнавая себя, он вдруг в первый раз понял весь ужас того, что свершилось и что должно было свершиться. Когда ему подали записку, в которой графиня просила его заехать за Соней в Таврический сад, он, перечитав записку и два, и четыре раза, как-то не мог ничего вспомнить и только пройдясь много раз по гостиным, звонко разносившим его шаги, будто чьи-то чужие, наконец пришел в себя и велел запрягать лошадей.
На улице было сухо и морозно; мелкий снег падал, и зимним багрянцем пылал закат. По льду бегали на коньках и катались с высоких разукрашенных гор. Николай не сразу разглядел малиновую шубку и белый капор Сони. Она сама подкатилась к нему и, не удержавшись, сияя вся морозом и улыбкой, почти упала на его руки, болтая:
– Как хорошо сегодня кататься, как весело. Юхотин-то хлопнулся прямо затылком. Поедемте с гор. Отчего вы так поздно?
Николай рассеянно ей улыбался, когда она потащила его по крутой лестнице на гору и, опираясь на его руку, шепнула: «Как я люблю вас, Николенька», – он, будто не расслышав, ничего не ответил.
Они покатились на длинных санях, изображающих лебедя, и, крепко удерживая Соню, твердо управляя ходом быстрых полозьев, Николай вышел из своего столбняка и тихо сказал огорченной его неуместным молчанием графине:
– Я вас люблю. Простите меня. Вы знаете, как я вас люблю.
И когда она, повеселевшая, повернула к нему из муфты свое розовое личико с замерзшими на длинных ресницах слезинками, их губы были так близко, что почти невольно он совсем слегка своими холодными не только от мороза губами коснулся ее губ, детски-припухлых еще, ярких и теплых. От этого движения, незаметного для постороннего глаза, сани изменили свой бег и, глубоко врезавшись в сугроб, перекувырнулись. Отряхивая снег, сконфуженно веселые и счастливые, вылезли из сугроба Соня и Николай. Зоркая гувернантка мисс Нелли уже спешила к ним.
– Итак, это правда, – вздохнула Соня и покорно пошла к грелке за гневной англичанкой.
Поджидая их, Николай прошелся несколько раз по аллее для гуляющих. Дама вся в черном, высокая и гибкая, очень смуглая, с большой шотландской собакой на ленте, повстречалась ему несколько раз, зорко в него вглядываясь из-под густой с сиреневыми мушками вуали. Так сделали они несколько поворотов, и после третьего или четвертого дама вдруг протянула к нему руку в черной перчатке и сказала не громко, но резко, странно чисто, как иностранка выговаривая слова, которые находила с некоторым трудом:
– Вы – Николай Кондратьев. Я жду вас уже целый месяц.
– Я не знаю, кто должен меня ждать, – похолодев от какого-то темного предчувствия, отвечал тот.
– Я Хуана Пелаэс. Ваш брат мне писал, обещая вашу месть, что же вы медлите?
– Вы, вы, – задыхался Николай.
– На нас обращают внимание, говорите спокойно, как мужчина, которому поручено такое великое дело – убить женщину. Пойдемте, будто мы гуляем.
Николай молчал. Дама взяла его под руку, и собака враждебно заворчала. Странными духами, сладкими и пугающими, пахнуло на Николая.
– Итак, вы должны мстить. Я готова. Если вы не трус и помните свое обещание, вы придете сегодня около двенадцати часов ночи в павильон, на Ы-ском канале. Я приеду одна и буду беззащитна. Опасность ответа за убийство будет избегнута. Да, вы придете, – и она требовательно пожала его локоть.
– Да, я приду, – тихо ответил Николай.
– Ну, вот и отлично. Идем, – она крикнула собаку гортанным хриплым звуком и медленно пошла по аллее между голых деревьев и снежных, розовых на закате, полянок.
Под вуалью Кондратьев успел разглядеть только блеснувшие зеленоватым блеском глаза.
– Вот вы где! – кричала Соня, почти бегом спеша к нему, тогда как старый ливрейный лакей и взволнованная гувернантка едва поспевали по скользкому снегу.
– Мисс Нелли говорит, что мы с вами ведем себя, как глупые дети. Защитите меня, – беря под руку Николая, щебетала Соня.
Когда они вышли к воротам и ждали своей кареты, дама с большой белой собакой проехала мимо них и, казалось Николаю, под густой вуалью улыбнулась, слегка кивнув головой, будто знакомым.
III
За длинным обедом, за играми у елки (танцев не было по случаю траура) Николай имел вид спокойный, веселый и нежный. Он сам почти забывал о предстоящем, и когда случайно по ходу игры они с Соней оказались в темном углу за трельяжем и она томно вздохнула: «Сегодняшний каток, ужели это не сон», – он нагнулся к ней и поцеловал ее почтительно и нежно, и вдруг вспомнил, что уже скоро двенадцать.
– Отчего вы опечалились? Что с вами? – тревожно шептала Соня, не видя его лица в тени трельяжа, но чувствуя внезапную его озабоченность.
– Это ничего. Все пройдет, – нагибаясь к ее маленькой ручке с голубым камушком на мизинце, сказал он и повел ее, как невесту, на середину залы, так как голоса играющих давно призывали их нетерпеливо.
Простившись, уже в передней, он в последний раз улыбнулся Соне и надолго запомнил, как она в розовом платье и высокой, легкой прическе стояла у двери в залу, сконфуженно и печально перебирая ленту, и сквозь слезы отвечала на его улыбку улыбкой.
Было холодно. Снег падал тяжелыми хлопьями. Луна сквозь облака тускло блестела. Николай отпустил кучера и пошел быстро, придерживая рукой в правом боковом кармане длинный, острый кинжал, чтобы он не болтался на ходу. На башне близкого замка отбивало полночь.
На огромной, пустой площади далеко пылал костер. С моста еще Николай увидел сквозь снег в стороне карету.
Он сошел по доскам на лед; павильон, окруженный парком, едва белел на другой стороне. Пройдя до половины канала, Николай разглядел свет в одном из боковых помещений. Поднимаясь по лестнице, спускающейся к воде, он увидел даму, казавшуюся от высокого капора еще более высокою. Она прислонилась к колонне и ждала его.
– Вы аккуратны. Я только что приехала. Ужасно торопилась. Какой мороз сегодня. Пройдемте, – промолвила она деловиторавнодушным тоном, когда Николай поднялся на площадку и остановился в замешательстве. Ана открыла маленькую дверь, и они вошли в круглую комнату со сводами, с развалившимся камином, с позеленевшим от плесени амуром на стене. Комната освещалась небольшим факелом, прикрепленным к фонтану посередине; масло капало в круглый бассейн, растапливая лед в нем. Ручная грелка, поставленная на единственное кресло, уже согрела несколько комнату, наполняя ее каким-то туманом и запахом смолистых благовоний, слегка кружащих голову. Дама скинула капор и шубку на пол и осталась в шелковом зеленом платье, прозрачном и делающем ее стан еще более гибким. Волосы ее были связаны небрежно, и только одна золотая иголка с рубиновым сердцем и крупная пунцовая роза оттеняли матовый блеск их. Черты ее неправильные, почти некрасивые делали непонятной в первую минуту ее обаятельность. Она молчала, не глядя на Николая и грея тонкие пальцы в перстнях над грелкой.
Николай остался у входа. Быстро вскинув блеснувшими зеленоватым огнем глазами, она заговорила насмешливо:
– Вы и красивее, и моложе. Вас бы я, пожалуй, так скоро не бросила. Не хотите ли попробовать удачи? Впрочем, вы, я слышала, скромны. Не в Сашку.
– Молчите, – задыхаясь, крикнул Николай и, сам того не помня, выхватил кинжал.
– Ну, что ж вы хотите? Вот, вот, я ваша, – каким-то хриплым голосом зашептала она и одним скачком приблизилась к Николаю совсем близко. Глаза ее загорелись тем знакомым блеском, щеки покрылись алыми пятнами.
– Вот, я ваша, – еще раз повторила она и, раскрыв руки, как пригвожденная к кресту, ждала его удара. Николай медлил.
– Ну, что же, боишься? Нет, я знаю что, знаю что, – совсем тихо прошептала Ана и, соединив руки, обняла голову Николая и не поцеловала, а как-то впилась в его холодные, суровые губы.
– Прочь, – опомнившись, крикнул он и толкнул ее так сильно, что она ударилась о бассейн фонтана и факел, вспыхнув зловеще, с треском погас, наполняя всю комнату душным смрадом.
Николай бросился бегом через канал, слыша за собой сдавленные хриплые звуки не то смеха, не то рыданий.
IV
Николай проснулся поздно, и не первой мыслью его было вчерашнее. Открыв глаза от яркого ликующего солнца, он сразу вскочил и начал радостно поспешно одеваться, помня только Соню. Но через секунду он вспомнил и другую. Как будто тяжелым молотом ударили по голове, и он остановился одеваться, держа чулок в руках. Страшная бледность покрыла щеки.
– Нездоровы, сударь? – спросил камердинер, заметивший его смятение. – Прилегли бы еще.
– Нет, вздор. Ничего этого не было и быть не могло, – как бы отвечая кому-то, громко проговорил он.
Сдерживаясь, Николай спокойно оделся, но оставаться в доме одному не было сил, и, проходя через залу, где стоял еще портрет Александра, он отвернулся от него и невольно прибавил шагу.
«К Соне, к Соне», – думал он и три раза посылал торопить лошадь, нетерпеливо натягивая перчатки.
Уже легкие, быстрые сани промчали Николая по сияющему праздничным оживлением Невскому, завернули за угол, от которого третий дом был графини, как странная мысль пришла ему в голову, и он велел ехать в другую сторону. Доехав до моста, он отпустил кучера и, пользуясь пустынностью места, направился вчерашней дорогой к заброшенному белому павильону. На льду и лестнице следов не было, и уже какая-то уверенность овладевала Николаем. Солнце освещало павильон через круглое окно в потолке, задевая косым лучом своим зеленого амура и отражаясь в круглом бассейне разрушенного фонтана. В комнате не было никаких напоминаний вчерашнего и, постояв в дверях, Николай уже совсем спокойно, уверенно подошел к бассейну.
– Странный сон, – усмехнулся он. Чистым, прозрачным льдом скована была вода бассейна и, нагнувшись, Николай разглядел на неглубоком дне почерневшую большую розу, которую вчера он заметил в прическе Аны. Несколько минут в безумном ужасе разглядывал Николай ее, еще не понимая всего, что случилось, и потом медленно, не оглядываясь, вышел.
Будто все в его жизни изменилось, будто уж не то солнце светило, что минуту назад; не тот ослепительный снег сверкал на большой, пустынной площади. Сам не зная, куда идет, Николай пошел по направлению к Летнему саду. Юхотин, один из товарищей, догнал его.
– Что с тобой, Кондратьев? такая задумчивость? И чем-то с лица ты изменился за эти дни. Знаешь, как ты все-таки похож на покойного Александра? – прямо портрет. Да, сегодня вечером ты будешь…
Николай уже не слушал его и, резко повернув в Летний сад, быстро пошел, твердо зная, что он идет сейчас к Ане Пелаэс и что рука его больше, даже на минуту, не занесет над ней длинного узкого кинжала.
14 декабря 1909.С.-Петербург.


Филимон Петрович проснулся гораздо раньше, чем первые сумерки рассвета заглянули в окно и у Вознесенья ударили к утрене. В тепло натопленной горнице лежал он, то вспоминая сладко вчерашний вечер и неясные, но обещающие слова Евдокии Константиновны (которую и в мыслях не дерзал он называть Дунечкой), то мечтая о предстоящем торжестве своем, придумывая ловкие словечки и мадригалы,{172} которые он найдет случай шепнуть сегодня в розовое ушко за обедом, за альманом, за веселыми и простыми играми, в том небольшом и уютном домике на Фурштатской, где в семействе коллежского секретаря Курочкина нашел себе рай и ад, раздираемый любовью, ревностью, робостью, надеждой, Филимон Петрович Кувырков – только что испеченный регистратор государственной коллегии по иностранным делам.
Погрузившись в эти мысли, он, сам того не замечая, задремал и, увидев у постели своей огромную, до потолка достающую султаном кивера фигуру офицера, в шинели и с усами, нисколько не удивился тому.
«Должно быть, Назарыч забрался. К чему бы в такую рань? – подумал Филимон Петрович во сне про частного пристава. – Разве поздравить?»
– Кувырков, а Кувырков! – громким голосом говорила фигура. – Знаешь ли, брат, что сегодня сбудется?
Хотелось Филимону Петровичу ответить: «Что сбудется? посватаюсь за Евдокию Константиновну, ей-богу, посватаюсь», – да лень было. Сладко улыбнувшись, он заснул еще крепче, чувствуя, что кричит уж фигура и трясет его за плечо.
– Ну, что же такое сбудется? – досадливо промолвил, наконец, Кувырков, продирая глаза.
– Заспался, батюшка, к обедне звонят, а ты спать все, о, о!
Квартирная хозяйка, Минна Карловна, в белом чепце и переднике стояла перед своим постояльцем, держа в одной руке поднос с именинным вкусно пахнущим кренделем.
Розовоперстая Аврора,{173} редкостная петербургская гостья, не стучала в замерзшее стекло. Тусклая, пасмурная полутемнота нагоняла на Филимона Петровича мрачные предчувствия. «К чему бы это привиделось?» – думал он, лениво натягивая полосатый чулок. В задумчивости, без всякой тщательности совершил он свой праздничный туалет, и только, достав коричневый новый фрак, отвлекся мыслью от утреннего видения, не удержался, подпрыгнул на одной ноге, приговаривая: «Знатный фрачец», – и веселым вышел к уже хлопотавшей над кофейником Минне Карловне.
– Молодой человек, и так спит. Фуй! Невеста проспишь! – встретила его немка.
– Ну-с, на это-то мы не согласны, Минна Карловна. Свое дело всегда помним. А, знаете, перед решительным боем сон – самое главное, – бойко отвечал он, принимая из рук хозяйки большую чашку, расписанную желтыми и голубыми цветочками.
– Весело, воин, собираешься, как-то возвращаться будешь? – смеялась Минна Карловна.
– Возвратимся сам-друг. Раскрывайте ворота шире.
Вспомнив, что надо еще забежать к парикмахеру, Осипу Ивановичу, завиться, Филимон Петрович заторопился завязать розовый галстук бабочкой и, накинув шинель, выбежал в сени.
– Господин Кувырков, одну минуту аудиенции, – окликнул его голос с лестницы мезонина, и верхний квартирант, как бы поджидавший его выхода, быстро сбежал, шагая через ступени. Это был молодой офицер гвардейской конной артиллерии, хороший приятель Филимона Петровича, с которым тихое разногласие разделило его за последнее время, так как чуть ли не один и тот же предмет на Фурштатской улице занимал обоих.
– Могу служить? – с холодной вежливостью отозвался Филимон Петрович, предугадывая какое-то объяснение неприятного свойства.
– Господин Кувырков, вы честный человек, вы исполните мою просьбу. Мы были не в согласии это время, но потому-то я и обращаюсь к вам.
– Что случилось с вами, батюшка? – искренно забыв свою неприязнь к приятелю, воскликнул Филимон Петрович, пораженный его тоном и расстроенным видом.
Прислонившись к двери, офицер несколько минут молчал. Он был бледен. Черные волосы выбивались из-под кивера. Глаза блистали решимостью и вместе глубоким волнением.
– Вот, – сказал он, задыхаясь. – Эту записку вы передадите Евдокии Константиновне, если через три дня я не потребую от вас ее назад.
Из-за обшлага мундира он вытащил помятый розовый конверт без адреса.
– Да что с вами? чем вы потрясены? – допытывался Кувырков.
– Скоро вы узнаете. Теперь не время. Позвольте поцеловать вас. Может быть, вы последний… – голос его оборвался. Он коснулся небритой щекой лица Филимона Петровича и вышел быстро, мелькнув черным плащом раньше, чем, оторопелый, тот успел сказать что-нибудь.
«Странно, – думал Кувырков, переходя улицу к парикмахеру. – Очень странно».
Осип Степанович, грея щипцы, имел обыкновение сообщать местные новости. Сегодня он был менее охотлив к разговорам, и, только закладывая последний локон, сказал:
– Врут, будто сегодня новому царю присягать велено. Константина то бишь Павловича будто в кандалах ныне привезут{174} на Торговую площадь, и там расказнят. Слышно ли у вас в департаменте?
– Ври больше, пока язык не укоротили, – прикрикнул на него старик-мещанин, ожидавший своего череда, и на этом разговор прекратился.
На улице становилось светлее; холодный ветер срывал шляпу и распахивал шинель. Филимон Петрович шел по Казанской улице, быстро шагая и думая только скорее совершить изрядный свой путь. На углу Гороховой проходившие войска задержали его. Вглядываясь в солдат, заметил он нечто поразительное. Шли они стройным порядком со знаменем и офицерами при частях, но скрытое волнение какое-то нарушало обычный строгий ряд солдат. Иные перешептывались, иные спустили ружья наперевес. Офицеры не кидали свирепых взглядов на нарушителей дисциплины. Несколько статских замешались в ряды и на ходу объясняли что-то толпившимся около них.
Смутному и настойчивому любопытству отдавшись, Филимон Петрович, сам не зная зачем, пошел по панели вслед за солдатами. Только на площади остановился он в кучке таких же, как он, любопытных, тогда как Московский полк (он разглядел знаки его), как на параде, отошел марш-маршем по площади, к зданию Сената.
Вся площадь открылась перед ним. Подобно маневрам передвигались войска, строясь у Дворца, Сената, Собора, дома Куше-лева. Мелькали султаны, развивались значки полков. Смутный гул команды и голосов доносился с одной и с другой стороны. Мнения наблюдавших события с угла Гороховой расходились.
– Благодать-то, благодать-то какая. Вся хвамилия, как на ладоночке, который только кто, разглядеть не могу. Растолкуй, Герасим Аркадьевич, – шамкала слезливая старушонка.
– Вот дура, так дура! Большая благодать, свернут себе головы. Брат на брата, озорники. Что в Писании-то сказано? – мрачно возражал большой черный купец в меховом картузе.
– А любезного нашего брата кончину неустанно оплакивая, слышишь ли? – передавал грамотей на память слова манифеста.
– Да какой царь, энтот или тот, манифест дал?
– Один у нас Его Императорское Величество государь император Константин Павлович.
– Ан, врешь! Константину твоему капут. Николай Павлович{175} воцарился.
Облокотясь на угол дома, Филимон Петрович прислушивался к этим смутным и превратным толкам, и странное смятение овладело им, хотя он не понимал ни происходящего, ни происшедшего.
Сухой и короткий треск выстрелов, казалось, никого не удивил, только выставивший из окна дома большую зрительную трубу сухощавый немец убрал ее и окно закрыл.
Издалека, как шелест волн, ветром доносило не то жалобные, не то отчаянные крики:
– Константин! Константин! Константин!
От Главного Штаба, выровнявшись, шел лейб-гренадерский полк. Одинокая фигура высокого офицера в одном мундире с пышным султаном остановила его.
– Мы за Константина! – донесся ответ полка.
– Тогда вот вам дорога, – и, махнув рукой, офицер повернулся и пошел к кучке, где стоял Филимон Петрович.
Уже оставалось между ними только несколько шагов, когда ужас охватил Кувыркова. «Да ведь это он», – вспомнил Филимон Петрович вдруг давешний сон. Хотел бежать, и ноги не слушались, хотел крикнуть, остановить приближающегося, отвратить что-то, и не мог догадаться, что надо сделать.
– Шапки долой! – с утра еще знакомый, громкий, слегка сиплый голос фигуры услышал он, но, взглянув в гневом сверкающие глаза, как бы окаменел.
– Граф, – шептали кругом, и дородный Милорадович{176} подскакал, осаживая взмыленного коня почти в самую толпу.
– Sire,{177} – воскликнул он, обращаясь к офицеру, и, как бы получивши вдруг способность отдаться своему страху, Филимон Петрович бросился бежать со всех ног, не поднимая оброненную шляпу.
Опомнившись, Кувырков не узнавал местности, куда забежал.
«Что за вздор сегодня со мной приключается?» – подумал он, и, взглянув на часы, увидел, что пропустил час, когда обещал сегодня явиться к Евдокии Константиновне. «Вот так именинник. Наклюкаться не успел, а голову потерял», – укорял он сам себя и, закричав проезжающего ваньку, приказал везти себя на Фурштатскую, поднятым воротником стараясь скрыть отсутствие шляпы.
Пирог уже стоял на столе, когда Филимон Петрович, оправивши перед зеркалом в передней розовый галстук свой и новенький фрак, вошел в небольшую светлую столовую Константина Сергеевича Курочкина.
– Простите, матушка, невольное запоздание. В городе уж очень неспокойно, – подходя к ручке хозяйки Анфисы Федоровны, извинялся Филимон Петрович.
– Слышал, слышал. Большое смущение и распаление невежественных умов породила новая присяга, – говорил Константин Сергеевич и пригласил гостей приступить.
За обедом, между жаркими, говорили о городских новостях, причем каждый из гостей, натурально, оказался свидетелем событий самых удивительных. Один Филимон Петрович молчал, мало ел, меланхолически поглядывал на тоненькую, с крутыми бровями, бледным лицом, едва окрашенным нежным румянцем, с алыми губами Евдокию Константиновну, тоже пригорюнившуюся, сидящую против него, но не отвечающую на его робкое пожатие ее ножки под столом.
Уже убрали со стола последние сласти, старики ушли в кабинет оканчивать свои рассуждения о событиях и докуривать трубки, а молодежь толпилась в зале, не приступая еще к забавам, пересмеиваясь и переговариваясь, а Филимон Петрович не нашел еще ни одного слова сказать задумчивой Евдокии Константиновне и не знал, как приступить к жгущему язык признанию, да и приступать ли?
Но Евдокия Константиновна сама искала с ним беседы.
– Придите сейчас в мою светелку незаметно. Нужно поговорить, – шепнула она после некоторого колебания и, заалевшись, быстро отошла от кавалера, переполнив его радостными и тревожными чувствами, так как наступала решительная минута, и все слова, мадригалы, признания, столь гладко придуманные утром, вылетели из головы куда-то далеко, и не мог собрать он даже одной фразы для вступления.
– Ну, что Бог пошлет. Выручи, Небесная! – шептал он, крадясь по скрипучим ступеням лестницы, и около самой двери в светелку перекрестился.
Евдокия Константиновна не встала от окна на его стук и не отняла рук, которыми наполовину закрывала свое смущенное и расстроенное лицо. В комнате было почти темно, так как мокрыми хлопьями валивший снег приближал сумерки, и только синяя лампада перед киотом освещала один угол, туалет в розовых кружевах, край белого полога и образ Варвары Великомученицы.
– Простите, Филимон Петрович, меня. Не подумайте чего-нибудь дурного, но вы единственный. Мне так, так совестно, – первая заговорила Евдокия Константиновна, поспешностью покрывая свое смущение.
– Помилуйте! Как милости, сам хотел умолять я вас об этих минутах. Измучился я. Решите судьбу мою…
– Ах, не надо сейчас, не надо! – встав, заговорила она.
– Не могу ждать я более, лучше погибель, чем томительная неизвестность, – и он упал перед ней на колени.
– Филимон Петрович, милый, дорогой, не торопите меня. Дайте подумать. Я знаю истинность ваших чувств, и я ценю их, для того и позвала вас. Скажите мне одно только слово. Ведь вы видели его вчера или сегодня. Что с ним, какой он? Только одно слово. Скажите!
Будто ударил кто по лицу кнутом Филимона Петровича. Злые слезы его скрыла только еще более сгустившаяся темнота. Несколько минут молча склоненным оставался он у ног Евдокии Константиновны, трепетной и тоже молчащей.
– Ну что же с вами, милый Филимон Петрович? Ради Бога, простите меня. Я отвечу, я подумаю. Но сейчас, скажите, скажите, если вы истинно любите меня, – говорила она и, слегка нагнувшись, касалась рукой волос его.
– Хорошо! – поднявшись и выпрямившись, сказал Филимон Петрович. – Я скажу вам все. Не только его имел случай я сегодня утром встретить, но и поручение взялся от него к вам исполнить, передать записку, но через три дня сроку.
– Сейчас, сейчас, подайте мне ее! Где она? Голубчик, всю жизнь не позабуду. Сейчас подайте, слышите!
В темноте сверкнули ее глаза. Кувырков молча пошарил в карманах, за обшлагами, осмотрел себя со всех сторон, но письмеца не находил.
– Света! – крикнула Евдокия Константиновна и сама засветила огарок.
Записка не находилась.
Забыв всякую осторожность, Евдокия Константиновна потащила его вниз, заставляя перерыть всю шинель, сама за подкладкой шаря.
– Вы поедете сейчас домой. Сейчас! Вы привезете его или письмо. Без этого не являйтесь, последние это слова мои. – И она почти насильно натянула на Филимона Петровича шинель и вытолкнула его за дверь.
Без шляпы, под мокрым снегом, поплелся Кувырков домой, предаваясь печальным мыслям. Только на полпути встретил он заспанного извозчика. Колотя в шею, погонял Филимон Петрович его. Очутившись у дома, быстро взбежал он по темной лестнице в мезонин. На громкий стук его в дверь ответа не последовало.
«Где б ему быть, кроме как дома, если не у Курочкиных?» – размышлял Филимон Петрович. Постоял у безмолвной во мраке двери, бесполезно заглянул в скважину, постучал еще раз и в медленном раздумье спустился к себе.
Вздув огонь, тщательно пересмотрел Филимон Петрович всю свою комнату, потеряв надежду, сел, не снимая шинели, у стола, загораживая глаза от свечи, и думал, что случилось таинственного с верхним постояльцем, что готовит ему поведение Евдокии Константиновны и что такое есть призраки.
17 мая 1909 г.С.-Петербург.









