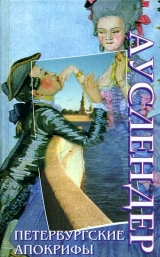
Текст книги "Петербургские апокрифы"
Автор книги: Сергей Ауслендер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 53 страниц)
СЕРДЦЕ ВОИНА{261}

Сердце воина{262}

I
Уже три дня, как прапорщик Батурин выписан из лазарета и живет у старинных своих знакомых Петровых.
Будто приветствуя героя и стараясь опровергнуть давнюю клевету о мрачной сумрачности северной столицы нашей, все эти три дня яркое, уже по-весеннему яркое, солнце, ни на минуту не утомляясь, светит, делая таким празднично-нарядным Петроград.{263}
У Батурина много знакомых, кроме того, много еще, как кажется, неотложно-спешных дел, и целые дни ездит он по улицам, улыбается, тщательно откозыривает во все стороны, поправляя на серой шинели беленький крестик,{264} выходит из экипажа, слегка опираясь на черную тросточку, входит в магазины или квартиры и снова едет, так до самого вечера.
Часто сопровождает Батурина Варя Петрова, его сверстница, нежная подруга с детских лет; не то томная влюбленность, не то братская дружба соединяет их, сладкая неясность отношений кажется особенно прельщает обоих.
Варя училась в школе живописи, подавала большие надежды. Сейчас же, как тысячи других русских девушек, надела белый платочек сестры милосердия, усердно посещала свою общину, готовясь через три недели выдержать последний экзамен и уехать с земским отрядом.{265}
Батурин над ней подшучивает:
– Ну куда тебе, Варенька. Сестра должна быть сильна и вынослива, как буйвол. Это – главное. Вот как с нами было: остановился санитарный поезд – путь испорчен. Немцы налезают, – обстреливают, а нужно раненых в другой поезд пересаживать, так шагов сто пройти, да под огнем. Санитаров мало, носилок на всех не хватает. Я думал: «Ну, конец, не выбраться из каши». Ногой пошевелить не могу. А сестра у нас была, из эстонок что ли, молоденькая, да такая сильная и решительная. Схватила меня в охапку, я не успел слова сказать, как ребенка малого, да бегом к поезду. После меня десять офицеров, даже одного полковника, перетаскала, и хоть бы что. Ну, а тебе, Варенька, хоть одного, самого худенького прапорщика, и то не поднять. Ты будешь только ходить ангелом-хранителем: «Солдатик, хочешь письмо на родину напишу?» – «Никак нет, сам грамотный». – «Где ж ты учился?» – «В Московском университете!»
Батурин смеялся, повторяя этот известный анекдот «В Московском университете».
Но Варя не обижалась, только улыбалась, слегка смущенно, такая худенькая она была, бледненькая петроградская барышня, где ей исполнить трудный подвиг, и только упорно сдвинутые брови говорили, что все исполнит, все перенесет.
II
Ехали они по Невскому; солнце прямо ослепляло. Гремят трамваи, несутся автомобили, нарядная, веселая и по виду такая беспечная толпа на широком тротуаре около Пассажа.
– Как хорошо! – говорит Батурин. – Как хорошо, что радостная и красивая жизнь такая; как хорошо. Вот вернулся в Петроград, и все здесь неизменным осталось то, что любил прежде. А с другой стороны, как хорошо, что многое, многое уже изменилось, но изменилось-то к лучшему, а все, что было прекрасного, – и Невский, и шпиц Адмиралтейский, и солнце, это-то все осталось и навсегда останется.
Говорил Батурин восторженно и не совсем вразумительно, но Варя привыкла принимать его всяким, и печальным, раздражительным, и равнодушно-вялым, и сейчас принимала и понимала этот неясный восторг, с которым ко всему еще в лазарете относился Батурин. Все-то его радовало, все поражало, все казалось необычайно прекрасным.
Сейчас они ехали на выставку картин.{266}
– Представь, Варенька, – говорил Батурин, – я шесть месяцев не читал стихов, не видел ни одной картины, и, представь, я даже не замечал этого совершенно. Зато теперь какая жадность, какое нетерпение, если бы ты только знала! Да ну же, братец мой, погоняй, ведь мы торопимся! – покрикивал он на извозчика.
– Успеем, барин. Ишь, какой прыткий! – отвечал извозчик, совсем седой сухенький старичок, и, не оборачиваясь, причмокивая на лошадь, спрашивал:
– А что я вас спрошу, барин. Внук у меня там Иван Захаров. Не встречали ли? А то не знаю, и жив ли?
– Жив, конечно, жив! – так радостно, так уверенно закричал Батурин, что старичок только головой замотал с благодарностью.
III
Батурин так торопился, что на лестницу во второй этаж поднялся чуть не бегом, зато в передней, когда снимал шинель, почувствовал, что опять заныла нога. В первой же комнате сел Батурин на стул и стал такой тихий, задумчивый, молчаливый, смотрел на картины внимательно и будто слегка удивленно. После долгого молчания тихо, почти шепотом, промолвил:
– А ведь это совсем, Варенька, как у нас в детстве на Волге у тети Кати.
На картине была площадь маленького уездного города, с красной низенькой церковью, за высоким забором большой яблочный сад, посреди площади свинья в луже, у дверей лавки лавочник с околоточным в шашки играют, по деревянной панели идет мальчик в матроске, а в открытом окне за слегка раздувающейся тюлевой занавеской барышня в косах вокруг головы играет на рояле, а старая дама читает книгу у круглого стола.
Совсем не было все это похоже на тот маленький волжский городок, где по летам живали семейства и Батуриных, и Петровых у тети Кати, которая кому собственно теткой приходилась как-то не помнилось, общая была «тетя Катя». Не была картина похожа на все знакомое и милое, но Варя поняла, почему Батурин сказал ей: «Совсем как у тети Кати». Будто легким ветерком с Волги подуло на нее, таким свежим и напоенным запахами сена с заволжских лугов и поспевших яблоков. Сидят она и Миша Батурин на самом венце горы. Внизу Волга, желтая отмель и бесконечная синева заманчивых и жутких лесов заволжских, которые тянутся до Сибири, и даже до самой Вятки, как заверяет яблочный дед{267} Антипка. Заходит солнце, зажигая золотом окна домов и главы церквей. На далеком плесе стройный белоснежный бежит «Самолет»,{268} в саду где-то внизу поют девушки скитскую жалобную песню. Миша Батурин в коломянковой гимназической блузе,{269} в желтых сандалиях на босую ногу, веснушчатый, грызет яблоко и говорит:
– Это ведь я вчера вечером стрелял. Дедка Антипка дал мне пальнуть, чтобы яблоков не крали. Мы костер развели, картошку пекли. Звездно вчера было, и пожар за Сурой. Дедка такую историю завел, всю ночь бы слушал. Вот ты, Варя, вылезай в окно и приходи к шалашу. Право! Ведь так ничего интересного не увидишь, если того нельзя, да этого нельзя!
Страшно и весело Варе, знает, что послушает Мишу и придет ночью в сад слушать историю дедкину, на звезды смотреть.
– Ну, Варенька, пойдем дальше, отдохнул я, нога не ноет больше. Да ты на картины и не смотришь, мечтаешь, сестричка-мечтательница.
Варя даже вздрогнула, услышав голос Батурина, и будто не узнала этой тихой, залитой солнцем комнаты, увешанной яркими полотнами, и высокого офицера с палочкой, смотрящего на нее насмешливо и нежно, – его, Мишу Батурина.
IV
В этот день на выставке народу очень мало, комнаты небольшие, нет суеты, бестолковых разговоров и восклицаний за спиной. Можно смотреть долго и сосредоточенно. Даже друг с другом Батурин и Варя почти не говорили.
Все-таки ходить и стоять долго Батурину трудно, и они опять сидели в соседней комнате. Вся стена была увешана небольшими картинами одного, достаточно известного художника. На изумрудной воде венецианской лагуны вся бархатом одетая гондола с золотым львом на остром носу.{270} Опираясь на руку блестящего синьора, дама в лиловом плаще, с лицом усталым и томным, спускается по ступеням к гондоле, слушая с улыбкой, что говорит ей старый безобразный монах. Гондольеры уже стоят на своих местах. Зловещим пурпуром пламенеет небо над будто траурными дворцами и башнями, а в глубине темной улицы юноша с бледным лицом, став на колено, поднял голубоватую розу, небрежно оброненную дамой, и прижал ее нежные лепестки к губам. И в позах, и в линиях, в выражениях лиц, в самих красках была вся изощренная изысканность нашего века, столь жадно влекущегося к утонченной красоте всех времен и народов.
– Это будто иллюстрация к венецианским сонетам Чугунова, – заговорил тихо Батурин. – Ты помнишь, весной мы были у него. Неужели только три года прошло, а, кажется, как давно, как давно это было! Он жил на восемнадцатой линии Васильевского острова. Как было все странно тогда! Вся комната обита парчой, на полках книги в пергаменте. Так приторно-сладко благоухали гиацинты в длинных узких вазах. В сумерках так же зловеще пылало закатное небо, как здесь на картине, и голос Чугунова, такой глухой и усталый, повторяющий звучные строфы о прекрасной и жестокой синьоре Бианке, что живет в своем мрачном палаццо, выходящем на узкий канал. Она ездит в траурной гондоле со спущенным полотном, медленно проходит к своему месту у правого алтаря, а ночью при свете желтых свечей творит свои чары.
Батурин говорил тихо, как бы вспоминая про себя, сам не слыша своих слов, а Варя уже видела узкую комнату, открытое окно, Чугунова в бархатной коричневой курточке. Какие странные грезы владели тогда ими всеми. Поздней, уже по-весеннему светлой ночью возвращались они по бесконечной линии, и каким страннонезнакомым, вдохновенным было лицо Батурина, шедшего рядом. Будто загипнотизированный, мерно выстукивал он своей тростью по плитам тротуара и потом, когда лодочник перевозил их через Неву (мосты были разведены), и какой-то незнакомец мрачно кутался на корме, а с моря свежим соленым ветром несло, – как сказочно ненастоящими были все мысли, ощущения, побледневшие усталые лица, четкие линии зданий.
– Какое странное было время, – заговорил Батурин, будто те же картины прошлого возникли и перед ним. – Какое странное время. Мы жили в высокой белой башне из слоновой кости, мы были отделены от всего мира нашими изысканными мечтами, и жизнь… какой грубой и безвкусной казалась нам эта далекая, чужая нам жизнь. Как это смешно вспомнить, особенно сейчас. Но хорошо, что было когда-то и так.
V
Они долго ходили по небольшим комнатам выставки, садились, возвращались назад, подолгу смотрели своих любимцев.
Наконец, осмотрев все, они сели на маленьком диванчике рядом, оба несколько усталые и задумчивые. Напротив диванчика висело небольшое полотно незнакомого им художника. Вероятно, это был какой-нибудь парижский кабачок. Сквозь синие тяжелые шторы уже пробивалось тусклое холодное утро. Столы сдвинуты так, как будто были танцы или, может быть, крупная свалка. На полу смятые цветы и грязное конфетти. Старый бритый лакей, прислонившись к стене, тупо дремлет; у пианино тапер с пышными кудрями, спустив руки до полу, откинулся на спинку стула в каком-то последнем изнеможении. Посетителей только трое; они сидят за одним столиком, уставленным бутылками ликера и шампанского. Старик в смокинге и лакированных туфлях блаженно спит, слегка похрапывая. Молодой человек, почти мальчик, с развязавшимся галстуком и спутавшимися волосами, спустившимися на лоб, опрокинул рюмку густого темно-красного ликера и смотрит с каким-то ужасом на алые пятна, медленно растекающиеся по скатерти. В его помутившихся глазах дикое отчаяние и предсмертная тоска опустошенной души.
Женщина, немолодая, сильно до синевы нарумяненная, в роскошном платье, рыжеволосая с бесстыдно-жадным ртом, следит за мальчиком с страстной тревогой, будто предчувствуя страшную развязку.
Может быть, собственно говоря, и не заключалось всего этого в этой картине, написанной в сильно импрессионистической и не совсем определенной манере; может быть, только показалось Вареньке в ней что-то страшное и такое незабываемо-знакомое.
В ту зиму нечто непонятное владело многими, какое-то темное смятение, но зато так бурно веселились, так много пили, так громко смеялись, будто стараясь заглушить в себе что-то.
Давали вечер в честь знаменитой иностранной актрисы, приехавшей на гастроли. Все помещение небольшого полуинтимного кабачка было убрано цветами и увешано китайскими фонариками и раскрашенными тряпками.{271} Было душно, шумно и почему-то скандально. Возникали какие-то громкие споры, едва заглушаемые музыкой и сладким голосом итальянца.
Знаменитая актриса с совершенно бледным лицом и черными, по мальчишески короткими волосами, окруженная блестящим кругом почитателей, невозможно много пила и хрипло смеялась, не понимая того, что говорилось, декламировалось и пелось в ее честь.
Батурин был особенно оживленным. Он, встав на стол, говорил тост, читал стихи, запустил пробкой в лысину какого-то совершенно незнакомого господина, на плохом французском языке писал мадригалы{272} знаменитой актрисе, и только когда Варя его спрашивала или просто смотрела на него, беспокойно отворачивался, как бы скрывая что-то.
А она сидела с ним рядом, пыталась тоже быть веселой и беззаботной, необычно много пила, но знала, чувствовала, что с Мишей происходит что-то нехорошее, только спросить она не могла, не смела.
Актриса в ответ на мадригал дотронулась своими тонкими злыми губами до белой гвоздики и послала цветок с лакеем Батурину. Тот низко поклонился, и Варя заметила, как у него дрожали руки, он даже не мог сам вдеть гвоздику в петлицу. Варя помогла ему.
– Спасибо, милая, спасибо. Прости… – пробормотал он, и в его голосе была такая растерянность. Он стал тих и задумчив, только пил за стаканом стакан.
Становилось все душнее и угарнее.
Актриса уехала со своей свитой. Кто-то танцевал танго, где-то спорили все возбужденнее.
Батурин отошел от Вари. Она видела несколько раз в толпе его лицо, но вдруг, будто острая игла, вонзилось в сердце внезапное беспокойство, и она вышла из шумной залы в полутемную переднюю и потом на холодную лестницу, едва освещенную из высокого окна бледным туманным рассветом.
Батурин стоял около самой двери, прислонившись головой к стене. Лицо его было в этих серых сумерках белей гвоздики, подаренной знаменитой актрисой.
– Миша! – крикнула Варя. – Миша!
И сама, еще не зная, не понимая, схватила крепко его руку, в которой поблескивал какой-то маленький странный предмет.
– Что с тобой, Варенька? – услышала она голос Батурина и, очнувшись, увидела, что сидит рядом с ним на диванчике и крепко держит его за руку.
Какая-то седая дама удивленно перевела лорнетку с картины на Варю.
VI
– Ты ужасно нервная, Варенька. Разве это хорошо? Особенно для сестрицы! – говорил Батурин, нежно и успокаивающе поглаживая Варину руку.
– А какое солнце-то сегодня. Весна. Как хорошо!
Он подвел Варю к окну и, все еще держась за руки, они присели на низкий подоконник.
Будто редкая гравюра, нарисованная гениальным рисовальщиком, открылась им. Величественно прекрасное Марсово поле,{273} окаймленное строгими аллеями Летнего сада; сероватый фон еще оголенных деревьев был оживлен яркими пятнами детских пальто. Сумрачно великолепный Михайловский замок, канал, и за ним стройная белая колоннада мраморной беседки – все это вырисовывалось на ярком солнце с четкостью поразительной.
Все Марсово поле кипело жизнью. Серые ряды солдат клонились к самой земле, вздымались грозным приливом, и опять падали. Солдаты делали перебежку, зарывались, подкрадывались ползком и потом, всколыхнувшись, бежали в атаку.
Столько бодрой, веселой отваги было в каждом движении. Молодой офицер, командовавший ими, был так увлечен, что невольно хотелось улыбнуться или заплакать. И когда он вдруг обернулся, Варя чуть не вскрикнула. Она ясно увидела, что это Миша Батурин. То же безусое загорелое, почти детски восторженное лицо, та же сияющая улыбка и гордый блеск глаз.
Переводя взгляд с офицера там, за окном, на Мишу, жадно вытянувшегося, всего загоревшегося, Варя не узнавала, где же он, настоящий? В этом милом лице, таком изменившемся, узнавала она и задорного гимназиста, и вдохновенного мечтателя, только того, искривленного мучительной гримасой, не было в этих ясных и простых чертах.
– Как хорошо, Варя, – заговорил Батурин. – Это солнце, этот волшебный город, и они, эти дорогие… Я уже был с ними и буду опять. Вот так и я бежал вперед, и они рядом со мной, и впереди, и сзади, и я чувствовал себя таким же сильным, простым и радостным. Понимаешь, вот сейчас сердце бьется восторгом, что скоро я опять буду с ними. Послушай, как стучит сердце.
Он потянул руку Вари и прижал к своей жесткой походной рубашке. И она слышала, как сжималось и расширялось его сердце, сердце нового милого Миши Батурина, сердце воина…
Петроград.Апрель 1915 г.

Наташа{274}
Повесть в 2-х частях
Она еще ни разу алых губ
В любовном поцелуе не сближала —
Но взгляд ее порой так странно груб…
Иль поцелуя было бы ей мало?{275}
Валерий Брюсов

I
Свистнув собак Жулика и Валдая, мальчики прошли по скошенному лугу к купальне, выстроенной в этом году на узкой, но быстрой и холодной Злынке.
Прежде купались прямо с берега, но строго это было запрещено после того, как в прошлом году проезжавшая мимо предводительша пожелала остановиться и погулять по отличному, действительно, зеленому лугу и, по близорукости не заметив купающегося Андрея Федоровича, подошла к самому берегу, чем поставила известного во всем уезде за галантного кавалера Андрея Федоровича в положение весьма затруднительное. Правда, предводительша недаром слыла дамой тактичной и потому, подойдя вплотную к купальному месту и разглядев наконец голову старательно приседающего в обмелевшей реке Андрея Федоровича, она кивнула приветливо и спросила, ничуть не растерявшись: «Не холодно разве купаться еще, Андрей Федорович? Дивные места у вас», – возвратилась затем к экипажу, будто ничего необычайного не произошло.
Андрея же Федоровича это приключение очень расстроило; долго еще брюзжал он и не успокоился до тех пор, пока не построил маленькой купаленки с трехаршинным ящиком, на стене которой вывесил собственноручно написанные правила, запрещающие выплывать в открытую реку, выходить неодетым на берег, забрызгивать водой скамейки и многое другое.
С тех пор купальня получила название «предводительской», а нарушение купальных законов под зорким взглядом неугомонного Андрея Федоровича считалось одним из подвигов молодечества, одним из «подвигов Геркулеса»,{276} которыми именовались все выступления обитателей усадьбы Тулузовых против общего тирана и притеснителя Андрея Федоровича.
Идя к купальне, мальчики, т. е. юнкера Коля Тулузов и товарищ его Дмитрий Лазутин, обсуждали последнее зверство Андрея Федоровича.
– Отец становится невыносимым! – воскликнул Коля, обижавшийся больше всех и за всех. – Я серьезно думаю, что он не совсем нормален. Какая низость! Митя, голубчик, ты не обращай внимания на него. Я знаю, что это – пустая сплетня. И главное, при всех такие пошлости: волочиться за девицами. Хоть бы Наташи постыдился.
Коля размахивал полотенцем и чуть не плакал от огорчения.
– Не волнуйся так, – лениво и несколько надменно усмехаясь, промолвил Дмитрий. – Я не первый день знаю старика, и мне не привыкать стать к его выходкам, но все же я думаю, что лучше будет мне уехать. Его придирки становятся слишком систематическими.
– Ну вот, Митя, ты и обиделся. Но ведь не для него же ты живешь здесь! – с жаром перебил Коля. – Я понимаю, что это несносно, нестерпимо, но ведь ты как брат родной нам, так и терпи вместе с нами. Каково же будет нам без тебя – мне, маме, да и Наташе!
Коля был слишком увлечен, чтобы заметить, как вспыхнул при последнем имени Дмитрий, и, сейчас же рассердившись сам на себя и на Колю, сказал резко:
– Ну, полно, Николай. Оставь эти сантименты. Ни капли я вам не родной. Через полгода выйдем в полк и думать забудем друг о друге. Да и теперь все это преувеличено. Кому так нужно мое присутствие здесь? Тебе еще, может быть, по старой привычке я приятен, но Александра Львовна и Наташа вряд ли будут грустить.
– Какой ты злой и недоверчивый, Митя, – только и нашелся ответить Коля почти со слезами в голосе.
Они вошли в купальню и стали молча раздеваться.
– Я не смею тебе советовать, но очень бы просил подождать еще, – сказал Коля.
– Довольно об этом, – недовольно дернул плечами Лазутин и, легко взобравшись по столбу на крышу купальни, бросился с нее в открытую реку.
Коля остался барахтаться в купальне. Дмитрий, нырнув до самого дна в холодную, запенившуюся от его движений воду, поплыл вверх по реке. Солнце светило прямо в глаза; от напряжения всех мускулов в борьбе с быстрым течением он чувствовал свое тело особенно сильным, молодым, радостным. Недавнее раздражение, еще более сильное от того, что он старался скрыть его, проходило.
Почувствовав усталость, Дмитрий подплыл к берегу и сел на горячий песок, охватив руками колени. Дмитрий осматривал знакомые места, будто прощаясь с ними.
Зеленели луга, темнел лес, белые крупные облака медленно проплывали по синему, будто вылинявшему в яркости своей, небу. Желтая дорога, обсаженная березами, подымалась на пригорок к усадьбе. Деревья сада скрывали дом, и только зеленый край крыши и верхний балкончик мезонина выглядывали, маня проезжающего по большой дороге путешественника каким-то тихим уютом.
Падало сердце в сладкой печали, когда осматривал все это, такое знакомое и милое, Лазутин. Не поднималось больше злое раздражение, но тихая грусть охватывала. «Но уехать необходимо, – сказал сам себе Дмитрий, вставая, – необходимо; терпеть больше этого невозможно. Как погляжу я в глаза Наташи после этой сцены? Она стала бы презирать меня и, пожалуй, еще поверила бы этой сплетне».
Он поднял камень и сердито швырнул его в воду. Потом бросился в речку, лег на спину и, почти не работая руками, отдался течению. Было сладко и грустно почти до слез плыть так ласково баюкиваемым течением, солнцем, тишиной знойного июльского полдня.
Коля уже стоял совсем одетый на мостках и не без тревоги ожидал товарища.
– Не бойся, я топиться не собираюсь, – весело крикнул Лазутин и, взобравшись в купальню, быстро принялся одеваться, насвистывая какой-то вальс.
Выкупав собак, которые визжали и прыгали, Коля и Митя медленно, испытывая приятную истому после холодной воды, стали подыматься по тенистой тропинке.
Лениво перекидываясь словами, они говорили о пустяках, не возвращаясь больше к прерванному разговору.
– Хоть бы война не кончилась до нашего выпуска, я бы сейчас на Дальний Восток махнул, – сказал Дмитрий.
– Да, я тоже пойду, а потом в отставку и в университет, – вздохнув, промолвил Коля, которого одно слово «война» приводило в тайный ужас.
– Так тебя старик и пустил в университет. Быть тебе, Николай, гвардейским корнетом, хоть фигурой и не очень вышел, – насмешливо поддразнил Лазутин.
– Наши дела очень расстроены, и отцу волей-неволей придется согласиться, – серьезно возразил Коля.
По березовой аллее их перегнали два экипажа.
– Да ведь это Маровские. Вот некстати! – воскликнул Коля с напускным раздражением и покраснел. Он был влюблен в Катю Маровскую, скрывал это тщательно и теперь волновался, приехала ли Катя в числе многочисленной семьи Маровских, не помещавшихся в двух экипажах, которые у них были, и потому соблюдавших очередь.
Коля невольно прибавил шаг и скоро побежал даже. Дмитрий отстал, обрывая листки стойкой ветки и обдумывая, куда и каким образом следует уехать. Когда Митя подошел к цветнику, разбитому перед домом, вся усадьба была в оживлении.
Собаки лаяли, Андрей Федорович тщетно старался перекричать шумные восклицания приветствий: «Принимайте гостей. Наконец-то собрались. Милая Наташа, как вы похорошели» – и поцелуи барышень разносились далеко. Весь балкон запестрел цветными платьями приехавших, и огромная шляпа с красными тюльпанами госпожи Маровской колыхалась, как победное знамя.
Митя не сошел в цветник, а через заднее крыльцо пробрался наверх в свою комнату, там начал собирать вещи, но, вытащив пыльный, порыжевший чемодан, почувствовал страшную слабость и лег на кровать. В открытое окно ласково обвевал ветерок, снизу доносились звонкие голоса и смех. Вдруг ужасно одиноким, всеми покинутым почувствовал себя Митя, и так жалко стало ему себя, что он, всегда такой гордый своей выдержкой, отвернулся и, кусая подушку, как в детстве, горько, горько заплакал.
Он не слышал, как стучали по лестнице быстрые Наташины каблучки, как отворилась дверь, и удивленно остановилась на пороге девушка.
– Митя, что с вами, милый? – тихо спросила Наташа.
Вздрогнув от неожиданного голоса, Митя вскочил; его лицо было в красных пятнах, но слезы высохли в ту же секунду от одной только ужаснувшей мысли, что он может выдать свою слабость.
– После купанья сморило, прилег и не заметил, как задремал, – с кривой улыбкой ответил Митя.
Оглядев комнату и заметив выдвинутый чемодан, Наташа спросила:
– Так это правда, что вы хотите уехать от нас?
– Будто это важно для кого-нибудь – уеду я или нет? – вопросом ответил Лазутин.
– Сейчас Коля рассказал маме, и она просила меня уговорить вас остаться. Неужели вы будете обращать внимание на отца? Ведь вы знаете, какой он у нас, – говорила Наташа.
– Но ведь всему же есть границы, – сумрачно промямлил Дмитрий.
– Наташа, Ната! – закричали снизу.
– Я вас тоже очень прошу, милый Митя, останьтесь хоть до моих именин. Ну потерпите для меня, – быстро проговорила Наташа, дотрагиваясь до Митиного рукава; в дверях, улыбнувшись еще раз, проговорила. – Для меня, – и побежала по лестнице.
Митя прошелся по комнате, пихнул ногой под кровать чемодан и, встав у окна за занавеской, смотрел, как мелькали в цветнике яркие платья приехавших барышень.
«Милая, милая, чего для тебя не перенесу», – произнес Лазутин почти вслух и улыбнулся счастливо.
II
С утра моросил мелкий дождь, предвещающий уже близкую осень. За завтраком, как всегда, говорил один Андрей Федорович. Он был в духе, получив утром письма с какими-то приятными новостями.
– Да, поздравляю вас с новым соседом, – сказал он уже в конце завтрака, – в Чугуновку пожаловали владетели. Прямо из Англии. Генеральшу я когда-то знал. Достойная женщина, очень шикарно лет двадцать тому назад выглядела, хотя и тогда уже не была молода и вдовела; сын же ее, кажется, впервые посетил наши края. Учился в Англии, имеет придворное звание, но не служит. Говорят, весьма образованный человек.
– Что они будут здесь делать, не понимаю, – промолвила Александра Львовна.
– Да уж где тебе, матушка, понять, – продолжал Андрей Федорович, раздражаясь, – по-твоему, если богатый, то только и счастье балы задавать да по курортам трепаться. А молодой Чугунов, говорят, не в папашу пошел (большой кутила и мот покойник-то был) и теперь хочет хозяйство сам вести, по новейшим системам. Конечно, ему не трудно, имея миллиончиков пять состояния, из Англии машины и скот выписывать. Посадили бы вот в нашу шкуру, когда из-за каждого рубля дрожишь.
Александра Львовна только рукой махнула, а Андрей Федорович долго еще сердился на кого-то и, кончив завтрак, вышел из столовой, хлопнув дверью, чем, впрочем, кончалась почти каждая трапеза в доме Тулузовых.
– Несносный старикашка, – произнесла Александра Львовна довольно добродушно. – И смолоду-то несносным был, а теперь хоть на цепь сажай. А вы еще, Митя, на него обижаться вздумали. Что же нам-то тогда было бы делать?
– Да я, мама, тебе удивляюсь, как ты его переносить можешь так долго, – печально сказала Наташа.
– Так прежде он все-таки лучше был, а теперь не разводиться же после того, как серебряную свадьбу отпраздновали, – будто оправдывалась Александра Львовна. – А ведь женились мы по любви; maman{277} была сильно против нашей свадьбы и всю жизнь его терпеть не могла, – как сойдутся, так и поругаются.
– Угораздило тебя, мамахен, влюбиться тоже, – засмеялся Коля.
Александра Львовна даже обиделась немного.
– Ничего не поделаешь: «любовь зла, полюбишь и козла». Ты же вот глаз с Кати Маровской не сводишь, а ведь такая противная девчонка, вертлявая, ломака и красоты никакой.
– Попался, Жук, – хохотала Наташа, – а теперь пришла очередь Коле обидеться.
– Молодец ты, мамочка, у меня, обожаемая моя, – целовала Наташа Александру Львовну.
Наташа была беспокойная сегодня какая-то, то смеялась, бросалась на шею матери и покрывала ее поцелуями, теребила Колю, только с Митей почти не говорила, что после ласковости последних дней обижало его. После завтрака все пошли наверх, на детскую половину, «Подальше от старика», – сказала Александра Львовна.
В угловой большой комнате, где стояли кровати для приезжих гостей, как обыкновенно, расположились: Коля с книгой у окна, приготовляясь читать, Александра Львовна – в кресле с бесконечным вышиваньем своим, Наташа – у ног ее, Митя, заложив руки за спину, тихими шагами совершал свою прогулку от печки к окну.
– Читай, только без пафоса, Жук, и что-нибудь любовное, – заказывала Наташа.
– Уж непременно про любовь, – перелистывая том Тургенева, ворчал Коля, сам любивший исключительно любовные рассказы и даже писавший тайком ужасно страстные повести из великосветской жизни. – Ну, вот хотите «Первую любовь»{278} прочтем? – предложил Коля.
– Ах, это как отец и сын в одну и ту же девушку влюбились, – вспоминала Александра Львовна.
Коля начал читать. Прислонясь к печке, Митя посматривал то в окно на низкие разорванные тучи, которые плыли по чуть-чуть ясневшему кое-где небу, то украдкой переводил взгляд на кресло. Александра Львовна с круглым румяным лицом, с гладко причесанными, слегка седоватыми волосами, сосредоточенно вышивала. Наташа, более бледная, чем всегда, до странности похожая на мать, с золотистыми косами, туго обернутыми вокруг головы, вряд ли внимательно слушала, задумавшись о чем-то. Увлекшись, Коля читал, не останавливаясь. Дождь перестал, и все быстрее неслись тучи по словно вымытому голубому небу.
– Поучительная история, – заметила Александра Львовна, когда Коля кончил читать.
– Мне ее жалко. Как это ужасно, – задумчиво промолвила Наташа.
– Ну, сама виновата, развратная девчонка. Откуда это Тургенев взял? Еще теперь могла быть такая особа, а в наше время…
Александра Львовна сложила работу, поцеловала Наташу в лоб и, продолжая еще критиковать повесть, пошла вниз узнать об обеде.
Коля побежал пить. Наташа тоже встала и, подойдя к окну, задумчиво чертила пальцем по запотевшему стеклу.
– Что с вами, Наташа? – спросил Митя после минуты молчания. – Вы так печальны сегодня.
– Со мною ровно ничего. Скучно. Надоело все. Скорей бы в город, – оборачиваясь, проговорила Наташа, не смотря на Митю.
– Но еще вчера… – робко начал Митя.
– Ах, вчера, вчера, – резко перебила Наташа, – вчера было вчера, а сегодня скучно.
– Я не понимаю, – совсем тихо проговорил Митя.
– Тем хуже для вас, – как-то неприятно засмеялась Наташа и, вся покраснев, вдруг быстро выбежала из комнаты.
Митя долго уныло стоял перед окном, стараясь разобрать начерченные на стекле буквы.
К обеду прояснило. Сильный ветер гнал тучи. Солнце косыми лучами ударяло в окна балкона. После обеда, когда Андрей Федорович ложился спать, Александра Львовна с детьми ходила гулять.








