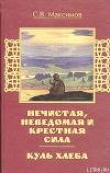Текст книги "Чужаки"
Автор книги: Никита Павлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 44 страниц)
– Таранить вот сюда, – приказал Ершов, указывая на край двери около замка. Шапочкин и Маркин с разбега ударили концом бруса. Дверь глухо ахнула, но не поддалась.
Еще несколько ударов, и между косяками и стеной появилась трещина. Все чаще и сильнее сыпались удары, пока дверь, словно изнемогая от непосильного сопротивления, не вывалилась в коридор.
Выскочив из камеры, Ершов отразил взмахом перекладины удар надзирательского тесака. Целившийся в Ершова начальник тюрьмы был отброшен к стене. Пуля задела волосы и со свистом вонзилась в стенку. Разоружив надзирателей и отобрав у них ключи, восставшие открыли все камеры и через несколько минут полностью завладели тюрьмой.
Но выход из тюрьмы был закрыт. Сбежавшийся караул оцепил тюрьму, ощетинился штыками.
Тогда Ершов приказал забаррикадировать коридор. Нары, доски, табуреты, вытаскиваемые из всех камер, вскоре образовали баррикаду.
– Теперь будем воевать, – решительно сказал Ершов.
Среди заключенных многие знали Ершова лично, некоторые слышали о нем от других. Так или иначе все признавали его авторитет и повиновались ему безоговорочно.
На вооружении восставших оказалось шесть тесаков, четыре нагана и три винтовки. Таким образом, можно было считать, что бойцы первой линии были вооружены сносно. Что касается остальных, то они запаслись выбитыми из стен кирпичами, тащили обломки досок и другие предметы, которые можно было пустить в дело.
Попытка прискакавшего отряда жандармерии взять тюрьму приступом встретила решительное сопротивление восставших.
Ершов один из первых отражал нападение. Потеряв несколько человек ранеными, жандармы прекратили атаки. У восставших было восемь раненых и двое убитых.
Прибывший в тюрьму начальник уездного жандармского управления и городской голова предложили осажденным сообщить условия прекращения бунта и выслать для переговоров своего представителя.
Встреча состоялась на лестничной площадке на виду у обеих сторон. Обозленный событиями в тюрьме и неизбежными неприятностями, начальник жандармерии зверем смотрел на вышедшего на площадку Ершова. Он уже считал, что напрасно согласился на уговоры городского головы и начал переговоры с бунтовщиками.
– Чего хочет эта мразь? – вытянув указательный палец в сторону баррикады, надменно спросил он у Ершова.
Выдержав взгляд противника, Захар Михайлович ответил с достоинством:
– Вы неправильно адресовались, господин жандарм. Мразь не здесь, а там, – указал он на присмиревших жандармов.
– Вы знаете, что это грозит виселицей? – свирепо заорал жандарм.
Ершов сделал несколько шагов вдоль площадки, глаза его потемнели от гнева.
– Нельзя ли прекратить угрозы, господин жандарм? – чеканя слова, медленно спросил Ершов. – Напрасно вы думаете, что нас можно запугать. Имейте в виду, если вы и дальше будете так разговаривать, то я не буду напрасно терять времени, – Правильно! – закричало несколько голосов из-за баррикады. – Возвращайся. Пошел он к черту…
Жандарм сбавил тон:
– Вы вынуждаете меня вторично спрашивать, на каких условиях будут прекращены организованные здесь беспорядки?
– Мы требуем, – поправив висящий на боку тесак, ответил Захар Михайлович, – чтобы сегодня же были освобождены все заключенные, которым в течение двух недель с момента заключения не предъявлено обвинение. Мы категорически протестуем против заочных приговоров и настаиваем на отмене незаконных решений. По тюрьме должно быть отдано распоряжение о постоянном снабжении заключенных книгами и газетами и о разрешении свободных свиданий с родными. Мы настаиваем также на том, чтобы заключенных по-человечески кормили.
Ершов вопросительно посмотрел на товарищей. Оттуда ответили одобрительными возгласами. Тогда, обернувшись к жандарму, он добавил:
– Как видите, мы требуем самое необходимое…
Весть о тюремном восстании в этот же день докатилась до города. На предприятиях начались митинги, объявлялись забастовки.
В железнодорожном депо, несмотря на раннее утро, третий час обсуждался вопрос о помощи восставшим заключенным. Почти каждый вносил свое предложение:
– Письмо надо написать губернатору. Потребовать, чтобы комиссию создали, – предлагал деповцам Федор Луганский. – Пусть разберутся, почему до восстания довели. Да по-мирному, чтобы без крови. Хватит и той, которую уже пролили.
– Разберутся. Держи карман шире! Разбирались волки, почему волы недовольны, многих потом не досчитались, волов-то.
На подмостки поднялся Кузьма Прохорович.
– Нам на себя нужно надеяться, на свои силы. До царя-то далеко, а до бога высоко. Нужны мы им больно! А товарищам нашим в тюрьме, наверное, и есть нечего. Я так думаю: надо на все заводы и в мастерские представителей послать. Общее требование в поддержку тюремным предъявить. Не согласится власть – объявим забастовку.
Через два дня рабочие всех предприятий города прекратили работу. На улицах и около предприятий начались стычки бастующих с полицией.
Опасаясь всеобщего восстания, губернатор вызвал начальника жандармского управления. Остервенело комкая лист бумаги с изложением требований рабочих, он яростно прохрипел:
– Я этим мерзавцам еще отплачу, но сейчас придется согласиться…
При этом он так взглянул на жандарма, что тот затрясся и присел:
– Распустил сукиных детей, унимай теперь…
Глава пятаяЧерез день после переговоров Шапочкин, Маркин, Марья и другие заключенные были выпущены из тюрьмы. Ершова перевели в одиночку. Четыре шага в длину, три – в ширину. Высоко под потолком – небольшое, с железной решеткой окно. Привинченная к стене койка, табурет – вот и вся обстановка нового жилья Захара Михайловича.
И все же Ершов остался доволен. «Железная решетка на окне поставлена с внутренней стороны. Значит, подтянувшись на руках, можно смотреть в окно». По ободранным стенам было видно, что заключенные по мере сил пользовались этой возможностью.
Поднявшись на табурет, Захар Михайлович ухватился за железные прутья, легко подтянулся до половины окна и стал внимательно осматривать окружающую местность.
На переднем плане видна была часть тюремной стены с будкой часового на углу и заросшая побуревшим бурьяном небольшая полоса двора. За тюремной стеной, не дальше двухсот сажен, на крутом пригорке беспорядочно теснились небольшие деревянные домики с ветхими крышами и зачастую заклеенными окнами. За домиками чернела обширная свалка, а дальше начиналась окраина города.
Через несколько минут руки Ершова настолько устали, что он вынужден был опуститься на пол. Отодвинув табурет в невидимый через глазок угол, он снял ботинок, вынул из-под стельки переданную ему Маркиным ножовку и внимательно осмотрел ее.
– Молодец Нестер, – одобрительно прошептал Захар Михайлович, укладывая ножовку обратно в изношенный до дыр ботинок.
В течение нескольких дней Захар Михайлович, ничего не предпринимая, продолжал ожидать появление обещанного Нестером связного. В камеру заходили только надзиратель, старший надзиратель, и раздатчик пищи. Ожидать, что связным окажется один из них, у Ершова не было никаких оснований. Все трое тюремщиков не скрывали своей неприязни к нему, особенно раздатчик. Каждый раз, войдя в сопровождении старшего надзирателя в камеру, он тотчас начинал ругаться:
– Бунтовщик, каторжник, – ворчал он на Ершова, – и за что вас только царь-батюшка хлебом кормит? Был бы я царем – всех бы вас на горькой осине перевешал и дня держать не стал бы. Социалист… проклятый, чтоб тебе ни дна, ни покрышки.
Пропуская ругань мимо ушей, Ершов впивался глазами то в надзирателя, который, не заходя в камеру, стоял у двери, то в раздатчика. Однако, кроме равнодушия, он ничего не мог обнаружить на их лицах.
Могильная тишина действовала на Ершова угнетающе. Всем существом своим рвался он к деятельности, к свободе, к жизни, полной тревог и волнений.
Иногда осаждали воспоминания. Он видел себя шестнадцатилетним юношей… Едва закончив гимназию, он ушел из родного дома, потому что твердо решил навсегда связать свою судьбу с пролетариатом. Первая задача, которую он себе поставил, – приобрести специальность слесаря, чтобы как можно ближе связаться с рабочими. Ершов не ошибся. До тех пор, пока он, изнеженный юнец, со слабыми неумелыми руками, плохо выполнял работу, рабочие смотрели на него свысока. Изнемогая от появившихся на руках гнойных мозолей, работая по четырнадцать часов в сутки, часто не имея куска хлеба, Ершов продолжал настойчиво изучать слесарное дело, и когда он, наконец, овладел этой специальностью, положение его среди рабочих резко изменилось. Теперь даже потомственные мастеровые относились к нему с уважением, считая его своим человеком.
Между тем на предприятии было неспокойно. Задавленные поборами и штрафами, обозленные издевательским отношением со стороны хозяев, рабочие все больше и больше негодовали. Готовясь к борьбе, они создали союз социал-демократов. В числе его членов был и Ершов. Руководил союзом пожилой рабочий, приехавший на завод из Петербурга.
Теперь все свободное время Ершов отдавал революционной работе. Он был пропагандистом, учителем. Выступал в защиту рабочих. Организовал страховую кассу, налаживал связь социал-демократических групп.
Вскоре, однако, все оборвалось. В очередную получку с рабочих механического цеха по распоряжению приехавшего на завод хозяина были удержаны штрафы, достигшие пятидесяти процентов их месячного заработка. Штрафы были начислены за разные мелкие производственные неполадки, зачастую совершенно не зависящие от рабочих.
Выведенные из терпения люди толпой направились к хозяйскому особняку. Заводчик был дома, но выйти к пришедшим отказался.
– Я не делегат, чтобы ходить к ним с отчетами, – заявил он управляющему, доложившему о приходе рабочих механического цеха. – Скажите им, что здесь нет другого хозяина, кроме меня. Значит, как я скажу, так и будет.
Передавая рабочим ответ хозяина, управляющий добавил:
– Сами виноваты. Работайте лучше, тогда и штрафов не будет.
– Неправду говоришь, никакой вины за нами нет, – пытались возражать металлисты. – Ни за что штраф удержали. Это произвол. Мы требовать будем!..
– Требовать? – не скрывая иронии, переспросил управляющий. – А кто же дал вам право требовать? Это дело полюбовное, хотите работать – работайте, не хотите – уходите. Но требовать вы ничего не можете.
В этот же день рабочие механического цеха по предложению Ершова объявили забастовку. Решив сломить сопротивление рабочих, хозяин приказал немедленно уволить всех забастовщиков и выселить их из заводских бараков.
В ответ на произвол хозяина, по совету социал-демократического союза, на следующий день к забастовщикам присоединилось большинство рабочих завода.
Но и хозяин не дремал. Из города нагрянула полиция. В одну ночь были арестованы почти все члены союза и многие рабочие механического цеха.
Нашлись и предатели. На другой день после арестов они собрали рабочих и стали уговаривать их прекратить забастовку. От имени хозяина выступил управляющий. Охарактеризовав рабочих механического цеха как пьяниц и бракоделов, он настаивал на прекращении забастовки, в противном же случае грозил увольнением.
Тогда из толпы вышел Ершов. Не задумываясь о последствиях, он уверенно, как на свое рабочее место, взошел на крыльцо…
– А ну! Посторонись, – отодвинул он плечом управляющего и пристальным взглядом обвел стоявших плотной стеной рабочих. Он видел: на него с надеждой смотрели сотни знакомых ему глаз.
– Товарищи! – как только мог спокойно произнес Ершов. – Вы знаете меня лучше, чем этот враль, – показывая через плечо на вздрогнувшего управляющего, сказал он презрительно. – Скажите, кто из вас может подтвердить, что я пьяница? Кто из вас может сказать, что я плохо или недобросовестно работаю? А ведь за то, что я из-за отсутствия света не мог выполнить заказ, с меня удержали почти половину месячного заработка.
Рабочие возбужденно задвигались, закричали:
– Знаем! Всех так обирают!
– Грабители! Всю кровь высасывают!
– Сами подлецы, а нас с работы долой, в тюрьмы сажают!
Ершов хотел уже сойти с крыльца, но управляющий схватил его за ворот.
– Я – враль? – брызгая слюной, хрипел он и замахнулся на Ершова кулаком, но тот ловко вывернулся, схватил противника и сбросил с крыльца.
На Ершова бросились полицейские, но в схватку вступили рабочие. Воспользовавшись сутолокой, Ершов смешался с толпой, свернул за угол и через несколько минут был в безопасном месте.
Оставаться на заводе было уже невозможно.
С этих пор и начались его скитания по Уралу и Сибири. Он стал профессиональным революционером.
Вначале ему было трудно. Не было опыта. Люди, с которыми приходилось жить и работать, были отсталыми, неграмотными. Но он не унывал.
На чугунолитейном заводе, где Ершов решил остановиться, ему с большим трудом удалось устроиться в котельную чернорабочим.
Сначала кочегары смотрели на новичка, как на случайного человека, который заботится только о собственном пропитании – не больше.
Но это продолжалось недолго.
Еще до прихода Ершова в котельную один из кочегаров упал с лестницы и сломал руку. Семья осталась без кормильца. Два мальчика и девочка вместе с отцом каждое утро приходили к котельной и оставались здесь до обеда. Кочегар с виноватым видом, кашляя и вздыхая, садился около дверей на камень, а дети копались в мусоре. Сюда же иногда заглядывала высокая, со скорбным лицом, опухшая от голода женщина.
Узнав, в чем дело, Ершов предложил кочегарам вместо отдельных кусочков, которые те давали ребятишкам, кормить семью.
Теперь каждый, не дожидаясь напоминания, ежедневно откладывал часть своей еды для попавшего в беду собрата. Они видели, что эта небольшая помощь спасала больного и его семью от голода.
Но Ершов видел в этом деле еще и другое: возможность сплотить рабочих. Поэтому он решил пойти дальше и в первую же получку вместе с хлебом положил на тряпицу часть своего заработка.
– Уж помогать, так помогать, – сказал он, рубанув по направлению тряпицы ребром ладони. – Чтобы товарищ почувствовал по-настоящему. А то ведь семья-то все еще голодает.
Но к этому поступку Ершова кочегары отнеслись неодобрительно.
– Ишь, богач какой нашелся! – проворчал один из кочегаров.
– Помощи оказать я тоже не супротив, да работать на дядю – дураков нету, – подхватил другой кочегар.
– У него дети, ну и у меня – тоже не кутята. Их кто кормить будет? – спрашивал третий.
Ершов сначала молча слушал, потом сказал:
– Ежели мы друг другу помогать не будем, все подохнем. Сегодня у одного беда на дворе, завтра у другого.
Нам никто не поможет, если мы сами себе не поможем. Над этим нужно серьезно подумать, нечего горячиться.
На следующий день к котельной пришли только дети. Отца с ними не было. Ершов заметил, что рабочие о чем-то шепчутся, поглядывая в его сторону.
Наконец один из кочегаров зло и ехидно сказал:
– Тебе в кабак бы сбегать. Добавь, может, ему не хватит… Эх! Помогатели…
– Утро еще, – плюнув, выругался другой, – а он в стельку… Я, говорит, пораненный только, но у меня башка-то на месте. Мне дали и еще дадут, потому я – протарьят. Имею полное право на помощь.
– По морде сукину сыну надавать – знал бы, как деньги пропивать.
Насмешки и озлобленность товарищей заставили Ершова призадуматься.
Через неделю рука кочегара зажила, и он начал работать.
Стыдясь своего поступка, он старался не смотреть людям в глаза. Когда Ершов снова предложил ему денег, чтобы продержаться до получки, кочегар взять их категорически отказался. В конце концов Ершов с трудом уговорил его взять их взаймы. Он взял и быстро ушел, сгорбившись, втянув голову в плечи.
После первой же получки он принес Ершову половину денег.
– Получи. Остальные в следующую получку отдам, – не глядя на Ершова, говорил кочегар. – Век тебя не забуду, и дети тебя помнить будут. Спаситель наш.
– Эх, бить бы тебя палкой, да, видно, некому, – сказал стоявший рядом кочегар.
– Герой какой, – огрызнулся кочегар. – Жена с голоду умирала, дети тоже, ты что думаешь, шутка это? С горя ж… – потом добавил смущенно: – А за помощь спасибо, иначе бы подох… хорошо бы такую поддержку всем, на кого беда свалится, только женам в руки, в кабак, чтоб не того…
Кочегары заговорили одновременно:
– Так-то оно, конечно, правильно, но вот как это сделать?..
– В трудную минуту очень помощь нужна…
– С миру по нитке – голому кафтан, известно…
Они долго шептались, потом один– за другим стали благодарить Ершова.
Так Захар Михайлович стал известным многим рабочим. К нему приходили за советом и просто, чтобы познакомиться. Когда знакомых стало уже несколько десятков человек, Ершов при помощи своих кочегаров созвал собрание.
Разговор начался с того, как трудно живется рабочему человеку.
– Неграмотные мы, да еще каждый сам по себе, вот в чем беда, – говорил Ершов собравшимся, – ну и душат нас хозяева поодиночке, жмут… а мы молчим. Так-то вот все и идет.
– Может, и оттого, что неграмотны, – робко сказал один из рабочих, – кто его знает. – Да нет, мотри, вряд. Скорее от тихости нашей.
– А тихость отчего? Тоже от необразованности. Скажет хозяин или управляющий, а мы ответить не знаем чего, соглашаемся или молчим.
– Да оно, пожалуй, так… серость наша. Говорят, вон у суседей союз какой-то создали, там будто бы и разбираются, что к чему.
В конце собрания по предложению Ершова было решено создать на заводе марксистский кружок. Кружок был организован немедленно и охватил большое количество рабочих.
Через месяц Ершов был вынужден покинуть завод, но он был твердо уверен, что посеянные им ростки не заглохнут, будут расти и крепнуть день ото дня.
На новом заводе, куда занесла Ершова судьба, вскоре стал он известен среди рабочих как человек прямой, не склоняющий головы перед хозяевами. А когда Ершов вступился за рабочего, о нем заговорил весь завод. Разъяренный мастер, точивший уже несколько дней зубы на Ершова, набросился на него с кулаками:
– Эх ты, сволочь! Ты кто такой? – напирал он на Ершова. – Я тебе всю башку расколочу, мерзавцу.
Увернувшись от удара, Ершов подставил противнику ногу, и тот, потеряв равновесие, полетел в угол.
– Будешь знать, холуй хозяйский, как на человека руку поднимать, – пригрозил Ершов. Потом вместе с другими рабочими связал мастеру руки и выбросил из цеха.
Вечером к Ершову подошел рабочий, за которого он вступился:
– Тебе теперь на видах оставаться Нельзя. Сегодня же сцапают. Идем ко мне, я тебя на чердаке или в бане спрячу.
Высокий усатый кузнец прервал его:
– Нет, к тебе ему никак не сподручно, Ко мне пойдет, у меня и жить пока будет. Если надо, вечером можешь прийти, повидаться.
Вечером на квартиру к кузнецу собрались рабочие. Они обсуждали утреннюю потасовку, удивлялись смелости Ершова, смеялись. Потом разговор перешел на более серьезные вопросы.
Долго прожить здесь Ершову не довелось, пришлось покинуть и этот завод. И вот так, несмотря на постоянное преследование, часто без куска хлеба, ночуя под открытым небом, он настойчиво продолжал вести революционную агитацию среди промышленных рабочих.
В течение нескольких лет скитаний по городам и заводам Ершов создал десятки социал-демократических кружков, групп и союзов. Теперь его знали тысячи рабочих на предприятиях Поволжья, Урала и Сибири.
В Сибири, в селе Шушенском, Ершов встретился с Лениным.
Владимир Ильич долго расспрашивал Ершова о положении на уральских заводах, о настроениях рабочих и о работе созданных Ершовым кружков. Он особенно интересовался литературой и материалами, которыми пользуются революционные рабочие.
В беседе с Захаром Михайловичем. Ленин не только расспрашивал его, но и сам говорил о многом: о том, что нужно сейчас делать революционерам, о чем говорить с рабочими, на какой основе строить пропаганду. Особенно запомнились слова Ленина, когда он заговорил о времени грядущей схватки с капитализмом.
– Теперь уже совсем недалеко то время, Захар Михайлович, когда в России грянет буря. Да, да, – поблескивая глазами, продолжал Ленин. – Настоящая буря. Вспомните, мой друг, пророческие слова бесстрашного революционера Алексеева… Как он сказал?..
На несколько секунд Владимир Ильич задумался и произнес уверенно:
«Подымется мускулистая рука рабочего люда, и ярмо деспотизма рассыплется в прах!» Нас миллионы, Захар Михайлович. Мы владеем самой передовой марксистской наукой. Мы знаем законы развития общества… Значит, у нас есть все для победы. Правда трудового народа возьмет верх.
Ершов рассказал Владимиру Ильичу, как трудно вести подпольную революционную работу при отсутствии организующего марксистского центра, как трудно приобретать и доставлять на заводы и шахты революционную литературу.
Владимир Ильич сделал в записной книжке несколько заметок. Откинув голову и пристально глядя в окно, сказал:
– Да, знаю, что это важнейший вопрос. Мы создадим такой организующий центр. Создадим…
Несколько позже Ершов записал для памяти весь этот разговор. Он не мог бы поручиться, что каждая фраза была им записана слово в слово. Однако самое главное запало в его душу: глубочайшая убежденность Ленина в победе рабочего класса России.
Прошло несколько дней, и случилось то, чего с таким нетерпением ждал Ершов. При очередной раздаче пищи, когда старший надзиратель почему-то задержался в коридоре, раздатчик быстро вошел в камеру и, разливая щи, тихо шепнул:
– Следи по вечерам за домиком с двумя голубятнями.
Понял? – Ершов утвердительно кивнул головой; раздатчик улыбнулся доброй, располагающей улыбкой, потом выражение его лица мгновенно изменилось, и он стал на чем свет ругать заключенного обжорой, дармоедом и каторжником.
Домик с двумя голубятнями хорошо был виден из окошка. Он стоял около свалки; через примыкавшие к нему ворота на углу высился небольшой деревянный навес, а под окном виднелся крошечный палисадник.
Подтянувшись на руках, Ершов подолгу, не отрываясь, смотрел на домик. Но никаких признаков жизни там видно не было. Только под вечер к домику подошел маленький мальчик. Осмотревшись, он перелез через заборчик палисадника и скрылся в кустарнике.
Устав, Ершов отошел от окна и не увидел, как вернулся с работы железнодорожник. Когда он снова подтянулся на прутьях, мальчик уЖе стоял на навесе и, то задирая свою вихрастую голову, то опуская ее, энергично размахивал руками.
Присмотревшись к движениям мальчика, Ершов с трудом подавил радостный крик: мальчик передавал телеграмму по шифру, который Ершов сам разработал и до сих пор хорошо помнил.
«Наблюдайте за нами каждый вечер в это время», – не переставая передавал маленький телеграфист.
Когда мальчик закончил передачу, а в голубятню вернулось несколько десятков голубей, Ершов понял, что именно здесь Нестер организовал пункт связи.
На следующий день с воли передали:
«Торопитесь очищать дорогу, не исключена возможность оказаться в кандалах».
С величайшей осторожностью начал Ершов пилить по ночам оконную решетку. Подтянувшись одной рукой к окну и держа в другой тонкую, впивавшуюся в пальцы ножовку, он работал до тех пор, пока не темнело в глазах и одеревеневшие руки не отказывались его держать.
После трех ночей упорной работы он перепилил два конца из двенадцати и за это время так исхудал, будто целый месяц пролежал в постели.
Почти каждый вечер маленький телеграфист передавал ему новые сведения. Ершов знал, какие он должен делать знаки и как отвечать на ругань раздатчика, чтобы информировать связной пункт о ходе работы. Ему сообщали о нарастании революционных событий, о забастовках и демонстрациях, просили торопиться.
Ершов изнемогал от непосильного напряжения. Опухшими пальцами держал он жгучую, как огонь, ножовку и, стиснув от боли зубы, целыми ночами пилил прутья решетки. Ослабевшие руки отказывались держать подтянутое к окну исхудавшее тело больше двух минут.
Теперь работа шла много медленнее, чем вначале, часто появлялись головокружения. Почти в полубреду трясущимися руками с наступлением ночи он снова и снова хватался за ножовку и нечеловеческой силой воли заставлял себя снова и снова подниматься к окну.
Оставалось перепилить еще четыре самых трудных конца, когда с воли предупредили, что истекают последние часы.
И Ершов поднимался, подтягивался и пилил, пилил…
Через несколько дней, вскоре после обеда, в двери повернулся ключ. В камеру вошел старший надзиратель, в руках у него были кандалы. С ним было три помощника.
Тюремщики, по-видимому, считали, что заключенный будет сопротивляться, но Ершов сел на табурет, закрыл глаза и не сделал ни одного движения, пока на него надевали кандалы и брили одну половину головы.
– Это только ножные. Придет время, и на руки такие же ожерельица наденем, – предупредил надзиратель. – Все, что положено каторжнику, получишь сполна.
Теперь работать стало еще труднее. Кандалы гремели при каждом движении. Остаток дня и всю ночь Ершов, не двигаясь, пролежал на койке. Мучительное чувство беспомощности и упорное желание добиться свободы боролись в нем. Он щупал исхудавшие руки, когда-то упругие мышцы. Ему казалось, что он не сможет больше подняться с койки. Но на следующую ночь он снова повис у окна.
И еще пять ночей продолжал он с неимоверной болью в руках и во всем теле подтягиваться к окну. Один за другим поддавались железные прутья лихорадочным движениям его дрожащих рук, и вот, наконец, работа подошла к концу. Оставался последний прут и кандалы.
Пришедшим в этот день надзирателю и раздатчику Ершов заявил, что в среду объявляет голодовку в знак протеста против плохой пищи. Это должно было означать, что Ершов закончил подготовку к побегу.
На следующий день, прежде чем налить в чашку жидкой бурды, раздатчик опустил на дно что-то на миг блеснувшее в его руках. Когда он скрылся за дверью, Ершов вынул из чашки небольшую ампулу. В ней оказалось зернышко алмаза, кусочек клея и небольшая записка.
«Бежать во второй половине ночи, со вторника на среду, – ; сообщалось в записке, – следите за связным пунктом. Когда синий свет фонаря сменится красным – бегите. Справа от окна – водосточная труба. Спустившись на землю, идите под стеной, влево мимо окон, пятое окно будет открыто. Спускайтесь осторожно, там полуподвал, высота семь аршин. Пересекайте помещение прямо от окна. Небольшая лестница выведет в коридор. Там вас будут ожидать».
Во вторник, после вечерней проверки, Ершов снова принялся за работу. Вот уже сняты кандалы. Одеяла и наволочка тюфяка превращены в жгут. На нем он спустится до первого этажа, а там, если не удастся перебраться на водосточную трубу, можно будет спрыгнуть. Еще через несколько минут вырезано и при помощи клея вынуто стекло. Наконец узник на подоконнике. Безудержно стучит сердце.
Но на связном пункте темно. На небе ни одной звезды. Ершов слышит, как внизу кто-то идет. В голову лезут всевозможные сомнения. «Не ошибка ли? Нет, – решительно отгоняет он эту бросающую в жар мысль, – в записке сказано ясно, со вторника на среду. В чем же дело? Провал?» Но кругом так тихо. Ершов прислушивается. Снова слышатся шаги человека. Его не видно, но Захар Михайлович ясно представляет идущего внизу часового с винтовкой на плече. «Сколько же ему требуется времени, чтобы обойти вокруг тюрьмы? – спрашивает себя Ершов. – Наверное, не больше трех-четырех минут. Значит, он должен спуститься на землю и скрыться в окно за две минуты. А сигнала все еще нет». Ершов смотрит на звезды. Время давно перевалило за полночь. Скоро начнется рассвет. Его начинает знобить. Вздрагивая, он устало закрывает глаза. Озноб усиливается, а по щекам одна за другой ползут горячие капельки. Неужели все, что было сделано, окажется напрасным и ему не миновать каторги? А ведь всего несколько часов назад он был уверен, что скоро вновь возьмется за революционную работу. Тяжело вздыхая, узник открывает глаза и переводит взгляд на маленький домик.
Мгновенная радость охватывает его. Теперь он ясно видит синий огонек. Он мигает, немного качается, но виден так ясно, так хорошо, что, кажется, стоит только протянуть руку и коснешься его. Опять возбужденно стучит сердце. От радостного чувства хочется кричать и смеяться.
Слева – там, где должны быть тюремные ворота, слышится громкий разговор. Кто-то ругает лошадь. Стучат колеса. Потом все стихает. Проходит около часа. На востоке появляется белая полоса. Солнцу нет дела до людских радостей и разочарований. Ему совершенно безразлично, что синий огонек, к которому прикован сейчас взор Ершова, все еще не сменился красным. Оно непоколебимо движется по однажды установленному пути и вот уже готово залить вселенную своим сиянием, таким ненужным сейчас, таким смертоносным для узника…
Оторвавшись от белой полоски, Ершов снова смотрит туда, где только что горел огонек. Но его уже нет. Проходит минута, другая. Что это? Поднялось и, остановившись, закачалось небольшое красное пятнышко. Вот оно, близкое освобождение. Как оно манит. Как притягивает к себе. Ершов привязывает к койке жгут и прислушивается. Вот из-за угла вышел часовой. Вот он проходит под окном. На этот раз шаги слышатся бесконечно долго. Наконец они стихают. Легко перевалившись через подоконник, Ершов осторожно спускается, затем, слегка раскачавшись, без труда перебирается на водосточную трубу.
Вот и окна. Одно, второе, третье, четвертое… Пятое действительно приоткрытое. Ухватившись за низ рамы, Ершов спускается в подвал. Нащупав в темноте лестницу, поднимается наверх и сразу же натыкается на людей. Их двое, и они, как видно, его ждали. Один быстро подошел к Ершову, взял его за руку и, не говоря ни слова, повел за собой. Недалеко оказались три лошади с бочками. Подойдя к средней, ассенизатор отбросил крышку, чуть слышно прошептал:
– Чистая. Вода тоже свежая. Не бойся, лезь.
Крышка закрылась, Ершов услышал, как бочку чем-то сверху облили, потом поехали.
– Фу! Черт, дышать нечем, – послышался сиплый голос в то время, когда они, по-видимому, проезжали ворота. – Давай поскорей.
– Что же делать, у нас служба такая, – ответил кто-то из ассенизаторов. – Остановить, что ли? Смотреть, поди, будешь?
– Ежжай! Ежжай, ну тебя к чертовой матери.
Ершов сидел в бочке по пояс в воде. Колыхаясь, она окачивала его до головы. Было холодно. Но это продолжалось недолго. Через несколько минут повозка съехала с дороги, покатилась по мягкому грунту и вскоре остановилась.
Один за другим жали в темноте руку Ершова Шапочкин, Маркин, Нестер. Его провели в домик с маленьким палисадником, переодели, а через час, когда из-за леса выкатилось солнце, и в тюрьме поднялся переполох, Ершов вместе с Шапочкиным уже пробирались сосновым бором; все дальше и дальше от мечущихся по городу жандармов и полицейских сыщиков.
Прибывшему в тюрьму начальству показывали найденную около тюремной стены веревочную лестницу, нарочно подброшенную туда Нестером, чтобы сбить с толку тюремщиков. Жандармы допрашивали ассенизаторов, но те делали удивленные лица, качали головами и сердито заявляли, что у них есть свое дело и им некогда работать за тюремных бездельников.