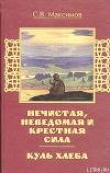Текст книги "Чужаки"
Автор книги: Никита Павлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 44 страниц)
Никита Павлов
Чужаки
Роман
Книга первая
Глава перваяОбуви у Алеши так же, как и у многих его сверстников, не было, но как усидишь, когда в окно заглядывает весеннее солнце, а веселая ватага товарищей уже пускает по ручьям наспех сделанные «кораблики», устраивает водяные мельницы. Босоногая команда с криком и гиканьем бегала по улице, перепрыгивая с доски на доску. Увлеченный игрой, Алеша не заметил торчавшего в бревне гвоздя и со всего разбега напоролся на него. Прикусив от боли губу, он отдернул ногу и прямо по воде, по снегу и грязи, оставляя кровавый след, побежал домой. В избу он не зашел, а залез под крыльцо, забился там в угол, крепко зажал рукой рану и так просидел до самого вечера. Только когда стемнело, он осторожно пробрался в избу, лег на печь и, не ужиная, уснул.
На следующий день Алеша не пошел на улицу. Бабушка с тревогой щупала его лоб.
– Жар, ровно огонь…
А еще через два дня подняла утром рубашонку, подозвала мать и показала пальцем на живот.
– Корь.
Мать, ничего не сказала, заплакала и принялась устраивать сыну постель.
Началась борьба со смертью.
Собравшиеся знахарки долго решали вопрос: отчего у больного пухнет нога? Маиха приписывала это неисповедимым путям господа бога. Журавлиха доказывала, что это вывих, и бралась немедленно его выправить. Тетка Аксинья советовала подождать и посмотреть, что будет дальше.
Когда бабушка Елена начала прислушиваться к советам тетки Аксиньи, почти соглашаясь с нею, Журавлиха взбунтовалась, наговорила ей грубостей и, громко хлопнув дверью, ушла.
Так прошло еще несколько дней. Алеша стонал и плакал. Ему казалось, что в его ноге сидит кто-то маленький и сверлит ногу, как дедушка дырки для чекушек. Когда боль становилась совсем нестерпимой, он кричал и просил, чтобы убрали сверло.
Слушая непонятные слова, встревоженная бабушка испуганно шептала:
– Господи, что же это такое, как будто в уме, и вроде рехнулся…
Тетка Аксинья, посмотрев ногу, покачала головой и, стараясь не смотреть на больного, прошептала: – Еленушка, как бы Антонов огонь не был.
На следующий день мать взяла у тетки Аксиньи лошадь и к полудню привезла из больницы фельдшера – Анкудина Анкудиновича Белькейкина.
Высокий, грузный, с клочьями растрепанных бровей, нависших над остекленелыми глазами, с острыми скулами, большим, покривившимся в правую сторону носом, Анкудин Анкудинович пугал своим видом не только детей, но и взрослых.
Когда телега подъехала к дому, бабушка заметалась по комнате, схватила табуретку и то в одно место ее поставит, то в другое, а потом подбежала к венику, стоявшему в углу, и, сама не зная зачем, закинула его на печь. Пятясь К лапке, она шептала:
– Господи Иисусе, шутка-ли – сам! Что-то будет? Господи!
Открывая дверь, мать с низким поклоном приглашала:
– Милости просим, проходи-ка, Акундин Ку-ку…мдиныч.
– Не болтай! – грубо оборвал мать рассердившийся вдруг фельдшер. – Анкудин Анкудинович, проще простого.
– А я-то и говорю, – с трепетом в голосе сказала бабушка, низко поклонившись, – чего же тут мудрить… А…а…Анкудин А…ман…манкинович.
– Тьфу. Одна другой дурней, и говорить с вами тошно, – еще больше рассердился эскулап и, махнув рукой, шагнул к Алеше. – Ну, где тут больной? Покажите…
Алеша застонал.
– Чего орешь? – громовым голосом закричал фельдшер. – Покажи-ка язык.
– Батюшка, у него нога болит, вот глянь сюда, – испугалась бабушка.
– Знаю, без тебя знаю, что нога. Но все равно, главное– язык, – Белькейкин сердито покосился на ногу, – так, так. Неизвестный абсцесс, гм… отнять вот здесь, – чиркнув пальцем ниже колена, неожиданно для себя и для присутствующих заключил он.
– Да что ты, батюшка, такое говоришь, как же ребенок без ноги-то?! Господи! – взмолилась бабушка.
– А вот так и будет, – угрожающе прикрикнул Белькейкин, – иначе совсем плохо, крышка, понимаешь?
К Алеше вплотную пододвинулась мать, ее испуг прошел, глаза загорелись решимостью:
– Не дам!
– Это как же «не дам»?.. А если медицина считает…
– А так и не дам. Мой он! – резко ответила Марья.
– Ишь ты, темнота беспросветная! Да как ты смеешь мне перечить?! – закричал Белькейкин так громко, что жилы, словно веревки, проступили на его длинной и тонкой шее. – Сейчас напишу сопроводительную, и повезешь немедленно мальчишку в больницу; ногу нужно резать. Понимаешь? Резать!..
При слове «резать» мать вся затряслась и полными страха и ненависти глазами впилась в широкий лоб фельдшера. Несколько минут назад она еще смотрела на этого человека, как на спасителя, а сейчас готова была вцепиться ему в горло.
– Не дам, сказала – не дам! И все… А до вашей бумажки мне дела нет! Хоть сто пишите, а к ребенку никого не подпущу, – и она с решительным видом встала между Алешей и фельдшером.
Такого отпора Анкудин Анкудинович, очевидно, не ожидал. Это привело его в замешательство. Он растерянно посмотрел сначала на пол, потом на потолок и строго произнес:
– Эх, слепота! Невежество! Мужичье неотесанное. Что с вами и говорить? – И, не попрощавшись, решительно направился к двери. Но теперь ни матери, ни бабушке, и даже Алеше он не казался таким страшным, как несколько минут назад.
– Слава те, господи, ушел антихрист-то! Царица небесная, матерь божья, заступись за младенца! – горячо молилась бабушка, стоя перед иконами на коленях.
Марья глубоко вздохнула, как будто она сбросила с плеч тяжелую ношу. Сама удивлялась своей смелости. Такое с ней случилось первый раз в жизни. Пойти наперекор такому человеку, которого побаивалась вся волость, мог не каждый, а она пошла, не испугалась. Довольная своим поступком, Марья подошла к постели и, поправляя подушку, сказала:
– Спи, Алеша. Больше я его на пять сажен к тебе не подпущу. Ишь, идол, что надумал. Пусть лучше кривой нос себе отрежет.
Но Алеше было так худо, что, казалось, он и не слышал материнских слов.
Прошло еще несколько дней, и на верхней части ступни появилось большое белое пятно.
Осмотрев нарыв, бабушка облегченно вздохнула. Она напарила льняного семени и привязала его к больной ноге.
После многих бессонных ночей Алеша впервые спал спокойно, а когда проснулся, долго не мог понять, что же случилось? Боли в ноге почти не было, по всему телу разливалась приятная теплынь. Наполненная лучами утреннего солнца, изба казалась совсем не такой мрачной, какой была обычно. Теперь все выглядело светлым и радостным. У печи хлопотала бабушка, она пекла хлеб и заваривала любимое Алешино блюдо – сладкое сусло.
Не веря, что в ноге уже нет нестерпимой сверлящей боли, Алеша тихонько переложил ее на другое место. Больно, однако совсем не так, как прежде.
Недалеко от постели, купаясь в солнечных лучах, на лавке весело мурлыкал Франтик. Отношения Алеши и Франтика за последнее время стали особенно дружескими. Напившись молока и отлежавшись на горячей печи, Франтик спрыгивал на пол и, потягиваясь, мягко шел к Алеше, осторожно залезал под шубу, теплым клубком прижимался к животу больного и заводил одному ему известную песенку. Слушая эту песенку и ощущая у тела теплый живой комок, Алеша успокаивался и засыпал.
Пришло время – и Алеша поднялся с постели, в первый раз ступил на пальцы больной ноги и несмело шагнул к лавке. На лице бабушки мелькнула улыбка. Он подошел к старушке, уткнулся лицом в ее сарафан и заплакал. Заплакала от радости и бабушка. Теперь Алеше не будут резать ногу; он станет здоровым и будет таким же работником, как другие.
Однако радость оказалась преждевременной. Нога продолжала болеть, появившаяся на верхней части ступни большая рана не заживала.
Исцелить Алешу взялась Журавлиха. Осмотрев ногу, она долго гримасничала, произносила непонятные слова, упоминала какой-то Буян-остров, потом напускалась то с угрозами, то с уговорами на домового и наконец многозначительно произнесла:
– Сразу видно, матушка Елена, отчего болезнь-то. С сглазу! Да, да с сглазу…
Журавлиха сделала непроницаемое лицо и, склонив голову набок, торжествующе посмотрела на присутствующих.
– Да что ты, Нефедовна? – испугалась Елена. – Кто же это мог его сглазить-то?
– Известно кто, чтоб ему, окаянному, сквозь землю провалиться, – затараторила Журавлиха. – Да ладно, мы ведь тоже не лыком шиты, перехитрим и его. Вот наговорю я, матушка, на угольке водичку, и кончено; помоешь ею несколько раз ногу – все как рукой снимет.
– Сделай милость, Нефедовна, помоги Алешеньке, а я уж в долгу не останусь.
– Что ты, что ты, матушка! Да ты не сумлевайся, – успокаивала Журавлиха. – Я всю душу вложу, а ему, ироду проклятому, непременно сделаю пусто. Пусть окаянный мне мутить будет, пусть как хочет стращает, а я все равно наговорю, да и не только водичку, а еще и холст!
Вооружившись длинной ниткой, Журавлиха смерила Алешин рост, бросила нитку в задний угол, помахала во все стороны руками и скороговоркой Произнесла:
– Домовой, домовой, на тебя уповаю, к тебе, дружок, прибегаю, играй, веселись, на нас не сердись. Тьфу, тьфу, чтобы твоим врагам ни дна, ни покрышки, а нашему больному ясным соколом летать. Сегодня, Еленушка, – повелительно добавила вслед за этим Журавлиха, – нитку не бери, пусть хозяин с ней балуется, а завтра отмерь два раза по четыре нитки выбеленного холста и пришли мне для наговора.
Смутно догадываясь, что ее обманывают, бабушка весь этот вечер громче обыкновенного вздыхала, часто подходила к постели и гладила Алешины волосы, крестилась, но потом тихонько, как бы украдкой от самой себя, снесла Журавлихе двенадцать аршин холста.
После длительного лечения, ничего не давшего, Журавлиха в один из своих визитов подозвала к себе бабушку и мать и таинственно объявила:
– Посмотрите-ка, родимые, а я то думаю, думаю: с чего бы так? Не заживает! А ведь у него, родимые мои, болезнь-то какая: волосатики!
От этих страшных, никому не понятных слов мать затрепетала и как-то сразу стала меньше. Долго немигающим взглядом смотрела она на Журавлиху, потом тихо повернулась и, шатаясь, пошла к лавке.
– Да как же так, Нефедовна? Ты же говорила нам, что сглаз, а теперь волосатики?.. – изменившись в лице, с тоской спросила бабушка.
– Ах, матушка, матушка, – качая головой, с упреком ответила Журавлиха, – а сейчас-то я что говорю: с сглазу, и есть с сглазу! Да он, ирод, как сглазил-то, не просто ведь, а па полосатики!..
Поджав губы, Журавлиха закрыла глаза, – повертела указательными пальцами один около другого и начала разводить и сближать руки.
– На холст! – выкрикнула она, едва заметно приоткрывая правый глаз. – Пальцы прошли мимо… – На хлеб! – пальцы снова прошли мимо. – На масло! – Пальцы сошлись. – На муку! – Пальцы снова сошлись. – На горох! – И опять пальцы сошлись.
– Вот, милые, теперь-то уже как есть все понятно. Все, все до крошечки. А я-то думала, думала… Ах ты, антихрист, чтоб тебя нелегкая заломала… Ну, погоди же, – погрозила она кому-то большим костлявым кулаком и тут же добавила: – Завтра, Еленушка, принеси-ка мне ведро муки, решето гороха и чашку масла. Да ты не сумлевайся, милая; сама видишь, не для себя прошу, а для наговора.
Кроме прямых взяток. Журавлиха ежедневно приходила попить чайку. Ее угощали, как дорогую гостью, и, прощаясь, совали в карманы пестрой жакетки последний кусочек сахара.
Прошло еще три недели, а рана не заживала, нога болела по-прежнему.
Журавлиха, казалось, была вне себя. В один из «визитов», после долгого кривлянья с повизгиваниями и подвываниями, она упала в «обморок» и с пеною у рта стала кататься по полу. А когда пришла в «чувство», под строгим секретом объявила:
– Вот сейчас, милые, когда я до корня разгадала эту болезнь и узнала, как ее нужно лечить, нечистый так раскуражился, так рассердился, что чуть не замучил меня до смерти.
Теперь ей понадобились живая курица, яйца, картошка и для отвода глаз – ладанка.
Так продолжалось «лечение», пока с сезонных работ не приехал дедушка Иван. Когда ему все рассказали, он гневно взглянул на бабушку, назвал ее простофилей, а появившуюся на пороге Журавлиху выставил вон:
– Опять явилась, вымогательница! Чертова кукла! Убирайся, пока я тебе ребра не поломал!..
– Вот как! – завизжала Журавлиха. – Я вымогательщица? Я чертова кукла? Да знаешь ли ты, балда горелая, что я собственную душеньку черту закладываю чтобы твоего внука на ноги поставить, а ты вместо спасибо еще меня и лаешь? Ну, погоди!
Это окончательно вывело дедушку из себя; он поднял здоровенный кулачище – и тут Журавлиху как ветром сдуло.
– Чтоб вам ни дна, ни покрышки, тартарары! – уже за дверью кричала она. Увидев бабушку, Журавлиха плюнула и запустила в нее ладанкой.
– На, старая карга!..
– Да что ты, Нефедовна, при чем же тут я-то?
– А при том, матушка, – злобно выкрикнула Журавлиха, – коли ты век прожила с таким медведем, неучем, значит, ты дура. И внучек твой, хромоногий, тоже дурак. Дай б, ог, чтобы нога у него поскорее отгнила и отвалилась!
Тут она снова плюнула и, продолжая выкрикивать ругательства, быстро пошла за ворота.
Началось лечение ноги припарками, травами. Рану несколько раз затягивало, но она снова вскрывалась и начинала гноиться.
Когда закончили уборку хлеба, дедушка посадил Алешу с матерью на телегу и повез в город, в больницу.
Глава втораяАлеша никогда не выезжал из родного села. Все, что он Сейчас видел, возбуждало в нем бурное любопытство. За день они пересекли несколько речек, проехали по захудалым башкирским деревням, с растрепанными соломенными крышами на ветхих, покосившихся избах, с пасущимися у околиц кобылицами, со стаями поджарых, голодных собак и с голыми чумазыми ребятишками на улицах. В деревнях, на земляных завалинках и на лужайках, поджав ноги калачиком, сидели башкиры. Многие из них знали старика Карпова.
– Здравствуй! Здравствуй, Иван, – приветствовали они дедушку, многократно кланяясь.
– Здравствуйте, люди добрые! – приветливо отвечал дедушка, размахивая кнутом, чтобы отбиться от наседавших собак. Но те еще яростнее лаяли, бросаясь па лошадь.
В одной деревне телегу окружила шумная группа башкир. Среди них оказался знакомый дедушки – Хайбулла. С большой сердечностью он радостно повторил знакомое приветствие:
– Здравствуй, Иван!
– Здравствуй, здравствуй! – ответил дедушка.
– Может, земля охота купить? – спросил Хайбулла. – Айда, моя много земля есть. Задатка давай.
– Да нет, какая там земля, – махнул рукой дедушка.
– Тогда моя покос бери, – предложил только что подошедший щупленький старичок.
– Нет. Покос мне тоже не надо. Я ведь в город еду. Внучка вот в больницу везу.
– И-и-и, – огорченно протянуло сразу несколько голосов, сожалея, что не удалось продать или перепродать уже проданную землю.
Бренча монистами на маржинах[1]1
Маржин – увешанный серебряными монетами нагрудник.
[Закрыть], с ведрами на плечах, по улице прошла пестрая толпа женщин с закрытыми лицами. Ни одна из них не повернула головы в сторону телеги, ни одна не ответила на приветствие Марьи.
– Ну, прощайте, – дедушка приподнял над головой картуз и дернул вожжами.
– Прощай, прощай, знаком, – кивая головами, разом повторяли башкиры, возвращаясь к насиженным местам – кто на завалинку, кто на лужайку.
Так было и в других деревнях, через которые проезжали Карповы. Везде башкиры встречали их дружелюбными приветствиями и предлагали купить покос или землю.
За околицей одной из деревень Алеша схватил дедушку за локоть.
– Дедя! Гляди! Хвост у собаки какой!
Дедушка посмотрел в сторону, куда указывал мальчик.
– И совсем это не собака, Алеша, а лисонька-кумушка. От волка шкуру спасает. Вон, смотри, серый-то увидел нас – и в сторону.
– Дедь! Дедь! А это кто? – спрашивал через минуту Алеша, показывая на разгуливающих по болоту длинноногих журавлей.
В этот день он впервые увидел зайцев и парящих на большой высоте орлов, грохочущих атабаев и стаи рябчиков и услышал от дедушки и матери десятки названий птицы, и мелких зверьков, которых он до этого не видел.
– Мама! Кого же это они ругают вшивым и бритым? – недоумевал Алеша, вслушиваясь в крики летающих над лугом пигалиц и куликов.
– Да кого же, как не тебя, – улыбалась мать, радуясь оживлению сына.
Алеша схватился за затылок – голова у него действительно была острижена. Он смутился и был очень доволен, когда усевшиеся на землю птицы умолкли.
К вечеру они приехали в большую казачью станицу. До города оставалось совсем немного, и время было раннее. Однако дедушка решил заночевать здесь.
В станице царило большое оживление: на площадь со всех концов торопливо шли мужчины и женщины. Знакомый казак, к которому они заехали, помогая дедушке распрягать лошадь, пригласил его на площадь.
– Говорят, беглых поймали. Народ подбивают. Землю будто бы у казаков отбирать хотят.
– Поди ж ты, – удивился дедушка, – и у вас, значит, кураж этот завелся. А у нас намедни помещика подпалили и землю было делить хотели, да полицейские делильщиков-то всех ночью похватали – и в острог!
– Ишь ты, шалят, значит?
– Кто? Мужики-то?
– Ну, да. Кто ж еще у вас там может этим делом заниматься?
– Ясное дело. Кто ж еще? – связывая и подымая оглобли, согласился дедушка. – Болтают, будто бы манифест скоро от царя выйдет; по едокам, говорят, делить землю будут…
Казак недружелюбно посмотрел на дедушку и ехидно улыбнулся:
– Говорят, в Москве кур доят, а мы пошли и титек не нашли. Пойдем на площадь, послушаем; как бы там другой манифест кое-кому не прочитали.
На базарной площади толпились казаки. В стороне, у церковной ограды, стояла толпа женщин. Обожженные солнцем, запыленные лица казаков, только что приехавших с полей, были возбуждены и злобны.
– Земли казачьей захотели! Деды наши, отцы кровь за нее проливали, а теперь – на тебе, делить? – комкая в руках выгоревшую на солнце фуражку, кричал раскрасневшийся пожилой казак. – Как же, держи карман шире, только и ждали, когда мужики за землей к нам приедут.
Насупив густые брови, в круг вошел высокий, прихрамывающий на левую ногу, казак.
– Полно горло-то драть, – услышал Алеша спокойный повелительный голос. – Это ты сам про дележку казачьей земли выдумал. У помещиков брать землю будем, а не у тебя.
– Мне чужого тоже не надо, – загорячился говоривший. – Отцы наши, деды так жили…
– Тише! Атаман… Тише!
На высоком крыльце показалась коренастая фигура атамана. Рядом встали есаул, два подхорунжих и три урядника. Все они были одеты в парадную форму.
Поглядывая на начальство, казаки гадали:
– Мобилизацию, знать, объявлять будут?
– А может, в самом деле, в город поведут рабочих разгонять? Бунтуют, говорят, чумазые.
– Может, и в город. Кто ж его знает?
– Чего там в город? Со своими сначала справиться надо.
Атаман велел казакам подойти ближе и тут же подал знак стоящим рядом урядникам. Те сошли с крыльца, открыли подвал и вывели оттуда трех станичников со связанными руками и двух пришлых, по виду рабочих.
Прыгая на одной ноге, с палкой вместо костыля, Алеша в гурьбе казачат пробрался вперед. Выведенные из подвала сумрачно смотрели на собравшихся. Алеша услышал, как один из них, молодой казак, с синим сабельным рубцом на правой щеке, отвечая рабочему, сказал:
– Самосуд задумали, вот она, штука-то, какая! – И, помолчав, добавил: – И помочь некому. Наших – почти никого. Один Никифор.
Наблюдая за молодым казаком, Алеша увидел, с какой мучительной тоской водил он глазами по площади, и как радостно заблестел его взгляд, когда из переулка вышла группа молодых вооруженных казаков. Алеша оглянулся на атамана; тот тоже обратил внимание на пришедших и, как видно, был недоволен их появлением. Переговорив о чем-то с офицерами, атаман стащил с головы картуз.
– С-станишники! – запнувшись на «с», выкрикнул атаман. – Помогите рассудить, как нам быть вот с этими казаками и их дружками? Нельзя больше терпеть. Позорят они нас. Против царя бунтуют, веру православную хулят.
Нас, казаков, на одну ногу с мужиками хотят поставить.
Так как же, станишники, отвечать им велите? Нехристям продаваться будем или свое слово скажем?
Атаман еще не успел закончить речь, как из толпы вышла вперед группа бородатых казаков. Заложив руки за спину и наклонив головы, они, как рассвирепевшие буйволы, пошли на арестованных. На площади стало так тихо, будто здесь не было и живой души.
В недоумении Алеша уставился на дедушку. Старик с напряжением смотрел в сторону крыльца, потом, испуганно ахнув, судорожно схватил Алешу за руку. От крыльца донесся пронзительный крик:
– Глаза! Глаза! Ой! Глаза!..
Алеша взглянул на арестованных и увидел страшную картину. В воздухе то и дело взлетали плети и, как черные молнии, падали на лица, на головы и на спины людей, выведенных из подвала. Они в отчаянии кидались в разные стороны, но сжавшаяся в кольцо толпа казаков снова вталкивала их в круг.
– Дедя! Я боюсь, боюсь, дедя! – закричал перепуганный мальчик и что было сил запрыгал в сторону. Его чуть не смяли бежавшие навстречу вооруженные казаки.
Нагнав внука, дедушка поднял его трясущимися руками и побежал с площади.
Карповы выезжали уже из ворот, когда домой вернулся хозяин. Бледный, с растрепанными волосами, тяжело дыша, он то и дело повторял:
– Господи! Беда-то какая. Што ж это такое? Господи!
Арестованным двоим атамановы друзья глаза повыбивали, а фронтовики их самих порубали. Вот напасть-то! Господи!
Троих, кажется, совсем жизни лишили. Есаул было вмешался, так и ему руку отрубили. Што ж это такое? Господи! – И, провожая испуганным взглядом отъезжавшую телегу, растерянно добавил: – Вот она земля-то какая! Кровью пахнет.
Когда выехали из станицы, дедушка сказал, обращаясь к Марье:
– Казачишки за землю готовы жилы друг из друга вытянуть, ровно сбесились, ироды.
Алеша, все еще не успокоившийся от увиденного на площади, не вытерпел, спросил:
– Дедя! А почему люди за землю друг дружку убивают! Вон кругом ее сколько, ходи да ходи… Нет, правда, почему?
Дедушка нервно дернул вожжами, взмахнул кнутом.
– Мал ты еще, Алеша, где тебе до этого. Вот подрастешь, тогда узнаешь, – и как бы говоря сам с собой, добавил: – Много, а мы веки вечные по ней стонем. У кого много, а у кого и пяди нет.
На другой день Карповы, наконец, прибыли в больницу. После внимательного осмотра немолодой веселый доктор погладил Алешу по голове и сказал, что мальчику надо будет месяца два ходить на перевязки. На вопрос матери, не придется ли резать ногу, доктор улыбнулся и отрицательно покачал головой.
Тогда дедушка отвез Алешу с матерью к знакомому железнодорожнику Кузьме Прохоровичу Луганскому и, не задерживаясь, уехал домой.
В городе было неспокойно. Шел 1905 год. На улицах то и дело над толпами демонстрантов полыхали красные флаги, звучали песни, часто гремела музыка. С песнями шагали рабочие; солдаты шли с духовыми оркестрами. Они маршировали плотными колоннами, ровно покачивая стальными штыками. Впереди и по бокам солдат, придерживая сабли, двигались настороженные офицеры. Солдат водили по городу для того, чтобы запугать рабочих, которые нередко вступали в драку с полицией. По улицам бешено проносились верховые черкесы, их всегда встречали оживленно. Разодетые дамочки махали платочками, улыбались. Рабочие отворачивались, а молодежь запальчиво кричали:
– Контры! Прихвостни! Трусы! С бабами собрались воевать. Обождите, нарветесь, мы вам покажем…
Нередко в черкесов летели камни.
Кузьма Прохорович возвращался с работы всегда первым, за ним вскоре приходили два его сына: старший Федор – телеграфист и младший Володя – электромонтер. К обеденному времени приходила и Алешина мать, работавшая в нескольких домах прачкой.
За обедом между Луганским и сыновьями происходили непонятные для Алеши споры, произносились слова, которых он дома никогда не слышал: «забастовка», «демонстрация», «комитет», «революция». Особенно нехорошим ему казалось почему-то слово «соглашатель». Не зная, что оно означает, Алеша все же считал его особенно вредным. Такое мнение у него сложилось потому, что всякий раз, когда Володя произносил это слово, он начинал горячиться, оставлял еду, жестикулировал, вскакивая из-за стола и обращаясь к брату, называл его отступником и предателем.
Особенно долго мучил Алешу вопрос: почему Володя, который моложе и ростом поменьше Федора, считается большевиком, а Федор – меньшевиком. Он несколько раз спрашивал об этом у матери, но она не знала. Тогда Алеша обратился за разъяснением к Кузьме Прохоровичу. Удивленный вопросом, он вначале нахмурился, потом рассмеялся:
– Ишь ты, чем интересуется сорванец, к чему тебе это знать-то? Тут и у больших голова кругом идет, и ты туда же. Ну, да ладно, коли уж очень интересуешься, так и быть – расскажу.
– Большевики, брат, это такие люди, – с трудом подбирая слова, начал Кузьма Прохорович, – которые горой стоят за рабочих и за бедняков, вот за таких, как твоя мать. А меньшевики – эти больше болтуны и хозяйские подпевалы. Вон, к примеру, Федька наш, он вроде и за рабочих, и в одночас за буржуев, а в общем дура дурой. А ты думаешь, это так просто? Нет, брат, шалишь. Тут политика. Вот вырастешь большой, тогда и сам все узнаешь…
Из этого объяснения Алеша ровно ничего не понял. Решив по-своему, он стал считать, что все споры между Володей и Федором происходят из-за их отношения к матери и к нему. Алеше казалось, что Володя их любит, а Федор – нет, и, естественно, что симпатии его перешли на сторону Володи.
Как-то Володя не пришел домой ни к обеду, ни к ужину. Явился он только на второй день утром и с некоторой торжественностью сообщил, что на заводе объявлена забастовка.
Первой из-за печи отозвалась хозяйка:
– А что, во время забастовки приходить домой обедать и ужинать не полагается, что ли? Работать забастовали и домой ходить, значит, забастовали? Взять вот ремень…
Володя отмахнулся:
– Ну, ясное дело, ты, мама, все еще меня маленьким считаешь. А рабочие выбрали меня в забастовочный комитет, поручили организовать боевую дружину.
В глазах матери мелькнуло тревожное выражение:
– Смотри-ка ты, герой какой. Обедать не приходит, ужинать не приходит, и я его за это должна еще по головке гладить. Так и знай, – погрозила мать, – не будешь к обеду приходить, не посмотрю, что ты командир!
Володя подошел к матери и, прижимаясь головой к ее плечу, сказал ласково:
– Ну, ладно, мама, не сердись… Я постараюсь приходить и к обеду, и к ужину.
– То-то же, командир, матери положено, когда нужно, и командира ремнем припугнуть.
Было воскресенье. Кузьма Прохорович только что вернулся с базара. Узнав в чем дело, он смерил сына глазами и покачал головой:
– Что это, у вас на заводе постарше человека не нашлось?
Володя насторожился:
– Не знаю, меня выбрали. Никто не возражал. Единогласно…
– Единогласно, говоришь? – Кузьма Прохорович довольно улыбнулся, но тут же сдвинул брови. – Это хорошо, что единогласно. Ну, смотри же не подведи, тогда и мне ведь стыдно будет. С оружием-то как?
Володя нахмурился.
– Пока плохо.
– Гм. Что же думаете делать?
– Сегодня соберется комитет, может, чего и придумаем.
– Ставь вопрос ребром, – предупредил отец. – Вооружение дружины сейчас самое главное. Добром дело-то вряд ли кончится.
– К нам черкесы уже приезжали, – почему-то шепотом сказал Володя, – но мы их не пустили.
– Если оружие не будет, пустите.
– Будет оружие! – упрямо тряхнул головой Володя. – Должно быть! В крайнем случае, начнем сами делать.
– Это правильно, – усаживаясь на лавку, одобрительно сказал Кузьма Прохорович. – Мастера у вас хорошие, лучше не сыщешь. Холодное оружие любое могут сделать. Но этого сейчас мало. Надо гранаты мастерить.
– А где динамит взять? У нас на заводе нет.
– У вас нет, зато у нас есть. Вот только как взять? Володя схватил отца за руку:
– В самом деле? Есть у вас динамит?
– Много нет, а немного найдем, – поднимаясь с лавки и снова собираясь куда-то, задумчиво ответил Кузьма Прохорович.
Забастовщики стали часто собираться на квартире у Луганских. Кроме забастовочного комитета, приходили представители других заводов, железнодорожники, велись горячие споры.
Алеше было очень интересно, лежа на полатях, наблюдать за спорщиками. Один железнодорожник, когда ему предоставили слово, закричал, уставясь на полати, где лежал, свесив вниз голову, Алеша:
– Соглашатель! Предатель! Отца родного постыдись!
Когда он с поднятыми кулаками двинулся вперед, Алеше даже страшно стало, и он шмыгнул в угол.
– Мы круто в гору идем, – гремел железнодорожник, – а вы нам палки в колеса вставляете. Затормозить хотите, остановить. Не позволим! Не выйдет!
Повернувшись к столу, он помолчал, а затем с жаром добавил:
– А на нас, товарищи, можете надеяться. Железнодорожники будут тянуть крепко, не подведут.
Когда один из сторонников Федора начал возражать, железнодорожник вскочил, взмахнул кулаком:
– Сядь, Иуда!
Старший призвал к порядку. Он явно сочувствовал соглашателям:
– Каждый имеет право высказывать свои мысли, – сказал он.
– Какие это мысли? – еще громче зашумел железнодорожник. – Это не мысли, а предательство! Я бы таких умников связывал по рукам и ногам да к черту в омут…
Алеше железнодорожник понравился. Было ясно, что он заодно с Володей и Кузьмой Прохоровичем. Поэтому, когда старший снова стал призывать к порядку, Алеша тихонько, чтобы тот не заметил, показал ему кулак и, как кошка, опять шмыгнул в угол.
Через несколько дней в дом Луганских нагрянула полиция. Перевернули все вверх дном, выломали полы, переворочали дрова, разбросали сено и в заключение арестовали Володю и Алешину мать.
Причиной ареста матери было отсутствие у нее документов, но посадили ее вместе с политическими заключенными: