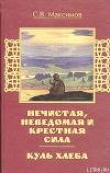Текст книги "Чужаки"
Автор книги: Никита Павлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 44 страниц)
Когда в полицейском участке Марье объявили об аресте, она так испугалась, что не могла произнести ни одного слова; она даже не спросила, за что и на каком основании с ней так поступают. О тюрьме у Марьи было давно сложившееся представление как о месте, куда сажают одних только воров и разбойников.
«Значит, меня тоже за мошенницу признали, – в растерянности думала женщина. – Но как же это так? Как же я буду там с этими отпетыми?»
Боязливо озираясь, она долго не могла понять, чего хочет от нее распространяющий противный запах чеснока и винного перегара красноносый, с разрубленной губой конвоир, сердито показывающий рукой через ее плечо. Обернувшись в ту сторону, куда показывал конвоир, Марья увидела дверь и поняла, что ей нужно идти.
По дороге она вспомнила о новом платке, купленном на заработанные в городе деньги. Оглядываясь на конвоира, Марья сняла с головы платок, осторожно свернула его в небольшой комочек и стала думать, куда бы лучше спрятать. После долгого раздумья она сунула платок под кофточку и зажала его под мышкой.
Спрятав платок в надежное, как ей казалось, место и убедившись, что конвоир не обратил никакого внимания на его исчезновение, Марья постепенно успокоилась и стала размышлять, как ей вести себя при встрече с заключенными. Она была убеждена, что тюремные встретят ее враждебно. «А что, если мне притвориться разбойницей и сказать, что я и сама людей убиваю?» – подумала Марья. Сначала эта мысль ей понравилась, но потом так испугала, что на лице у нее выступили капли холодного пота.
«Нет, – решила Марья, – это очень страшно. Скажу лучше, что я воровка, что когда я стираю, то ворую у хозяев белье, а потом продаю его на толкучке».
– Стой! Куда прешь? – оборвал ее мысли красноносый. – Не видишь, что ли, дворец свой? – закричал он, показывая на большой серый дом, огороженный высокой стеной.
От близости тюрьмы и окрика стражника у Марьи подкосились ноги. Она присела на корточки и совсем по-детски заплакала.
– Дяденька, – протягивая руки к конвоиру, со слезами просила она, – не веди меня туда, отпусти, ради бога. Век за тебя молиться буду… Отпусти! Убьют они меня…
Остановившись, провожатый с усмешкой посмотрел на плачущую женщину.
– Отпущу я тебя, как же! Против царя-батюшки бунтуешь, революции захотела? А теперь плачешь? Неохота в тюрьму идти? А раньше, когда бунтовать собралась, об этом не подумала! Вставай! – громко рявкнул стражник, и, чтобы больше запугать арестованную, схватился за рукоятку тесака.
Не помня себя от страха, Марья поднялась и, содрогаясь всем телом, едва передвигая ноги, пошла к воротам тюрьмы.
В канцелярии присмиревший и подтянувшийся конвоир подал сидевшему за грязным столом сухопарому человеку какие-то бумаги. Прочитав их, тот что-то долго и старательно записывал, потом задумался:
– Постой, постой, – проговорил он. – А куда же я ее, паря, дену? Политическая ведь женского пола – ее отдельно сажать надо, а свободных камер ни одной. Вот напасть-то какая, и начальства, как на грех, ни души. Что же теперь мне с ней делать прикажете? А… С мужчинами запереть? А вдруг, не ровен час, блюститель какой нагрянет.
Что тогда? «Кто, скажет, тебе разрешил политическую женщину с мужчинами, когда законом запрещено?» Вот и отвечай тогда. – Он сокрушенно покачал головой, но затем, подойдя к шкафу и вытащив оттуда какую-то бумагу, тихо рассмеялся. – Можно вместе с мужчинами. Вот оно, особое руководство. Вспомнил. Для пересыльных тюрем, в случае переполнения, разрешается. Парашу только и угол временной перегородкой отгородить сказано. Дать им, значит, три одеяла и дюжину мелких гвоздочков для этой надобности. Так и запишем, – заключил он, растягивая последние слова, – в три-и-надца-а-а-тую ка-а-а-ме-ру. На этом и то-о-чку поставим.
Шагая за тюремщиком, Марья все крепче прижимала к себе платок. «Вот сейчас они начнут меня обыскивать и отберут все, что есть», – думала она, глядя, как тюремщик открывает дверь камеры с большой черной цифрой.
Ну, заходи! Заходи! Чего еще стоишь? – прикрикнул тюремщик на Марью. – Или особого приглашения ждешь?
Зажмурив глаза, Марья шагнула через порог. От страха закружилась голова. Сделав еще два шага, она остановилась и стала напряженно ждать. Сзади захлопнулась дверь. Наступила тишина. «Будь что будет», – решила Марья и, открыв глаза, снова сделала два шага вперед. С разных сторон на нее смотрели люди, их было несколько человек.
– Сюда проходите, – услышала Марья торопливый, негромкий голос и, подняв глаза, увидела суетившегося в углу человека. Он что-то поспешно убирал, освобождая место.
– Мерзавцы! – отчетливо, прозвучал сердитый голос соседа. – Женщину… тоже сюда…
Вдруг послышались подозрительные, как показалось Марье, вздохи, потом что-то брякнуло, и опять наступила гнетущая тишина.
– Смотрите, что делают, – снова услышала Марья тот же сердитый голос, – да как можно это терпеть? Убить их мало!
Вокруг заговорили, задвигались.
Из всего этого потока слов в ее сознание врезалось только одно слово: убить. Это окончательно подорвало ее силы; вздрогнув всем телом, она рывком потянула в себя воздух и, ткнувшись лицом в угол, зарыдала.
«Что же это такое? За что? – рыдала она. – За какие грехи меня бросили к этим волкам на съедение? Что я сделала?» – спрашивала она себя и, не находя ответа, еще сильнее плакала. Однако ее никто не трогал, и она постепенно успокоилась.
Заключенные тихо разговаривали между собой. Вначале Марья слышала лишь звуки, не улавливая их значения, затем стала понимать отдельные слова, а через некоторое время до ее сознания дошел смысл ведущихся в камере разговоров.
– Напрасно вы так думаете, – говорил мягким голосом сидящий поблизости от Марьи человек. – Пролетариат обязательно должен встать на защиту расстреливаемых и избиваемых крестьян. Ленин так и говорит: «Рабочий класс обязан защищать своего союзника». В этом сейчас весь смысл отношений между рабочими и крестьянами. Как вы это не можете понять?
– Все это не так просто, – с нескрываемой насмешкой отвечал внушительный бас.
Не меняя положения, Марья слушала этот разговор, и ее начало охватывать сомнение. «Уж правильно ли я о них думаю?» – спрашивала она себя. Может быть, это и не разбойники.
– Неправильно, – услышала она вдруг задорный голос молодого человека, до сих пор молчавшего. – Не правильно, – повторил он настойчиво. – Революция только еще начинается, а царский манифест – это обман. Нам не манифест нужен, а революционное правительство! Свобода нам нужна, вот что!
Продолжая слушать эти малопонятные, но совсем не страшные разговоры, Марья все больше и больше убеждалась, что она неправа.
Наконец, не утерпев, она тихонько повернула голову в другую сторону. Сидящий рядом человек поглядел на нее сочувственно и неодобрительно покачал головой:
– Разве можно так убиваться? – и с едва заметным упреком в голосе добавил: – Посмотрите, сколько здесь народу, а ведь никто не плачет.
Хмурое лицо говорившего неожиданно просветлело и стало нежным:
– Дети, наверное, у вас дома остались. Маленькие?..
– Да, сынок у меня там, маленький еще…, Седьмой годок пошел, – обрадовавшись ответила Марья. И, все еще не понимая, с кем она имеет дело, вопросительно посмотрела на говорившего с ней человека.
– Ай-ай, семь лет, воробышек еще! – покачал головой подошедший к ним богатырского роста широкоплечий мужчина, с черными, как смоль, давно не стриженными волнистыми волосами и добродушным, приветливым взглядом. – И ребенка не пожалели, мерзавцы. – Голос у него был густой и сильный, под стать фигуре.
Доброжелательность и теплота, с которой заключенные отнеслись к Марье, совершенно обезоружили ее. «Какие же это разбойники? – думала она. – И глаза у них, и лица точь-в-точь, как у хороших людей. Почему же я их ворами, разбойниками считаю?»
– Ну, что ж, давайте знакомиться, – предложил все еще стоявший около нар великан. – Вас как зовут?
– Марья Карпова, – поворачиваясь к нему лицом и не зная еще, как себя вести, ответила Марья.
– А моя фамилия Шапочкин. Валентин Шапочкин. Прошу любить и жаловать.
– Любите, но остерегайтесь, – засмеялся сидевший рядом с Марьей заключенный. – Особенно побаивайтесь, когда он будет близко проходить… Наступит на ногу, навек калекой оставит.
– Вы ему не очень-то верьте, – улыбнулся Шапочкин. – Я только случайно, по оплошке могу на ногу наступить, а Ершов, вот этот самый, не только ноги, но и руки может оттоптать. – И он по-детски улыбнулся, блеснув крепкими белыми зубами.
Теперь Ершов обратился к Марье:
– Знаете что, Карпова, чем плакать, вы лучше расскажите нам, за что вас сюда упрятали? Порядок у нас такой, новичкам про себя рассказывать.
Марья растерянно посмотрела на Ершова. Сказать, что ее посадили в тюрьму за воровство, она уже не решалась, – А я и не знаю, за что меня посадили, – после недолгого молчания чистосердечно призналась она. – У мальчонки нога болит, ну, мы тут и жили. Я у богатых белье стирала, а он на перевязку каждый день ходил.
– А где жили-то? – спросил Шапочкин.
– Знакомый тут у нас есть один. Железнодорожник. Луганский Кузьма, – начала торопливо рассказывать Марья. – Уж куда, кажется, какие хорошие люди, а вот пришли сегодня жандармы, весь дом перевернули, все вверх дном поставили. А потом сына ихнего Володю и меня с собой забрали и вот сюда отправили.
– Но здесь-то вам объяснили, за что? – с заметным волнением спросил Ершов.
– Нет, – с горечью ответила Марья. – Не сказали.
– Вот-вот. Так и получается. Мертвым свободу, живых под арест! – сердито проговорил Шапочкин. – А Володю Луганского я знаю, хороший паренек. Честный, настойчивый. Жаль, что арестовали. – Он тяжело вздохнул и, махнув рукой, медленно опустился на нары.
– Все равно всех в тюрьму не запереть, – прервав наступившее тягостное молчание, сказал Ершов. – Много нас… И правда на нашей стороне. А у них что? Грубая сила. Обман. Плетьми и судами с народом разговаривают. Тюрьмы полны рабочим людом. Но этим они только приближают развязку.
По тому, как внимательно все слушали Ершова, Марья поняла, что он пользуется здесь особым уважением.
– Ну, расскажите же нам еще о себе, о своей семье, как вы жили на воле, кто у вас дома, – с ободряющей ласковой улыбкой снова обратился к Марье Ершов.
– Муж у меня дома остался, – уже охотно начала рассказывать Марья, – и свекор со свекровью. Алеша сейчас здесь в городе. Семья у нас дружная, – в первый раз улыбнувшись, продолжала она. – Все работящие, а на хлеб не всегда хватает, а про одежду даже и говорить нечего.
Ершов тяжело вздохнул. Во вспыхнувшем взгляде мелькнула ирония.
– Счастья, значит, у нас нет, – сказал он, оглядывая свою собеседницу. – Правители наши все себе забрали, а нам только одно горе и нужду оставили.
– Да, – подтвердила Марья. – Конечно, забрали. Чего же еще? – Сказав это, она только потом поняла, что они значат, и, стремясь изменить смысл сказанного, торопливо добавила: – А скорее всего, так богу надо. Правители, может быть, и рады бы, да выше бога им ведь тоже не быть…
Присутствующие в камере переглянулись. Одни криво улыбнулись, другие неловко кашлянули.
Шапочкин поднялся и снова подошел к Марье.
– Нехорошо так, – склоняя голову и всматриваясь в ее лицо, тихо сказал он. – Нехорошо…
Марья растерянно посмотрела на присутствующих.
«Что же я такое сделала? Почему они все так недовольны?» – с недоумением, готовая заплакать, спрашивала себя Марья, заметив беспокойство на лицах своих собеседников. Опустив голову, она долго смотрела в одну точку, а затем, ни к кому не обращаясь, сказала:
– Деревенская я. Сами видите. Что я могу знать-то?
Задумавшийся Ершов, будто о чем-то вспомнив, быстро вскочил на йоги и упрямо тряхнул головой:
– Вот, товарищи, где сказывается отсутствие нашей пропаганды. В самом деле, откуда ей понимать, что к чему, когда в деревне полное засилье попов и знахарок. – Подумав, Ершов добавил: – Здесь у нас непочатый край работы. Нет слов, мужики смело поднимаются против помещиков, но им нужна помощь. А кто же эту помощь им должен оказывать, как не мы, рабочие. Значит, сами мы тоже должны знать много. Учиться, стало быть, нужно и нам. Учиться везде, при всех условиях. Если хотите, даже вот здесь, в тюрьме, – учиться, чтобы уметь разобраться в своих друзьях и недругах; мы обязаны открыть людям глаза. Следовательно, учиться и учить других, вот, значит, какова задача. Школы нам здесь, конечно, не организовать. Но обсуждать серьезные вопросы и учиться один у другого мы можем. Если не возражаете, то я завтра же могу рассказать, что я знаю, например, о боге.
– А я, – густо пробасил Шапочкин, – о том, кому нужен царь.
– Опять перебил, – послышался из угла все тот же задорный голос. – И каждый раз вот так. Я только подумаю, а он тут как тут. – Ну ладно. Тогда я расскажу о суде над одним социал-демократом.
– Ну, а вы, товарищ Карпова, о чем с нами будете беседовать? – спросил Ершов.
– Какая же я рассказчица, когда я и грамоте-то только два месяца самоучкой училась? – грустно и серьезно сказала Марья.
– А все же мы будем просить вас, товарищ Карпова, рассказать, как вы живете, и, если можно, о том, как живут ваши соседи? – Ершов снова посмотрел на Марью взглядом, полным теплоты и добродушия.
– Хорошо, – неожиданно для себя согласилась Марья. – Вы будете меня спрашивать, а я буду отвечать.
Ершов утвердительно кивнул.
Глава четвертаяЕршов сидел на скрипучих, почерневших от времени и сырости нарах, подогнув под себя ноги, и, неторопливо подбирая слова, вел беседу.
Не отрываясь, Марья смотрела на Ершова. Высокий, с тонкими чертами смуглого лица, с глубокими складками по сторонам рта. На всем облике Захара Михайловича лежал отпечаток суровости, накладываемый долгими годами напряженной борьбы. На вид Ершову можно дать лет сорок, на самом же деле ему было меньше.
Ершов говорил, что бог это выдумка попов и буржуев, что он им нужен для обмана народа, Марья относилась к его словам с недоверием и даже возразила:
– Бог-то для всех одинаковый, и для бедных, и для богатых. Он един.
– Да нет! – мягко улыбнувшись, ответил Ершов. – Для бедных бог – это пугало. Им заставляют нас все терпеть, все прощать: и грабеж, и обман. А для попов бог – легкая жизнь, деньги. Они плывут к ним из наших карманов, как манна небесная. Лишь для богатых бог помощник и защитник. Разве это не так, Марья? – ласково посмотрев на женщину, спросил Ершов.
Задумавшись, Марья долго не отвечала. «Про попов он, пожалуй, правду говорит, – думала она. – Недаром говорят, что у попа глаза завидущие, а руки загребущие. Так оно и есть. Мы голодаем, а они, как борова, того и гляди лопнут с жиру., Карповой стало страшно от этих мыслей. Она даже закрыла глаза, но голову сверлила неотвязная мысль: – А что же царь небесный смотрит? Где же правда, о которой нам говорят?»
Ершов, не дождавшись ответа Марьи, продолжал:
– Вот я помню, у нас в селе поп Михаил, не переставая твердил, что «легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в царство небесное», а у самого хоромы необъятные, заимка, пять батраков; овец, коров, лошадей – не пересчитаешь сколько. Знающие люди уверяли, что у него в банке больше двадцати тысяч лежало.
– Да это ты про нашего отца Андриана говоришь, – не стерпела Марья. – Только у нашего-то, говорят, не двадцать, а сорок тысяч в банке положено.
– Значит, – разводя руки, спросил Ершов, – он в царство небесное попасть никак не может?
– Выходит, что так, – пожав плечами, согласилась Марья.
– Да он туда и не собирается, – пробасил Шапочкин, – царством-то небесным он только нашего брата обманывает, а сам-то знает, что его нет.
– А вы, Мария, что на это скажете? – спросил Ершов, не сводя с нее взгляда.
– А вот то и скажу, – еще не смело, но по привычке откровенно, ответила Марья:-свекор у меня всегда говорит: «Что поп, то ботало».
– Значит, о боге они нам говорят одно, а сами думают другое? – продолжал спрашивать Ершов.
– Им так, поди-ко, сподручнее оплетать нашего брата, – уже не скрывая неприязни к попам, ответила Марья. – Все они до единого мытари.
Беседа о боге продолжалась два дня. Теперь она уже не боялась вставить и свое словечко или задать вопрос и немало удивляла товарищей по камере своей природной смекалкой.
Когда пришла очередь проводить беседу обладателю молодого задорного голоса – Саше Каурову, на середину камеры выскочил высокий, гибкий, как молодое дерево, белокурый парень лет семнадцати.
Встряхнув волосами, Саша устремил взгляд на товарищей; на его впалых щеках заиграл румянец.
– Несколько лет назад, когда я был еще совсем маленьким, – остановившись среди камеры, начал рассказывать Саша, – к нам на завод приехал из Екатеринбурга слесарь. Вначале ничего особенного за ним не примечалось. А потом, когда приобрел товарищей, он сразу же начал организовывать социал-демократический кружок. Работником слесарь был напористым, трудился не покладая рук. Отработав свою смену, он шел в школу учить грамоте рабочих, читать им книги, вести беседы. Всех поражало, что он половину своего заработка каждый раз раздавал инвалидам, вдовам и сиротам.
Однажды на заводе случилась беда. После сильного ливня хлынувшие с гор потоки размыли дамбу. Прорвавшись из заводского пруда, вода устремилась к новой, еще мало разработанной шахте. В это время, как назло, испортился шахтный подъемник.
Людям, что были под землей, грозила неминуемая гибель. Все бросились к управляющему; а тот, боясь убытков для хозяина, приказал заделывать промоину. Пока отремонтируют промоину, шахту затопит. Что тут делать?
В этот момент и показал себя наш новый слесарь. Прихватив с собой двух рабочих и, ничего никому не говоря, он бросился к старому запальщику шахты, англичанину Барклею.
Барклей с первых слов понял, что от него требуется. Не мешкая, взвалил он на плечи сумку с динамитом, и все четверо побежали к заводской плотине. Когда прошли шлюз и водосливные ворота, старый англичанин остановился и стал готовить взрыв плотины.
«Никогда не работал я с такой энергией, как в этот раз», – рассказывал нам потом Барклей. Он радовался, что ему представилась возможность сделать сразу два добрых дела: во-первых, спасти более ста человек рабочих, а во-вторых, воспользовавшись удобным случаем, нанести хозяевам завода серьезный убыток.
Когда подготовка к взрыву подходила к концу, у плотины появился управляющий с группой полицейских. Он понял намерение Барклея и с руганью побежал на плотину, но в это время запальщик поджег шнур и быстро пошел к берегу.
Растерявшись, управляющий, как помешанный, метался от одного полицейского к другому и, наконец, как видно, решившись, закричал:
– Деньги, много денег, тысячу рублей золотом получит от меня тот, кто оборвет шнур!
Один из полицейских торопливо перекрестился, сбросил с себя мундир и что было сил помчался к месту, где дымился шнур…
Барклей остановился, растерянно глядя то на рабочих, то на бегущего к плотине полицейского.
Расстояние между полицейским и местом взрыва становилось все меньше – и вдруг, расталкивая толпу, выскочил слесарь. Не обращая внимания на крики товарищей, пытавшихся удержать его, он ринулся вслед за полицейским. Еще минута – и вот он уже догнал его возле самого заряда. Удар – и полицейский полетел с плотины. Шнур догорал. До взрыва оставалось каких-нибудь пять секунд. Казалось, что спасения для слесаря уже нет, нов это время с берега донесся отчаянный голос старого Барклея:
– В воду бросайся! В воду!
Это решило дело. Слесарь бросился в поток. А через секунды глыбы камня обрушились как раз на то место, где только что стоял этот человек. Но теперь они были ему уже не страшны.
– Дело этим, разумеется, не кончилось, – помолчав, продолжал Саша. – Через несколько дней слесаря посадили на скамью подсудимых. Его обвинили в нанесении полицейскому побоев. Кроме этого, ему предъявили иск на триста тысяч рублей за причиненные хозяевам убытки, которые они потерпели от взрыва плотины и простоя завода.
– Ты разбойник, – сказал слесарю один из присяжных, возмущенный его независимым видом.
– Нет, я социал-демократ, – улыбаясь, отвечал слесарь.
– Суд заставит тебя ответить за все убытки, – кричал присяжный, взбешенный спокойствием слесаря.
– И ответил бы, если б средства были, – снова засмеялся подсудимый.
– Как же, найдутся средства у такого бездельника! Но только этим себя не спасешь. На каторгу пойдешь, там с тебя взыщут.
– И не избежать бы слесарю каторги, если б за него не встал весь завод. Рабочие вышли на улицу, окружили здание суда и потребовали свободы для товарища, который спас сто человек. Люди стояли, как стена, – нерушимо и грозно. Ну, суд перепугался и оправдал подсудимого.
– Вот человек какой удивительный, – первой отозвалась на рассказ Марья. – И сердечный и бесстрашный.
– А что же потом? – спросил кто-то из слушателей. – Куда же он потом девался?
– Да никуда не девался, – помолчав, ответил Саша, – нашим вожаком стал. Рабочие к каждому его слову прислушивались. Немало мы потом хлопот хозяевам и полицейским наделали, так скоро они нас не забудут.
Саша задорно засмеялся, тряхнул головой и быстро шагнул к нарам.
В течение всего этого рассказа Шапочкин с улыбкой смотрел на Сашу, а когда тот кончил, сказал:
– Молодец, Саша, правильно рассказал!..
– А для чего это нужно было? – недовольно хмурясь, спросил Ершов.
– Да так, пусть знают наших, – вместо Шапочкина ответил Саша.
– Зря расписываете человека. – слесарь за это вас не похвалит.
– А почему нельзя рассказывать о людях правду? – обиделся Саша.
– О других можете рассказывать, а слесаря не троньте, – тоном, не допускающим возражений, повторил Ершов.
Саша вопросительно посмотрел на Шапочкина. Тот развел руками.
– Ладно, – согласился Саша, – не будем. Раз нельзя, значит нельзя.
– А где же этот слесарь теперь? – спросила Марья.
Стоявший за спиной Ершова Шапочкин подмигнул и сверху вниз показал пальцем на голову Ершова.
– Он? – обрадовавшись и в то же время удивленно спросила Марья.
– Он, – качнув головой, тихо, но решительно подтвердил Саша.
Марья рывком поднялась с места, подошла к Ершову и поклонившись в пояс, сказала:
– Спасибо тебе, Захар Михайлович, большое спасибо.
– За что же это, Марья Яковлевна, спасибо-то? – подняв голову, спросил Ершов.
– А за то, – продолжала Марья, – что ты нашего брата – бедноту за настоящих людей считаешь и помогаешь нам. Таких, как ты, немного, – и, помолчав, добавила: – Нет, немного.
В течение последних суток до обитателей тринадцатой камеры несколько раз доносились какие-то крики. Одни говорили, что дерутся уголовные, другие – что это избивают политических.
Крик повторился и этой ночью. Усиливаясь, он приблизился к тринадцатой камере. В открывшуюся дверь тюремщики втолкнули упиравшегося и что есть силы кричавшего мужчину лет тридцати, одетого по-деревенски, во все домотканное.
Очутившись в камере, мужчина, хотя и сбавил тон, но все же продолжал кричать. Всклокоченная курчавая борода, растрепанные волосы, дико блуждающие глаза и заметные в некоторых местах ссадины свидетельствовали о том, что он с кем-то дрался.
Первым вскочил на ноги Шапочкин, за ним последовали другие. Только Ершов продолжал сидеть на нарах, внимательно наблюдая за новичком.
– Какого черта кричите? – недовольно спросил Шапочкин. – Перестаньте.
– Тебя не спросил, вот и кричу, – огрызнулся новичок, стараясь в полумраке камеры рассмотреть заключенных.
– А я вам говорю – перестаньте кричать! – начиная сердиться, снова потребовал Шапочкин. – Здесь не кабак, и ночь на дворе. Люди спать хотят.
– На ногах только лошади спят, а вы ведь не…
Запнувшись на полуслове, пришелец бросился к Марье:
– Маша! Марья Яковлевна! – закричал он, хватая ее за руку. – Ты! Здесь? Как же это так?
Обрадовавшись встрече с односельчанином, Марья с готовностью ответила:
– Очень просто, Данила Иванович. Алешу привезла лечить, нога у него болит, а теперь сюда угодила.
– И как же это все хорошо, – перебивая Марью, выпалил Маркин. – Ну, просто лучше не придумаешь!
Не обращая внимания на присутствующих, он схватил ее за руку и потащил в угол.
– Ты давно здесь? – зашептал он чуть слышно.
– Две недели, – оглядываясь по сторонам, так же тихо ответила Марья.
– Скажи, есть здесь Ершов Захар Михайлович?
– Ершов? Есть. Вон сидит, – указала она в противоположный угол.
– Где? Который? – обрадовался пришелец.
– Да вот этот, – показала Марья на Ершова.
Марьин односельчанин тотчас же подбежал к Ершову и, как видно, желая еще раз убедиться, что это действительно он, взволнованно спросил:
– Значит, ты и есть Ершов Захар Михайлович?
– Да, Ершов, – настороженно ответил Захар Михайлович.
– И учителя Мартынова ты, значит, знаешь?
– Знаю и Мартынова.
– А как его зовут? – недоверчиво спросил пришелец.
– Того, которого я знаю, зовут Нестером Петровичем, – спокойно ответил Ершов.
– Уф! Еж тя заешь, – шлепнулся на табурет пришелец. – А я Маркин. Сосед ваш. Из Тютняр. Так вот, значит, ты какой? Ершов Захар Михайлович! – удивленно продолжал Маркин. – Слыхал я о тебе и раньше, а видеть не доводилось. Ну, вот и свиделись. Вижу. Недаром я из-за тебя сутки целые дрался.
– То есть, как это из-за меня? – не понимая, в чем дело, но с явным интересом спросил Ершов.
Не отвечая, Маркин начал стаскивать с себя сапог. Отодрав стельку, он вытащил из-под нее письмо и небольшой пакетик.
– Это тебе Нестер прислал, – взволнованно заговорил он. – Задание, говорит, тебе от комитета, как хочешь делай, а немедленно передай. Разговаривать нам с ним особенно некогда было, на ходу все делалось, украдкой. Ну, известно, я обещал, а потом смотрю – не так это просто. Привели меня в тюрьму, а она полным-полна политическими. Где Ершов, в какой камере, неизвестно. Ищи, значит, ветра в поле. Да и как искать, когда сам заключенный. Направили меня в седьмую камеру. А что, думаю, еж тя заешь, если повезло и как раз он в этой камере. Потом оказалось, нет там Ершова. Подумал я, подумал и решил посоветоваться со старшим ихним. Паренек там у них старшим, Луганский Володя. Ничего, смекалистый – из молодых, знать, да ранний. Поговорили мы с ним, а он сразу: «В тринадцатой, говорит, Ершов, слышал, там он. Передали нам… Туда тебе пробиваться надо». Легко сказать, пробиваться. А как? Тогда Володя и говорит, что мы, дескать, бить тебя начнем, как провокатора, и будем настаивать, чтобы тебя от нас убрали. Кто знает, а вдруг переведут в тринадцатую? Ну и начали мы. Шум, гам, крик, возня. Бить они меня особенно не били, так только, для видимости. Пришел надзиратель. Покричал, покричал и ушел. А мы пуще прежнего гвалт подняли. Наконец сам начальник тюрьмы явился. Заключенные как один: «Уберите шпиона и провокатора! Убьем… Нам все равно!.». «Куда же, говорит, мне его девать, мерзавца эдакого? Это никакой, говорит, не шпион, а бандит самый настоящий». А Володя посмотрел на начальника и как будто невзначай: «В тринадцатую, говорит, его, к отчаянным элементам отправьте». Ну, а я сейчас же в амбицию: «Не пойду к элементам! Как хотите, не пойду!» Начальник, как видно, дурак, да и пьяный еще был, покосился на меня и сразу надзирателям: «Тащите, кричит, его в тринадцатую, и больше чтоб никто не обращал на него внимания. Убьют и хорошо – одним негодяем меньше будет!»
– Уф! – облегченно вздохнул Маркин. – И вот, значит, я тут как тут. Нашел. Выполнил задание. Слово кузнеца крепко. Сказано-сделано. А теперь поспать бы не мешал всем, кто осмеливается бороться за свободу своего народа. Глотая душившие его слезы, Саша долго стоял с поникшей головой, потом порывисто запел:
Ви-ихри вражде-е-бные ве-е-ют над на-а-ми,
Te-e-мные си-и-лы нас зло-о-бно гнетут,
В бой ро-о-ковой мы вступии-ли с врага-а-ми…
На-а-с еще су-у-дьбы безве-е-стные жду-у-т!
Первый подхватил песню Валентин. Затем влился баритон Маркина, а за ним и остальные.
Не была безучастной и Марья. Она с замиранием сердца слушала эту новую, в первый раз услышанную ею песню.
– «Ведь вот, оказывается, какие есть песни», – думала Марья, незаметно для себя покачивая головой в такт поющим. – Запеть бы ее у нас дома. Вот бы было переполоха…
Через минуту песню подхватили в соседних камерах, и она звонкой рекой разлилась по всей тюрьме.
Напрасно метались надзиратели, кричал, размахивая револьвером, начальник тюрьмы. Никто не обращал на них внимания.
Песня росла, ширилась, подымалась с этажа на этаж, зовя на борьбу с угнетателями.
На бой кровавый, святой и правый, Марш, марш вперед, рабочий народ!
Вскоре возбуждение достигло той степени, когда люди неизбежно переходят к каким-то действиям, чаще всего стихийным, но всегда решительным и сильным.
Так случилось и на этот раз. Где-то звякнуло разбитое стекло, послышался треск ломаемого дерева. Это послужило сигналом. Не переставая петь, заключенные в ярости стали уничтожать все, что только можно было уничтожить.
В тринадцатой камере в это время было сравнительно тихо. Там не звенели стекла и не было слышно треска.
Сжав кулаки и стараясь сдержать себя, Ершов говорил своим товарищам по камере:
– В тюрьме начинается восстание. Это серьезное и очень опасное дело. Боюсь, как бы тут не было провокации.
Мы безоружны, а у черносотенцев есть теперь повод расправиться с нами. Давайте обсудим, как нам быть. Может быть, лучше удержать товарищей от такого выступления.
Мне еще не нравится то, что толчком к этому выступлению послужил суд надо мной.
– При чем тут суд? – отозвался Маркин. – Народ до крайности доведен, вот в чем главная загвоздка, а суд это только искорка, но в такой момент и ее достаточно. Дело тут общее, и нам оставаться в стороне никак нельзя. Оружие на первое время может удастся достать у охраны. А дальше нас рабочие города поддержат. Городской голова собака не последняя, но сейчас он ладит взять уговорами. Вот мы и покажем ему, почем сотня гребешков.
На середину камеры шагнул Шапочкин. Поднял руку.
– Товарищи! Долго рассуждать у нас нет времени.
Думаю, что никто из нас не хочет, чтобы нас назвали трусами или предателями, но мы еще больше не хотим, чтобы нас перебили, как овец. Поэтому я предлагаю: если нам не удастся завладеть необходимой толикой оружия, то будем уговаривать людей прекратить восстание. Руководителем давайте назначим Ершова. Я голосую.
За это предложение все подняли руки. Ершов немедленно приступил к делу.
– Поднажмем, – командовал он, и под дружным напором отрывалась одна за другой доска или перекладина. Наконец дело дошло до поперечного бруса.
– Давайте! – снова распорядился Ершов и первым подставил плечо под брус верхних нар. После общего усилия брус вылез из своих гнезд.