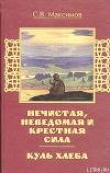Текст книги "Чужаки"
Автор книги: Никита Павлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 44 страниц)
Уезжая с отрядом, Машутка просила Егора Матвеевича обязательно сообщить ей, если в Гавриловку приедет хозяин гнедого – Алексей Карпов. И теперь во всех своих письмах домой постоянно спрашивала, не приезжал ли кто за гнедым. Но ответ получала один и тот же: «Нет, никого не было».
Тоска по любимому человеку не давала покоя. Ночью, когда все спали, девушка выходила к гнедому, прижималась к его шее щекой и шептала:
– Гнедушечка! Неужели мы так и не дождемся, когда прилетит к нам Алешенька? – И заливалась слезами.
Иногда Машутке хотелось вскочить в седло и стремглав мчаться в Златоуст, разыскать там Алексея и привести с собой в отряд. А потом, когда кончится война, вернуться вместе с ним в Гавриловку и сказать Егору Матвеевичу, что во всем выполнила его наказ: отомстила за отца с матерью и привезла с собой приглянувшегося человека, о котором он намекал при проводах в отряд. Но Златоуст далеко, да и Алексея теперь там нет. Луганский говорит, что красные давно оттуда отступили.
Машутка усердно выполняла нехитрые обязанности связного. Вначале Луганский ей не особенно доверял, но, убедившись, что она хорошо относится к делу, привык к ней и даже решил снова за ней поухаживать.
Как-то лунной ночью, возвращаясь с проверки постов, он увидел, что в избе, где жила Машутка, все еще горит свет. Он постучал в дверь и, не дождавшись ответа, потянул к себе ручку. На него пахнуло полем от стоящего на столе букета цветов. Машутка сидела у стола и писала письмо; Покосившись на старенькую деревянную кровать, Луганский спросил:
– Что ты так долго не спишь, Маша? Скоро светать будет.
– Не спится, Федор Кузьмич, – вздохнув, ответила девушка, – мне очень тяжко.
– Ну, что ты? Отчего это тебе тяжко? – улыбнулся Луганский, снова косясь на кровать.
Луганский подошел ближе к столу, потрогал пальцами букет.
– Пусть другие горюют, а нам надо жить и веселиться, – он дунул на огонек.
Потушив свет, Луганский шагнул к Машутке, но тут же увидел, как она выхватила из кобуры револьвер. По искаженному лицу Машутки, по ее горящим глазам он понял: девушка не шутит. Отступая к двери, Луганский замахал руками:
– Что ты? Что ты, Маша? Я пошутил, неужели не видишь?
– Разве так шутят? – заикаясь от волнения, с гневом спросила Машутка.
– Ей-богу, пошутил, – оправдывался Луганский. – Я зашел к тебе по важному делу, а это так, глупость.
Машутка недоверчиво посмотрела на начальника и, убирая револьвер, показала на лавку на другой стороне стола.
– Если по делу, милости прошу, садитесь.
– Да, да. Нам нужно откровенно поговорить, – заторопился Луганский и высказал первую попавшую ему в голову мысль. – Я давно думал, да так как-то не решался. Теперь вижу, что ты серьезная девушка, и я хочу посоветовать тебе вступить в эсеровскую партию. Если согласна, могу дать рекомендацию.
– Я еще плохо в этом деле разбираюсь, Федор Кузьмич, – помолчав, ответила Машутка. – Я должна сначала подумать.
С этого времени Луганский стал относиться к ней со сдержанным вниманием.
Отряд не переставая двигался вперед.
Как только белые занимали село, местные кулаки волчьей стаей бросались ловить оставшихся красноармейцев и всех, кто сочувствовал или помогал советским властям. Они сами чинили над пленными расправу, лишь иногда приводили схваченных в штаб отряда.
Расправой над большевистскими комиссарами и коммунистами в штабе ведал поручик Зубов. Помощником у него был Назаров.
Пересчитав арестованных, Назаров обычно сейчас же шел к Зубову и задавал ему один и тот же вопрос:
– Господин поручик! Краснопузых сегодня набралось двадцать четыре, что прикажете делать?
Всегда пьяный Зубов спрашивал: – Вчера какого стреляли?
– Четного.
– Четного? Ну, а сегодня стреляй нечетного. Остальным по сорок шомполов. Если живы останутся, комиссаров и коммунистов пристрелить. Иди, выполняй. – И снова брался за самогон. Иногда, не слушая, что говорит ему Назаров, он махал рукой и кричал:
– Всех! Сказал тебе, всех стрелять!
Так гибли сотни ни в чем не повинных людей. Стоило какому-то кулаку указать на кого-то и сказать, что он большевик, и человека вели к поскотине на расстрел, а в лучшем случае в подвал или под сарай, и там до полусмерти избивали шомполами.
Когда Маша видела это, она возмущалась, бежала к Зубову или к Назарову. Чтобы успокоить девушку, ей объясняли, что этих людей казнят за то, что они сами убили десятки и сотни невинных людей. Что убивают только тех, чья вина доказана тщательным расследованием.
В первое время Машутка верила этому, но сегодня…
…В штабе с утра стоял невероятный шум. Пьяный поручик с четвертью самогона в руках ходил от стола к столу и угощал им всех подряд.
– Пей! – размахивая бутылью, кричал Зубов. – Не хватит – ведро принесу, ведра не хватит-бочку прикачу, здесь такого добра видимо-невидимо.
Вошедший Назаров лихо стукнул каблуками, подмигнул Машутке и бодро доложил поручику:
– Восемнадцать человек, господин поручик, ждут вашего решения, а девятнадцатый – дурак…
Зубов пьяными глазами тупо посмотрел на прапорщика, допил из стакана остатки самогона и накрыл им горлышко бутыли.
– Что за дурак? Откуда взялся? – тараща пьяные глаза, спросил Зубов.
– А черт его знает, – неопределенно махнул рукой Назаров, – могу только сказать, что дурак, то дурак, да, знать, очень хитрый, белых клянет во всю.
– Что? – прохрипел Зубов. – Белых клянет, не нравятся они ему? А ну, где он? Покажи… – и, шатаясь, по шел во двор.
Вместе с другими на крыльцо вышла и Машутка.
Среди двора стояла цепочка оборванных, исхудалых людей. У всех у них были испитые лица, с провалившимися глазами. У одного пленного из раненой руки капала кровь, образуя на земле красную лужицу.
Вдоль цепочки ходил высокий длинноволосый парень с грязными, босыми, потрескавшимися ногами, в лохмотьях вместо одежды. Увидев на крыльце людей, он уставился на них мутным взглядом, потом вдруг рассмеялся и, обращаясь к подошедшему Зубову, закричал:
– Красные петухи, белые дураки! – и скороговоркой добавил:
– Беляк – дурак, кулак – дурак!
Зубов вплотную подошел к парню.
– Как ты сказал? А ну, повтори!
Парень взял под козырек и, поводя плечами, отчеканил:
– Царь – дурак, беляк – кулак, красный тоже так и сяк…
– Замолчи, сука! – закричал Зубов и, размахнувшись, ударил по спине плетью.
От неожиданности дурачок подпрыгнул.
– Ой! Больно! Я тебя, дяденька, вот самого… – поднимая кулак, завизжал дурачок.
Зубов снова взмахнул плетью, но дурак успел ударить его по носу.
Растирая по лицу хлынувшую кровь, Зубов вытащил другой рукой из кобуры наган, взял его за дуло и, размахнувшись, изо всех сил ударил дурака по лбу.
– Дурачок он, – закричали арестованные. – Устин дурачок, не троньте, он сроду непонятливый, сызмальства урод…
Окаменев от ужаса, Машутка смотрела, как Зубов топтал ногами распростертого на земле человека и, тяжело дыша, захлебываясь, кричал:
– Врете, сволочи! Я вам покажу дурака! Веди их всех к чертовой матери… – приказал он Назарову и выстрелил в еще дергающееся тело.
Выполняя приказ поручика, Назаров окружил арестованных конвоем и, матерясь, повел в ворота. Двое солдат, размазывая по земле кровь, уволокли убитого под сарай.
Ошеломленная, дрожащая Машутка кинулась в помещение, схватила стакан, налила самогона и силой заставила себя выпить. Через минуту у нее закружилась голова, и она, шатаясь, снова вышла на крыльцо.
В это время во двор привели трех красноармейцев – поваров, по ошибке приехавших в село вместе с кухней.
Они настороженно смотрели на подошедшего к ним Зубова.
– Повара мы, – слегка улыбнувшись, сказал старший. – Безоружные. В свою роту ехали, да, знать, черт нас попутал, вишь, куда угодили. Отпустили бы нас, господин офицер, может, еще успеем к обеду.
Зубов зло захохотал.
– В самом деле, может отпустить?.. Рисовую, кашу, наверное, везете краснопузым. Плохое они есть не будут.
– Не! – качнул головой старший. – Отруби. Круп у нас давно никаких нет. Два дня совсем не ели красноармейцы, хорошо, что давеча в разбитом вагоне три мешка отрубей нашли. Думали, накормим ребят, и вот, как на зло…
– Жалко тебе, что краснопузые голодные остались?
– Да как сказать? Знамо, жалко. Люди ведь. Свои товарищи.
– И по белым хорошо стреляют, – сдерживая ярость, продолжал спрашивать Зубов.
– А что же сделаешь, если война? – не подозревая беды, все так же простодушно говорил парень.
– Ты тоже стрелял?
– Бывало. Что греха таить. Когда туго приходилось, стреляли и мы.
Зубов заскрипел зубами.
– А ну покажи, что у тебя на лбу?
Парень с недоумением посмотрел на Зубова.
– Вот это что? – тыча в звездочку на фуражке, закричал Зубов.
Красноармеец пожал плечами, с опаской посмотрел на свирепеющего офицера.
– Связать им руки, – приказал Зубов, – да покрепче.
Дружинники бросились выполнять приказание начальника.
Несмотря на выпитый самогон, Машутка не могла забыться, не могла преодолеть жалости к попавшим в беду красноармейцам. Каждому из них было не больше восемнадцати лет, столько же, сколько ей самой. Она понимала, что ребята не сделали ничего плохого, и вся вина их заключалась лишь в том, что они служили в Красной Армии. Не разобрались ребята…
Когда пленных связали, Зубов распорядился:
– Привязать к скамьям и всыпать по сто шомполов.
А на лбах вырезать вот эти жидовские знаки, – и он с ненавистью ткнул в звездочку на красноармейской фуражке.
Испуганная Машутка бросилась к Луганскому.
Командир отряда сидел за столом в английской гимнастерке с расстегнутым воротом и мирно разговаривал с представителем местного кулачества.
Когда девушка вошла в избу, за селом послышались один за другим три залпа. Мужик настороженно посмотрел на собеседника, Луганский спокойно улыбнулся.
– Это Зубов забавляется, «друзей» ваших на тот свет отправляет.
Представитель ухмыльнулся в бороду, хотел что-то сказать, но его перебила Машутка.
– Федор Кузьмич! Ради бога… Они ни в чем не виноваты… Они повара. Скажите, чтобы не трогали их, отпустили.
– Кого это не трогать? – недовольным тоном спросил Луганский.
– Красноармейцев. Троих красноармейцев поймали… Бьют шомполами, Зубов велел звезды на лбах им вырезать…
Выслушав сообщение Машутки, мужик довольно хихикнул. Луганский вынул папиросу и неторопливо постукал мундштуком по крышке дорогого портсигара, и все тем же недовольным тоном сказал:
– Чего ты разволновалась? Зубов с красными за твоего отца с матерью рассчитывается. Спасибо ему сказать надо.
– И за нас! За нас тоже, – спрыгнув с лавки, заверещал обиженный Советами. – Натерпелись мы от них горя. Весь хлеб повыгребли, скотину позабирали, разорили, впору по миру идти. Таким вот голодранцам раздавали! – тыча кулаком в сторону, откуда неслись придушенные вопли, кричал раскрасневшийся мужик. – Рады были чужому, а теперь кричат, не по нраву шомпола-то. Убивать их, грабителей, надо всех до единого.
Машутка оттолкнула брызгающего слюной мужика к печи, вплотную подошла к Луганскому.
– Федор Кузьмич! Неужели на тебе креста нет? Там людей убивают, не скот, как ты можешь допустить это? Луганский неохотно поднялся, надел фуражку, покосился на зеркало, неторопливо ответил:
– Ладно, пойдем. Может быть, еще застанем, – и добавил: – А вообще ты зря за них заступаешься. Если не мы, так они нас на тот свет отправят. Вопрос ведь так и стоит кто кого. Других путей теперь нет…
На место казни они пришли поздно. Трое дружинников забрасывали навозом еще вздрагивающих в предсмертных судорогах красноармейцев. Зубов с помощниками ушел допивать самогон.
Остановившись среди двора, Луганский развел руками.
– Что я могу сделать? Война не тетка: или мы их, или они нас. Повторяю, других путей нет.
– Но для чего мы это делаем? – в отчаянии спросила девушка. – Кто нам дал право убивать безвинных людей?
Луганский покосился на уходящих из пригона, запачканных в крови и навозе дружинников, швырнул мешавшую ему под ногами гальку, раздраженно заговорил:
– Большевики ненавидят нас. Они хотят обобрать нас.
Они решили навязать нашему народу свой порядок. Но этим они только обозлили всех. И народ решил уничтожить их. И хотим мы этого или не хотим, будем принимать в этом участие или нет, их судьба не изменится.
Луганский говорил что-то еще, но девушка его не слушала. Она думала об Алексее. Он тоже большевик.
Возвратившись в избу, Машутка впервые задала себе вопрос: зачем белым нужно так зверски уничтожать своих противников? И почему в селах, только что оставленных красными, она не видела ничего подобного. Вспомнились рассказы Алексея о себе, о своих товарищах, слова «представителя» в разговоре с Луганским о том, что красные хлеб беднякам раздавали. И впервые зашевелились сомнения.
Войска красных перешли в наступление. Отряд Луганского за несколько часов боя потерял значительную часть своего состава и, оказавшись в тяжелом положении, начал отступать.
Машутка была послана Луганским на соседний хутор к Чугункову с приказом во что бы то ни стало задержать противника, дать возможность эвакуировать штаб и обоз.
Однако, прискакав на хутор, она обнаружила, что дружинников там уже нет, и сейчас же повернула обратно. Миновав огороды, Машутка ужаснулась, увидев впереди, в каких-то двухстах шагах, остановившуюся пулеметную тачанку красных. Заметив всадницу, у пулемета засуетился человек в кожаной фуражке. Потом этот человек резко отпрянул от пулемета и, замахав руками, начал что-то кричать. Но она не слышала этого крика. Понукая и без того мчавшегося во всю силу гнедого, она стремилась скорее скрыться за бугор, пока не заговорил пулемет.
Глава тринадцатаяАлексей, командуя батареей, за два месяца проделал нелегкий путь отступления от Златоуста до Волги. Окруженный врагами, Златоуст продержался недолго. Захватив Челябинск, а потом и Уфу, белочехи вместе с белогвардейцами стремились как можно скорее оттеснить красноармейские части со всей линии сибирской магистрали. По бездорожью, в обстановке кулацких восстаний, отступали советские войска на запад.
Подавленный тяжестью постоянного отступления, Алексей напрягал все силы, чтобы сохранить спокойствие. Но это ему плохо удавалось. Много думал о Машутке. В первые дни разлуки с ней он утешал себя надеждой на скорое свидание. Но когда Златоуст остался позади, эта надежда исчезла.
Руки Алексея часто сами по себе тянулись к месту в гимнастерке, где были зашиты Машуткины волосы, и ему приходила мысль бросить все и поехать на поиски девушки. Но эти же руки рядом с Машуткиными волосами нащупывали ссохшийся, пропитанный кровью комок земли…
Совсем неожиданно Карпова вызвали в штаб полка и предложили ехать на курсы краскомов. Но в этот день, когда должны были начаться занятия, их пригласили к начальнику училища. В большом давно не ремонтированном зале собралось около сотни людей – от безусых юнцов до поседевших, видавших виды воинов. Хотя людей собралось сравнительно немного, в помещении было шумно.
– Ванюха! Ванюха! – кричал черноусый рябой мужчина лет сорока. – И ты здесь? Давно ли?
– Здесь, дядя Проня, здесь! – отвечал с другой стороны белоголовый, курносый парень. – А где же мне еще быть как не здесь.
– Молодец! Молодец! – встряхивая шапкой длинных волос, продолжал дядя Проня. – Заходи вечером, поговорим…
Рядом с Алексеем два парня спорили, нужна или не нужна продразверстка.
– Ты ничего не понимаешь, – говорил тот, что был повыше ростом, – без разверстки пропадем как мухи. Какая война без хлеба? Да и рабочим тоже хлеб нужен.
– Так ведь и торговать можно, обмен на товары делать. Куда бы лучше… – возражал низенький, очень живой паренек. – Недовольства-то и меньше бы было.
– Значит, и товаришки какие есть кулакам отдать. Хлеб у них, и товары им. А шиш они не хотят?
– Ты все кулаки да кулаки, – махнул рукой парень поменьше. – Разверстку-то и со средняков берут. А они многие без хлеба сидят, разуты, раздеты…
– Тут ты прав, со средняков это зря, – согласился парень повыше ростом. – А кулаков защищать нечего…
– А я и не защищаю. На черта они мне сдались…
В этот момент из боковой двери вышли два человека. Один немолодой, с желтым, морщинистым лицом, шел впереди. За ним двигался такой же высокий, но еще молодой и статный мужчина. Первый оказался начальником училища, второй был из губкома.
Поздоровавшись, начальник училища несколько раз постучал по столу пальцами и, когда в зале установилась полная тишина, сказал:
– Я должен объявить вам, товарищи, о том, что начало занятий на курсах придется отложить. – Он поднял голову, развел руки. – Не съехались курсанты. Да и здесь, в училище, не все еще готово. Ну, а чтобы даром время не терять, мы решили послать вас на село. Будете разъяснять политику Советской власти в деревне. Сейчас это нужно до зарезу.
Даже больше, чем с белогвардейцами драться. А то что же получается? С одной стороны, мы белогвардейцев бьем, а с другой им же своими ошибками помогаем. – И, как бы извиняясь за то, что занятия откладываются, добавил:
– Ничего не поделаешь, товарищи, надо ехать дней так, при мерно, на десяток, не больше. Ну о чем там говорить, что делать и как себя вести – вам сейчас расскажет представитель губкома…
Представитель прочитал обращение Владимира Ильича Ленина. В нем говорилось:
«Товарищи рабочие! Идем в последний решительный бой!»
Затем он осторожно свернул его, бережно разгладил широкими, жесткими ладонями и продолжал:
– Вот оно, оказывается, в чем дело, товарищи! Врасплох хотели застать нас иностранные захватчики, да не вышло у них. На внутреннего врага нашего надеются, но и это не получится. Теперь-то мы знаем, что надо делать, видим, кто нам враг и кто друг. Вы в деревню едете… Бедно та, батраки – это и есть Советская власть в деревне. Но тот, кто трогает середняка, он или ничего не понимающий дурак, или враг. Ну, а с кулаками разговор короткий. Их сопротивление нужно раздавить. Это они, пользуясь темно той крестьян, натравливают середняков на Советскую власть, это они хотят уморить нас и деревенскую бедноту голодом. Спекулянты… Дают середнякам на сотенку, а сами гребут тысячи. Натравливают их против власти, которая дала крестьянам землю, втрое повысила закупочные цены на хлеб, считает их своими союзниками. Говорите прямо, если кулаки возьмут в деревне верх, бедноте и середнякам будет крышка. Добра им от кулацкой власти не ждать, землю назад отдавать придется… Их друзья не кулаки и помещики, а рабочие и беднота. Пусть подумают над этим как следует. Ну, а если обнаружите там обидчиков середняков, тех, кто не понимает советской политики в деревне, не стесняйтесь, дайте им по зубам, да покрепче. Чтобы другим неповадно было. Запомните, товарищи, если мы восстановим доверие к Советской власти в деревне, тогда на верняка побьем белогвардейцев. Не восстановим – побьют нас. Так что вы не гулять едете, а воевать.
…На первое собрание в небольшом поселке Алексей пришел с представителем местной ячейки. Несмотря на позднее время, в школе застали человек тридцать спорящих мужиков. Когда входили в помещение, разговор вел бородатый рыжий мужик с черной повязкой на глазу, в грязной холщовой рубахе. Он энергично размахивал кулаками и говорил, как видно, давно и трудно, его волосы и лицо были мокры от пота.
– До какой поры это будет? – с озлоблением выкрики вал одноглазый. – Гляди, до чего дожили. – Он ткнул ку лаком в стоявший на столе глиняный черепок, на котором мигало крошечное пламя светильника. – Керосина для лампы и то нет. Чаю месяцами не видим. А им давай и давай! У Проки вчерась все имущество забрали. Нашли кулака. Мне грозить начинают. Иди, говорят, в коммунию, а то плохо будет… А я не хочу. На черта мне та коммуния сдалась? – Увидев стоящего в дверях Алексея, оратор запнулся, неловко прокашлялся, но тут же оправился и грубо спросил:
– Кто такой будешь? Поди новый налог привез?..
Алексей подошел к столу. Поздоровавшись, сел на табуретку. Одноглазый смерил его недоверчивым взглядом и бочком отодвинулся в темноту. В комнате на минуту воцарилась неловкая тишина. Алексей поднялся, всмотрелся в лица мужиков. Все они показались ему одинаково мрачными.
– Я из города, товарищи, – как мог спокойно сказал Алексей. – Поговорить с вами приехал.
– Видим! О налоге, значит. Мало еще грабите, – послышалось из угла.
– И о налоге, и о другом, – спокойно ответил Алексей, – а главное, о том, чтобы вы поняли политику Советской власти в деревне.
– Давно поняли, давно! – послышалось сразу несколько недружелюбных голосов.
– Скоро совсем без штанов оставите.
– Говорите одно, а делаете по-другому.
– На черта с ним толковать, выпроводить его отсюда!
Крики все усиливались, некоторые вскочили, затопали ногами, кто-то поднял костыль.
Алексей вынул кисет, положил на стол и спокойно, по-хозяйски, уселся на табуретку. Но когда начали кричать, что его надо выбросить в окно и выгнать из поселка, он снова поднялся и громко сказал:
– Товарищи! Я уполномоченный губкома партии, при ехал к вам обсудить обращение товарища Ленина.
Услышав о Ленине, собравшиеся стали сбавлять тон. Крики постепенно затихли, вскочившие на ноги стали садиться на свои места. Но один голос продолжал:
– Ленин-то говорит одно, а вы делаете другое. На словах вроде за середняка, а на деле шкуру с него сдираете…
– Нет, товарищи, – выждав, когда говоривший умолк, громко сказал Алексей. – Это не мы так делаем, а вы сами.
– Эва, хватил! Да что мы дураки, себе хуже делать?
– Вот не дураки, а так получается, – ответил Алек сей, – давайте-ка разбираться. Тогда и установим, кто прав, а кто виноват.
Собравшиеся приутихли. Алексей продолжал:
– Укажите мне хотя один закон или распоряжение Советского правительства, которое было бы направлено в обиду середнякам. Нет таких законов и распоряжений тоже нет.
– А Проню! Проню-то обобрали как липку, – крикнул одноглазый мужик. – Вот тебе и закон…
– О Проне я вам вот что скажу. Если он не кулак…
– Какой там кулак! – закричало сразу несколько голосов так сильно, что фитилек в черепке замигал, как будто бы его вынесли на ветер. – Своим трудом живет, батраков сроду у него не было. Самый настоящий трудовик!
– Так вот, если он не кулак, – продолжал Алексей, – даю вам слово, что завтра же ему вернут все до единой нитки. Извинятся перед ним, а виновных еще строго накажем. Накажем и тех, кто в коммуну силком гонит. За такое дело судить будем.
– Во! – крикнул одноглазый. – Это другой коленкор. Давно бы так надо, а то что это такое в самом деле…
К столу подошел невысокий в рваном зипуне, в стоптанных солдатских ботинках мужичок. Погладив редкую бородку, он погрозил сидящим пальцем и не торопясь заговорил:
– А я вам что говорил? Не может Советская власть супротив середняков пойти. Они ей не враги. Товарищ из города правильно говорит «сами виноваты». Это ведь местные власти куролесят. А кто их выбрал? Мы же сами власть им над собой дали. Нам их и к порядку призвать положено, а не огулом на Советскую власть лаять. – Он стукнул в грудь кулаком, – повысил голос: Мы своей кровью эту власть добывали. Она нам землю дала. А кто справедливые цены установил? Кулаков слушаем. А им Советская власть нож в горло. Пользуются нашим ротозейством.
Вот, значится, сами и виноваты…
Алексей качнул головой в сторону говорившего мужика и, извинившись перед ним за то, что перебивает, сказал:
– Правильно говорит товарищ. Не может Советская власть середнякам вред делать. Не может! Рабочие, батраки, бедняки – союзники середнякам. Они должны не обижать, а помогать им. И будут помогать. А середняки должны Советскую власть поддерживать и защищать. Это наша народная власть. Отдельные ошибки отдельных людей – дело поправимое. Только зевать не надо, а вовремя пресекать их. Если кулаки возьмут в деревне верх, то не только бедноте, но, и середнякам не поздоровится. Землю придется отдать, и снова золотопогонников на шею себе посадить. Выбирайте, кто вам дороже – помещики и кулаки, или свой брат трудовой народ? Подумайте как следует. К столу снова подошел одноглазый мужик.
– А что тут больно думать? – сказал он, широко раз водя руки. – Мы не супротив Советской власти, а супротив безалаберщины. Делайте вот так, как сейчас говорили, и мы встанем за вас горой. Кулаки, конечно, каждую щелку видят, куда клин можно вбить. Неграмотностью нашей пользуются. Почаще бы вот так-то приезжали к нам, оно, глядишь, и подружнее бы дело-то пошло. – И он подал Алексею жилистую, корявую руку. – Спасибо за добрые слова. И за Проню спасибо…
Когда Алексей прочитал обращение Ленина, в помещении снова поднялся шум, но теперь в голосах слышалась не озлобленность, а удовлетворение. Кто-то предложил послать Ленину телеграмму. Это предложение было принято единогласно.
День за днем Алексей все больше и больше убеждался в великой силе ленинского обращения. Каждый раз, когда он зачитывал его на собраниях и митингах, он видел, как большинство горячо одобряет ленинское обращение и как яростно встречают обращение те, кто видел в нем свой неминуемый конец.
Уезжая, Алексей радовался успехам своей работы в деревне. Теперь он понял, как правы были начальник училища и человек из губкома. Да, это была война за одного из главных союзников – за середняка. За мудрую ленинскую политику в деревне.
Окончить курсы краскомов Алексею так и не удалось. Однажды вечером их по тревоге вызвали к начальнику училища. Поджидая курсантов, начальник молча ходил около стола. Алексею казалось, что за последние дни он еще больше осунулся, постарел.
Когда курсанты собрались, начальник остановился, поднял руку, долго молча смотрел на курсантов, потом вздохнув, сказал:
– Кончилась ваша учеба, товарищи. Курсы придется закрыть. Завтра же разъезжайтесь по своим частям. – Он снова помолчал, подумал, махнул рукой. – Нет у нас времени учиться. Враги лезут со всех сторон. Сейчас на фронте дорог каждый боец. Вот разобьем белогвардейцев, тогда и за учебу. А теперь до свидания, желаю вам всего хорошего.
И вот прохладным осенним утром Алексей снова возвращается на родную батарею. В степи, всюду куда доставал глаз, заканчивали уборку урожая, молотили хлеба, сеяли озимые. Алексею то и дело встречались подводы со снопами, с зерном, с соломой. Громко звенели девичьи песни. В ответ на приветствие Алексея крестьяне стаскивали картузы, приветливо махали руками.
На развилке Алексей остановил шедшего за возом мужика в домотканной косоворотке с обветренным, широким лицом, обрамленным курчавой бородой. Поздоровавшись, Алексей спросил, как ему пройти к Михайловской роще. Мужик окинул Алексея суровым взглядом, недоверчиво пожал плечами и, помолчав, переспросил:
– Тебе к Михайловской, или к Михайловской?
Алексей вынул блокнот, перечитал запись.
– У меня записано к Михайловской.
– А ты посмотри еще раз, – настаивал мужик.
Алексей развернул планшетку и снова сказал, что по всем данным ему нужно к Михайловской.
В глазах мужика сверкнуло презрение, он недовольно кашлянул и с укором сказал:
– Ежели комиссары к белым бегут, тогда о чем и говорить?
– Как это к белым? – насторожился Алексей. – Я иду в свою красноармейскую часть. Откуда ты взял такую чушь?
Лицо мужика расплылось в улыбке.
– Вот так бы и говорил сразу, что к красным идешь.
А то заладил себе в Михайловку да в Михайловку. Поди тут с тобой разберись. Хутор Михайловский вон там, семь верст отсюда. – И он показал рукой вперед. – А Михайловский за бугром вот, верста поди не больше. Ну а рощи, так они, как полагается, около обоих хуторов есть. Только тут стоят свои, красные, а там беляки, будь они трижды прокляты. Чтобы им ни дна ни покрышки, паразитам.
Мужик вздохнул, с укором посмотрел на Алексея, как будто он был виновен в том, что в Михайловском стоят белые, и добавил: Их, и изголяются над народом… Страсть… Особо офицеры отличаются. Ну и свои, богатеи, тоже из кожи лезут… Вот и мучают народ ни за што ни про што.
– Я слышал, что в вашем селе красных тоже недолюбливали. Теперь передумали, значит? – улыбаясь, спросил Алексей.
– Это кто как, – резонно ответил мужик. – Многие передумали. Смекнули, что к чему. Ну, а кто потуже на ум, те еще думают. Про толстосумов я не говорю, те – враги.
Распростившись с крестьянином, Алексей зашагал дальше. Теперь его радовало все: и опутанное сплошной паутиной жнивье, и светящее по-осеннему, но еще ласковое солнце, и неумолчный гвалт большой стаи грачей и галок, тучей летящих со стороны села.
На батарее было оживленно. Ожидали полковое начальство. Красноармейцы чистили орудия, чистили лошадей, приводили в порядок потрепанную одежду, некоторые стригли волосы, брились.
Начальство приехало под вечер. Выстроив личный состав на лесной поляне, Алексей взял под козырек, а второй рукой поддерживая шашку, пошел навстречу к прибывшим. Однако, не дойдя несколько шагов до сошедшего с коня командира, он остановился и, удивленно взмахнув руками, побежал обратно к бойцам.
– Товарищи! – обрадованно закричал Алексей. – Да ведь это же приехал товарищ Калашников, Василий Дмитриевич. Наш человек, до самых костей наш, – волнуясь, он сделал полный поворот и хотел было отдать командиру полка рапорт, но, открыв рот, теперь уже растерялся окончательно. Рядом с Василием Дмитриевичем стоял комиссар полка Данила Иванович Маркин.
Улыбаясь, приставив руку к козырьку, Маркин выжидающе смотрел на командира батареи. И тогда Алексей молодцевато щелкнул каблуками и, вскинув руку, начал рапорт.
После осмотра батареи, Калашников попросил собрать бойцов, чтобы поговорить с ними.
Как всегда посыпались вопросы.
– Товарищ командир полка, скажите, бежать долго еще будем? Зайцы, и те побегут-побегут, да и сядут, а мы без передышки жарим.
– На черта наша батарея, если снарядов нет?
– Ботинки совсем изорвались. Нельзя ли заменить?
– О хлебе надо бы подумать. Ноги скоро таскать не будем…
Отвечая на вопросы, Калашников обещал прислать снаряды и обмундирование. В отношении отступления сказал, что это будет зависеть от самих красноармейцев и от общего положения на фронте. Однако добавил, что обстановка сейчас значительно изменилась и надо ожидать серьезных перемен к лучшему.
Потом выступил Маркин.
– Положение, товарищи, у нас на сегодняшний день очень трудное, – вздохнув, сказал-он. – По Уралу, по Сибири, по Дальнему Востоку черными тучами ползут полчища врагов Советской власти. Купленные и обманутые белочехи, японцы, болтающие о свободе и демократии и под шу мок убивающие тысячи советских людей, американцы, англичане, французы и не мало других интервентов идут на нас походом. – Маркин помолчал, обвел взглядом бойцов и, видя, с каким серьезным вниманием они прислушиваются к его словам, решил рассказать им подробно о положении Советской республики и о силах ее врагов. – Не в меньшей мере, – продолжал Маркин, – поднялась на нас и внутренняя контрреволюция. Под защитой иностранных штыков, как грибы, растут враждебные нам правительства.