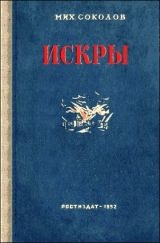
Текст книги "Искры"
Автор книги: Михаил Соколов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 38 страниц)
3
Они въехали в лес. Солнце скрылось за деревьями, повеяло прохладой, и легче стало дышать. Оксана тронула брата за плечо и оглянулась. По дороге за ними скакал всадник. «Яшка», – подумала она и встрепенулась. Это был действительно он.
Яшка, поровнявшись с ними, осадил лошадь, сиял картуз и провел рукой по черным вьющимся волосам. Устало и недовольно он сказал:
– Здравствуйте, Оксана! Ну, я вас не виню. А почему ты ничего не сказал? – обиженно посмотрел он на Леона. – Эх, Левка, нехорошо ты, не по-дружески делаешь!
– Да чего ты на меня-то напал? Оксана уезжает, а я виноват. Видали такого? – шутливо отозвался Леон. – Отпусти подпругу.
Яшка молодцевато спрыгнул на землю, стал отпускать подпругу, а Леон, отъехав немного, вполголоса сказал сестре:
– Не разрешай ты ему, бога ради, приезжать к себе. Помни: Яшка ничего зря не делает. С ним свяжешься – не развяжешься.
– Хорошо, – ответила Оксана, почти не слушая брата и с интересом наблюдая, с какой ловкостью Яшка, гарцуя, управлял конем с помощью поводьев и шпор.
Когда Яшка снова подъехал к подводе, жеребец его протяжно заржал. Яшка жиганул его плеткой и так натянул удила, что жеребец поднялся на дыбы. «Нечистый тебя разбирает не во-время», – досадовал мысленно Яшка и обратился к Оксане, впервые называя ее по имени и отчеству:
– Вы каким поездом едете, Оксана Владимировна? Не очень торопитесь, я смотрю.
Оксана ответила, что едет почтовым и что, по ее расчетам, времени до прихода поезда еще много.
Некоторое время никто не знал, о чем говорить. Леону Яшка помешал закончить разговор с Оксаной, а Оксана ждала, пока заговорит Яшка. Теперь она верила, что он в отношении ее имеет серьезные намерения, и это ей льстило. «А пусть его. Почему обязательно надо быть резкой с ним?»– подумала она и тут же поймала себя на мысли, что ей не хочется рвать с Яшкой и не хочется делать так, как советует Леон. «Это нечестно, жестоко, – спорила она про себя с Леоном, ища оправдания. – Быть может, Яков из-за меня и с отцом поссорился и завтра очутится на улице, потому что отец его не любит всех нас. И он ничего сейчас от меня не требует».
Яшка видел: он незванный гость, и ему стало обидно. Что плохого, если он решил проводить Оксану? Но он подавил в себе начавшееся раздражение и весело спросил:
– Ну, Оксана Владимировна, когда же вы теперь к нам пожалуете? На рождество не приедете?
Оксана скосила глаза на Леона. Тот сидел ссутулившись, хмуро посматривая куда-то в степь, и даже не шелохнулся. Посмотрел на Леона и Яшка и понял: Леон начинает мешать ему с первых же шагов. Что же будет дальше в таком случае?
– Нет, Яков! Это не совсем для меня удобно – ехать сюда зимой, – помедлив, сказала Оксана.
– Жаль, – откровенно пожалел Яшка и добавил: – Тогда мы с Левкой приедем.
Леон посмотрел на него и промолчал, а Оксана ответила:
– Буду очень рада. А на самом деле, Лева, приезжай на рождество! Посмотришь город, в театр сходим. Кстати, поговорим с мамой о том, о чем я говорила тебе.
Леон видел, что Яшка сделал ловкий ход, и ему ничего не оставалось, как согласиться с предложением Оксаны. Сразу все нашли общий язык, и разговор принял непринужденный характер. Яшка привязал своего коня к дрогам, сел рядом с Оксаной и, обращаясь к Леону, сказал:
– Сегодня у меня с отцом был мирный разговор. Расспрашивал он о тебе, Леон: мол, серьезное ли у вас дело с Аленкой и что ты думаешь делать? Ну, я расписал все как полагается, а тебе вот что хочу сказать: женитесь хоть нынче с Аленкой, я никогда промежду вами не стану. Это твердое мое обещание.
– Что ж, спасибо, – сказал Леон. – Только ты отцу так скажи, а не мне.
– Придет время, скажу. Надо выждать. Все одно для Аленки за сто верст кругом женихов нету. Это уж ты мне доверь – ублажать всяких сватов.
– Яков, ну как вам не стыдно говорить об этом! – смущенно сказала Оксана.
– Чудная вы, Оксана! Никакого тут стыда нет, если от этого зависят две жизни, – ответил Яшка и мысленно прибавил: «А третья – моя».
4
Проводив Оксану, Леон заехал к лесничему поговорить о рубке сушняка. Яшка ехал верхом следом за ним и молчал. Леон, догадывался, почему он мрачный, и хотел было отвлечь его разговором о хозяйственных делах.
– Ваши уже договорили себе делянку? – спросил он.
– Не знаю, – хмуро ответил Яшка.
– А ты будешь говорить с лесничим?
– Оно мне без дела.
Самого лесничего дома не оказалось, ушел на охоту. Сторож-лесник объяснил, что хворост будет отпускаться только по разрешению хуторского атамана, а если Леон иногородний, то он должен прежде пять дней отработать в лесу на рубке сушняка и расчистке зарослей, а потом только получит разрешение брать хворост. Леон в душе возмутился этим новым порядком, но ничего не сказал, чтобы не портить отношений, намереваясь после поговорить с самим лесничим.
– Ты слыхал? – спросил он у Яшки, когда они отъехали от домика лесника.
– Не слыхал.
– Новый порядок выдумали: мужики пять дней должны работать за хворост, а казакам осталось все по-старому.
– Одни дураки выдумали, а другие будут выполнять, – безучастно отозвался Яшка.
Леон не стал больше разговаривать.
Они ехали по узкой просеке между высокими дубами. По обочинам зеленой межой стоял пырей. Лошадь Леона то и дело на ходу хватала его, гремя удилами, а Леон и внимания на это не обращал, он думал о предложении сестры переехать в город. Хутор не сулил ему ничего хорошего, но город пугал неизвестностью. «Ну, перееду в город. А на какую работу поступать? – рассуждал он про себя. – Пока Оксана сделает меня образованным, можно и с голоду околеть. Да и люди там совсем другие – чужие, и порядки у них, наверно, не для нашего брата – мужика. Вот с Илюшей потолковать, чтобы пристроил куда-нибудь на шахте, – это другое дело», – вспомнил он о зяте. Но одно слово «шахта» вызывало у Леона необъяснимое чувство страха. Шахтер – последний человек, как говорили в народе.
– Яков, а как ты смотришь на то, чтобы бросить хутор? – спросил он у Яшки. – Ты бросил бы на моем месте?
– А? – очнулся Яшка. – Я и на своем месте не удержусь в нем. Но тебе нечего мыкаться по белому свету. Вот женишься на Аленке – и сразу дела поправишь. Проси только приданого побольше.
«Гм, и то правда», – в уме согласился Леон. Но какое-то чувство подсказывало ему: нет, не так это просто жениться на Алене и тем более получить хорошее приданое. Но ему тяжело было расставаться с хутором и хотелось верить словам Яшки.
За лесом опять повстречался дед Муха. Он сидел у дороги, одинокий и маленький, и горькие слезы текли по его впалым щекам.
– Чего ты, дедушка? – удивленно спросил Леон, остановив лошадь, и тут заметил, что у деда не было ни байбаков, ни лисицы. – А где твоя добыча?
Дед Муха, всхлипывая, как ребенок, махнул рукой и сквозь слезы проговорил:
– Офицерья отняли. Лесничий. Да еще ударил плеткой.
Яшка злобно оглянулся вокруг, но никого не было видно. Только коршун кружился возле леса, что-то высматривая. Яшка, нахмурив брови, сумрачно сказал:
– Бросай хутор, Левка. Женись и уходи отсюда!
Глава седьмая1
Дороховы молотили.
Возле балагана виднелся небольшой ворох пшеницы, немного поодаль – приплюснутая к земле скирда, большая куча половы.
На почернелом, старом брезенте – лантухе в ряд стояли Игнат Сысоич, Настя и Леон, веяли зерно. Сидя на корточках, Марья выбирала крупицы земли, пустые колосья.
– Ниже держи, дочка, зерно в полову идет, – заметил Игнат Сысоич. Он был в жилете, надетом поверх рубахи. Лицо его почернело от пыли, и было видно, что Игнат Сысоич сильно утомился. Но он продолжал веять.
Дул порывистый западный ветер. Из-за бугра выползали синие тучи, грозились непогодой. Игнат Сысоич торопился. Наполняя цыбарку до отказа, он высоко подымал ее над головой и, встряхивая, сыпал зерно на старый лантух – брезент. Работа муторная. Опоздал опустить цыбарку – ветер унес зерно в сторону вместе с половой. Не поднял цыбарку в нужный момент или поток пшеницы не уменьшил – полова пошла в зерно.
– Вот губодуй, прости господи! – пожаловалась Настя, изнеможенно опуская цыбарку.
– Бросим, отец, все равно дела не будет, – посоветовала Марья.
– Нельзя, дождик заходит. Как-нибудь перевеем. Что ж теперь делать?
Леон собрал полову, стал перевеивать. Остья и пустые колосья вихрем полетели в сторону, стлались по земле золотой дорожкой, но на брезент редковатой струйкой сыпалось зерно.
– Видите? – глазами указал он на пшеницу. – Придется заново перевеивать.
Игнат Сысоич крепился: веять было тяжело, а ждать ровного ветра – рисковать урожаем.
– Перевеять недолго, – сказал он ободряюще и, наполнив цыбарку, поднял ее на уровень головы, ловким движением рук пустил небольшую струйку половы.
Но ветер вдруг усилился и вместе с половой веером рассыпал зерно по сторонам. Терпение Игната Сысоича иссякло: он остервенело швырнул свою посудину на ворох и сел на каток в стороне.
– Бросайте! – с досадой махнул он рукой. Немного погодя он надел пиджак и куда-то ушел, а через несколько минут был на току Нефеда Мироныча.
Ток Загорулькиных обступили две огромные, длинные скирды. У одной из них стояла арба, и с нее длинными вилами работник подавал тяжелые снопы наверх другому работнику.
На току, как муравьи, сновали человек пятнадцать рабочих. Одни в сверкающих на солнце ведрах подносили зерно от ворохов к веялке, другие веяли его, насыпали в мешки, взвешивали, третьи складывали мешки в стороне в бунт, и никто не стоял без дела.
На большом новом брезенте золотым курганом высился многопудовый ворох ячменя, рядом с ним пирамидой подымался вверх ворох намолоченной пшеницы. Возле нее, хлопая крыльями, пылили две веялки, суетились белолицые от помады девчата.
Игнат Сысоич подошел к высоко стоявшей на колесах будке, несмело заглянул в распахнутые двери. За будкой с теневой стороны загремел цепью кобель.
Алена вышла из будки, крикнула на собаку:
– Пошел, Рябко! Цепь готов порвать, медведь окаянный!
Игнат Сысоич поздоровался и заметил, что в одной руке у нее был нож, а в другой – картошка.
– Обед варим? Помогай бог!
– Спасибо, дядя Игнат. Чищу картошку, да ну ее! Лучше бы веять, чем в этой бане сидеть под железом.
– Успеешь еще, дочка, навеяться в жизни. Чисть, покуда можно, – ласково сказал Игнат Сысоич, а сам подумал: «Ловкая невестка! Глаз у тебя, сынок, не дурак». И спросил, где Нефед Мироныч.
Алена силилась держаться спокойно, но это было не так легко, и глаза выдавали ее смущение. Ведь перед ней стоял будущий свекор, да еще называл ее «дочка»!
– На косилке батя, за курганом. Я сбегаю, – ответила она и спрыгнула с порожка.
Но Игнат Сысоич велел ей заниматься своим делом и пошел через ток.
«„Дочка“. Должно, знает дядя Игнат. Господи, и какие хорошие люди есть на свете!» – думала Алена, провожая его признательным взглядом.
Завидев у верхних гонов лобогрейку, Игнат Сысоич зашагал к ней. Лошади, как по метке, ровно шли вдоль высокой стены гарновки. Потный и серый от пыли, на косилке сидел постоянный работник Загорулькина Семка, вилами караулил валок. Только один скинет – другой у ног уже теснится. И некогда было Семке ни вздохнуть свободно, ни мокрую рубаху от спины оттянуть, чтобы хоть на секунду пропустить воздух, к потному телу. А кучеривший Яшка все подстегивал лошадей.
– Машина! – заметил Игнат Сысоич. – Железо косит, а человек мается. Как вареный сидит! А ну-ка цельный день так!
Яшка узнал Игната Сысоича, остановил лобогрейку и бойко крикнул:
– Здорово дневали, дядя Игнат!
– Слава богу, племянник! А ты што это как пугало на бакше уселся? Гляди, парень, штаны протрешь от такой работы. Отец где?
Яшка, нисколько не смущаясь, смеясь, ответил:
– Мы напеременки, дядя Игнат: пять кругов я, пять кругов Семка. Отец, видишь, других до машины не допускает. Вот и паримся. Да вон и сам он идет.
2
Нефед Мироныч степенно шагал между копнами. Слышался его сердитый жесткий голос:
– Кто так кладет? За что я вам деньги плачу? Или у вас руки отсохли?
Заметив Игната Сысоича, он свернул к нему, вяло подал руку. От Яшки он узнал, что Оксана действительно вроде как в родстве с помощником наказного атамана, и хотя она ему не понравилась, он считал, однако, что она, а стало быть, и Игнат Сысоич могут ему пригодиться при выборах хуторского атамана.
И он ласково, стараясь загладить прошлую свою вину, спросил у Игната Сысоича, зачем он пришел.
Игнат Сысоич сказал, что хочет попросить веялку на день-два. Нефед Мироныч задумчиво почесал черную бороду, как бы что-то рассчитывая, и с живостью ответил:
– Та-ак. Значит, веялочку надо? Что ж, можно и это. Мы люди не чужие. Пойдем на ток, побеседуем.
– Постой. Ты ж покажи, как ты ею управляешь, косилкой.
Нефеду Миронычу хвалиться лобогрейкой – что бутылку хорошей водки выпить.
– С дорогой душой, Сысоич, – согласился он и стал объяснять, показывая на пальцы бруса. – То вон зубки. Они промежду хлеба как гребень идут, штоб, значит, колос ровнее попадал под косу. А то, в середине их, – видишь? – то ж самое и есть коса.
Игнат Сысоич прикинулся удивленным:
– A-а, вон оно как!
– А это ходовое колесо. Оно так придумано, что когда машина идет, от него по зубчикам другое колесо в середке крутится…
– Ишь ты!
– И сюда отдает. А это косогоном зовется; он косу туды-сюды гоняет.
– Ловко!
– А это крылья. Они стеблины пригинают, штоб ловчее резать. А коса тут как тут: чик – и готово. А ты вилами только скидай, заместо игрушки, – говорил Нефед Мироныч, но Игнат Сысоич уже видел, какая была спина от этой «игрушки» у Семки.
– Хитро придумано! Она с чужой земли или у нас сработана?
– С чужой. Где уж нам! – Нефед Мироныч важно надул щеки и наставительно заметил: – Да и зачем это нам, Сысоич? Нам за пшеничку этих штук из-за моря сколько хошь привезут. С чужих, с чужих государств она.
Когда проходили через ток, Игнат Сысоич заметил, как при их появлении сильней зашумели веялки, более прежнего засуетились вокруг них девки, поднося зерно, отгребая провеянное, и он подумал: «Пятнадцать копеек в день платит, да и то, небось, не каждой, а соку выжмет, что и за полтинник не наешь».
– Чего раскрутил, чего раскрутил? Не знаешь, зерно пойдет в полову? Или скоро надо? – незлобно пожурил Нефед Мироныч высокого худощавого парня, крутившего первую веялку, и, обернувшись к Игнату Сысоичу, как бы желая подчеркнуть, что он вовсе не строгий, пожаловался:
– Вот видишь? Нету хозяина – чуть шевелются, а покажись – готовы враз все вороха прокрутить.
– Да они вроде славно веяли, я проходил.
– То чужому человеку показать: мол, поглядите, как мы работаем! Ты их не знаешь, а я душу каждого вижу насквозь.
Они вошли в будку. Склонившись над низким столиком, Алена резала помидоры и лук, то и дело смахивая рукавом пот со лба. Накаленная солнцем оцинкованная железная крыша будки дышала жаром.
– Может, по рюмочке пропустим? – предложил Нефед Мироныч.
Игнат Сысоич готов был не поверить своим ушам, но объяснил это неожиданное гостеприимство влиянием Оксаны на Яшку, а того на отца – и согласился.
– Да ежели по одной – можно. Я забыл уж, какая она и есть, от начала пахоты не пробовал.
– Наше дело такое, брат: зиму гуляй, а уж летом – ни-ни.
Нефед Мироныч подчеркнуто ласково попросил Алену, чтобы она подала чего-нибудь закусить, и достал полбутылки водки.
Алена, удивленная не менее Игната Сысоича, думала: «Уж не меня ли пропивать будут?» Поставив на столик помидоры с луком и тарань, она удалилась в тень за будку, продолжая свои кухонные дела и слушая, о чем отец разговаривает с Игнатом Сысоичем. Но она обманулась в своих предположениях. Нефед Мироныч сначала говорил о том, о сем, но когда в полбутылке осталось на донышке, повел речь более смело:
– Лекарь сказал? И чего он там понимает! Корова на ногу не ходит, а он ее лечить. Я так думаю, Сысоич: на ярмарку тебе некогда, а я собираюсь; подвяжем корову заодно – и с богом. Ты мою возьмешь, рябую можно.
Игнат Сысоич пьянел быстро, но ума не терял.
– То ж бабка, никак, Мироныч. На греца ж она мне сдалась!
– Возьми телку Лыску, на лето корова будет, – уступил Нефед Мироныч.
– Лысую? Долго – на лето. А с моей ты што делать будешь?
– А чего с ней? Кроме, как менять, – нечего. С десятку, гляди, прикинуть доведется барышнику.
Нефед Мироныч достал вторую полбутылку и вновь наполнил стопки.
Игнату Сысоичу не нравилась лысая телка – ей было полтора года, и непородистая была она, – и он решил увильнуть от окончательного ответа.
– Должен я, Мироныч, с командиром своим посоветоваться.
– Ха-ха-ха! – хрипло захохотал Нефед Мироныч. – Боишься продешевить? – Чокнувшись, он выпил водку, понюхал кусочек хлеба, закусил помидором. – Ну, ладно, Игнат, согласный я. Так и быть, возьми Зорьку-цименталку. Жалко, да бог с тобой, – махнул он рукой, будто отдавал половину хозяйства.
Игнат Сысоич удивленно выпучил на него хмельные глаза, стараясь узнать причину такой необычной щедрости, но Нефед Мироныч ожидал этого и не смотрел на него, занимаясь таранью.
– Это же первый сорт корова, Мироныч!
– Чума с ним, с первым сортом! Раз даю – бери. Ну, дай бог! – чокнулся он опять и, подождав, пока Игнат Сысоич поднесет стопку к губам, вылил свою незаметно в стакан.
Игнат Сысоич выпил, покряхтел от удовольствия и покачал головой.
– Не пойму я тебя, Мироныч, что ты за человек. То до атамана меня тянешь к ответу, то корову даешь – первый сорт. Не пойму, – раздумчиво проговорил он, выбирая икру из рыбы.
– Бросим про это, Игнат! Бросим! Мы люди свои, и надо по-свойски жить! – Нефед Мироныч снова наполнил стопки, придвинулся поближе к Игнату Сысоичу и приступил к самому главному. – Ты вот что скажи, Сысоич, я давно собираюсь спросить, да не доводится все: в Черкасском как у тебя – родня большая чи такая же, как мы, грешные?
Игнат Сысоич по-хмельному неровно держал граненый стаканчик на уровне бороды и хитровато щурился. Теперь-то он расскажет Загорулькину, кто он такой, пусть в другой раз не задирает носа!
– А ты думал, Дорохов простой человек? – спросил он и засмеялся. – Ха! Дорохов Игнат – мужик, но он, брат, не простой человек. Не-ет, не простой. – Он повел пальцем перед лицом Нефеда Мироныча. – Дочку мою Аксюту видал?
– Красивая барышня.
– То-то! А ученая какая! Всем хутором не сговоришь с ней! Все науки превзошла!
– Знамо дело, городской человек.
Игнат Сысоич смутно улавливал смысл своих слов. В другое время он никогда не стал бы так говорить, но сейчас ему хотелось похвастаться и Оксаной, и богатой воспитательницей, и важными людьми, бывающими в доме Оксаны, и он говорил обо всем этом с наслаждением, не понимая, почему интересуется Нефадей его дочкой, ее знакомыми и почему угощает его водкой.
– Вот у ее воспитательницы, Ульяны Владимировны, родня есть, полковник. Понял? Полковник Суховеров, а не кто-нибудь!
Игнат Сысоич вконец опьянел. Лицо у него сделалось красным, глаза посоловели, жмурились, но Нефед Мироныч видел, что он хорошо помнит, что делает, и верил ему.
– Полковник? – искренне удивился он.
– А ты как думал? Ну, всего доброго!
– Дай бог! – Нефед Мироныч, чувствуя, что хмелеет, опять вылил водку в стакан и, достав другой, продолжал – Вон оно дело-то какое, а я и не знал. Давно все норовлю погутарить с тобой. Дарье как-то велел: мол, позови Марью с Сысоичем, посидим, по рюмочке протянем. А она говорит, он, мол, на нас сердитый, не схочет близость заводить. А я думаю: пшеничку вернул, цельный мешок, должок не требую. Почему так? А ты и сам пришел. Люблю, Сысоич! – И как бы между прочим, но с намерением он подчеркнул, что и его родня не хуже: – У меня сват был, царство ему небесное, тоже чин громадный носил! И кавалер полный.
– Куда там свату твоему! – пренебрежительно махнул рукой Игнат Сысоич. – Наш Суховеров при самом наказном атамане состоит. Со мной за ручку здоровался, как я был в Черкасском. Вот как с тобой, сидел и водку самую дорогую с чужих государств пил со мной. Дочка мне почтение привезла от него. Хороший, говорит, батя твой, Аксюта, чистый человек.
Загорулькин наполнил стопки уже из третьей полбутылки. Лицо у него подобрело, брови расправились, точно никогда и не хмурились, и смотрел он на Игната Сысоича ласково, дружески, словно ничего плохого между ними не было и не будет. Порезав еще два помидора, он полил их маслом, достал из ящика сало и, разрезав его на кусочки, подсунул все Игнату Сысоичу.
Долго они говорили о своих делах и перед вечером распрощались по-приятельски.
– Как энтот ворошок перевеют, так и приезжай. Надо – возьми две веялки, я молотить пока буду. А корову хоть завтра бери, – обняв Игната Сысоича, говорил, провожая его, Нефед Мироныч.
– Ви-идит бог, душа ты человек, Мироныч! Ей-богу, правду, говорю. А люди ж толкуют…
– Какие там люди, Сысоич? Наши, кундрючевские? «Люди»! – Нефед Мироныч презрительно оттопырил большую красную губу. – От зависти все.
– А то отчего? Знамо дело, от зависти. Ну, прощевай, Мироныч. За веялочкой я приеду.
– Час добрый, Сысоич. Гляди, про Черкасское не забудь, как договорились.
3
Игнат Сысоич не знал, как и показаться на ток. Он уже раскаивался, что пошел к Загорулькину в такое время, когда дорога каждая минута, и ругал себя, что согласился выпить, но хмель от этого не проходил. Недолго думая, он свернул в балку и охладил лысину ключевой водой. Однако это не помогло. Тогда он разделся, искупался в ручье и пошел к себе.
Ветер стих, и наступил погожий вечер. Солнце спряталось за молочно-белые облака и распустило оттуда величественный золотой веер лучей. В воздухе стояли запахи хлебной пыли и дыма от костров.
Марья, наказав Насте навести порядок дома и полить капусту, отправила ее в хутор, а сама с Леоном осталась убрать на току.
Игнат Сысоич подошел к ним торопливо, деловито осведомился:
– Много навеяли?
Марья посмотрела на него, и ей все стало понятно.
– А ты где ж это навеялся, я б хотела знать? – ответила она вопросом и с обидой в голосе продолжала: – Бесстыжие твои глаза! Люди годинкой спешат прибраться, а он нализался, как на престольный праздник. Тьфу! – плюнула она и брезгливо отвернулась.
Игнат Сысоич стал виновато оправдываться:
– Веялочку договорил. Ну, он поставил полбутылочки, куда ж ты денешься! И корову променял… на Зорьку..
Последние слова, вопреки его ожиданиям, не изменили настроения жены.
– Зорьку-цименталку за нашу корову? – Марья неверящими глазами уставилась на мужа. – Что вы, оба спьяну ума решились?
Игнат Сысоич подтвердил, что Загорулькин на самом деле отдает свою симменталку за их хромую корову, но Марья не утихомирилась, а стала еще злее ругать и мужа и Загорулькина.
– А чего ради он тебя угощал? Ты думаешь, эта старая лиса задарма с тобой балясы точил в такую горячую пору? Да он и нас с тобой на баз загонит за Зорьку! – И неожиданно заявила: – Не дам я свою корову! Сама на ярмарок погоню, а не дам!
Игнат Сысоич не ожидал, чтобы жена отказалась от породистой коровы, и начал было спорить, но Марья не стала его слушать и ушла домой.
– К добру ли, батя, напоил вас Нефадей? – спросил все время молчавший Леон. – Зря вы согласились.
– Знамо дело, не к лиху. Это матери шлея под хвост попала, должно. Да я как рассказал ему, какие мы есть, так он способный теперь Аленку к нам прислать, а не только корову отдать. И отдаст, накажи господь, не брешу.
Леон видел, что отец изрядно пьян, и умолк, зная, что сейчас разговаривать с ним бесполезно.
Шлепая по сапогу хворостиной, явился Федька. Из-под картуза его по-казацки выглядывал чуб, рубашка была расстегнута, по-яшкиному убрана под шаровары, и от этого он казался немного выше ростом.
– Кончил? Дело есть. Ваши куда ушли? – спросил он, осматриваясь.
– Отец вон под скирдой бурчит. Загорулькин напоил в стельку; что-то затевает, жила проклятая!
Федька посмотрел на Игната Сысоича, крикнул:
– Добрый вечер, дядя Игнат! С праздником вас дармаковским!
Но Игнат Сысоич сам с собой обсуждал какие-то планы жизни и не слышал.
По дороге в хутор Федька объяснил свое «дело»: жена Егора Дубова, Арина, попросила его вымазать дегтем ворота вдове Гашке, чтобы та не отбивала Егора.
– Мол, ребячье дело, вроде, сручней нам. Ну, я сказал, чтоб не беспокоилась: все будет сделано честь по чести.
– А может, завидки берут кой-кого? – пошутил Леон.
– Ну-у, что ты! Бабонька-то она в самый раз, а только я тут ни при чем.
Леон не хотел позорить Гашку и предложил вымазать дегтем ворота хуторского правления.
– За Настю? – спросил Федька. – Я с дорогой душой, хоть самому Калине. Тогда уж за всех девчат, к каким атаман приставал. А Яшка не выдаст? Казак, как ни говори.
4
Поздней ночью, когда все спали, ребята сделали озорное дело, а утром следующего дня за бродом, где собирается стадо, бабы таинственно передавали друг другу потрясающее известие:
– Гашка осрамилася!
– Да чего там Гашка? Василь Семенычу правление дегтем раскрасили.
– Да ну? Ой-ёй-ёй! Срамота, батюшки-светы!
– Так и надо ему! Не будет к девчатам лезть.
Любопытные толпились у правления, у Гашкиной хаты, рассматривая дегтярные пятна, судачили.
Леон мазал правление сам. По два больших креста поставил на воротах, на парадном; меньшими пометил ставни.
Долго сиделец и сторож состругивали позорные метки, но деготь успел глубоко впитаться в дерево и коричневые кресты вновь проступали наружу и еще яснее были видны на свежеобструганных досках.
Калина, как только узнал, что случилось, уехал куда-то на дрожках и долго не показывался в правлении. А Гашка топором подрубила столбы, к которым были прикреплены ворота, поставила на их месте старый плетень, потом изрубила ворота на дрова, убрала в сарай и, затворившись в хате, вволю наплакалась.
На том бы дело и кончилось и о нем могли забыть через неделю, но Егор заподозрил во всем жену. С того и началось…
– А-а-й! Ой, боже ж мой! – понеслись по улице душераздирающие женские крики.
В следующий миг калитка во двор Дубовых распахнулась, и в длинной красной рубахе без пояса на улице показался великан казак Егор Дубов. Чуб его растрепался, как конопля, длинное бритое лицо от водки было багрово-красным. Намотав на руку черную косу жены, он вытащил Арину на улицу и стал бить.
– Ой, мамочки! Пропала я, люди добрые! – вскрикивала Арина.
– Иди! Умела мазать? – гремел Егор на всю улицу. – Умела срамить людей, я спрашиваю?! – И, размахнувшись, так ударил Арину, что она вскрикнула и безжизненно повисла на его руке.
А Егор все тащил ее по улице, по широкой пыльной дороге и все бил и ругался.
Со всех сторон, как на пожар, бежали бабы, кричали на Егора, плакали, звали наблюдавших со дворов казаков. Но грозен был кулак Дубова, и никто не решался помочь горю ни в чем не повинной казачки.
Стоявшие в стороне ребята все это видели и растерянно переглядывались между собой. Леон обернулся к Яшке и Федьке, тихо сказал:
– Надо выручать. Это черт знает что мы наделали! – и направился к Егору.
Яшка поддернул шаровары, нахлобучил картуз и, откинув руки назад, медленно тронулся следом за ним.
Федька на всякий случай взял в руку камень.
Леон тронул Дубова за руку:
– Егор, брось! Она не мазала.
Егор некоторое время молчал, разъяренными глазами смотрел ему в лицо, потом, высвободив свою руку, вдруг неистово заорал ругательства.
– Ударит, – шепнул Яшка Леону, и в этот миг Егоров кулак мелькнул в воздухе.
Леон успел отскочить назад. Удар пришелся по фуражке, и она полетела в дорожную пыль.
– Эх, казак, не обижайся! – крикнул Яшка и ударил Егора в лицо кулаком. Потом поправил картуз, отошел в сторону и как бы стряхнул что-то с руки.
Егор зашатался, широко шагнул в одну сторону, потом в другую и, закрыв глаза, руками ловя воздух, упал на колени, как падает бык на бойне. Из носа, из рассеченной губы у него пошла кровь.
И тут только казаки бросились предупредить уже конченную драку.
Это было днем, а вечером хутор взбудоражили другие события.
Нефед Мироныч ездил в город по хозяйственным делам. Засветло вернувшись домой, он немного отдохнул и стал собираться в поле. Когда он запрягал лошадей, бабка сказала ему:
– Ты медку накачал бы. Ульев сколько в саду, а чайку попить до суседа иди. Страмота одна.
– Некогда, послезавтра будем качать.
– Тебе завсегда некогда, – недовольно ворчала бабка. – Все на базар норовишь увезти, а свои гляди да облизывайся.
– Ах, боже мой! – раздраженно сказал Нефед Мироныч, бросая хомут. – Да што вам, перед смертью приспичило? Это ж беда!
Взяв миску, он пошел в сад, вскрыл улей и только взял в руки замурованную пчелами рамку, как услышал, что в саду кто-то есть. Вернувшись во двор, он сунул бабке рамку с медом, взял Яшкино ружье и побежал в сад. Через минуту там раздался выстрел, и тотчас же кто-то детским голосом закричал:
– А-а-ай!
Нефед Мироныч посмотрел между деревьями, присел и увидел: на высокой каменной изгороди, отделявшей сад от улицы, головой на улицу, а ногами в сад повис мальчик. Сгоряча он, видимо, еще пытался убежать, взобрался на стенку да так и остался на ней.
– Кто это? Чего это ты? – встревоженно спросил, подойдя к нему, Нефед Мироныч и тронул было мальчика за ногу, да брезгливо отдернул руку: нога была в крови.
– Я больше не буду, дяденька! Больше не буду! – испуганно лепетал детский голос.
– Чей ты? У тебя где болит?
– Дубов. Ой, ноженька! Ой, маменька родная! – стонал мальчик, намереваясь перекинуться через стенку на улицу.
Нефед Мироныч некоторое время постоял в раздумье, соображая, как ему поступить, и у него как-то само собой сорвалось с языка:
– Ты хочешь на улицу? Давай я тебе помогу. – И, взяв подмышки, поднял и опустил мальчика на другую сторону каменной изгороди. – Ты, парень, не обижайся. Больно, небось?
Мальчик отполз на дорогу, и к нему крадучись подбежали его товарищи. Один из них сейчас же во весь дух пустился к хате Егора Дубова.
Нефед Мироныч повернулся и быстро пошел во двор.
– Убил? Ах, господи-исусе, да как же теперь? – встревоженно проговорила, увидев его, бабка.
– Да так. Неладно получилось, подранил мальчонку, Дубова, – ответил Нефед Мироныч. Потом торопливо запряг лошадь и укатил в поле.
– Наделал беды и подался. А как Егор прибежит? – забеспокоилась бабка Загорульчиха. – Беги шумни Василь Семенычу, – посоветовала она перепуганной насмерть Дарье Ивановне.
– Все из-за вашего меда. Давно уехал бы, так вам загорелось. Ах, горюшко! – запричитала Дарья Ивановна.
Боясь встретить Егора Дубова, к атаману она не пошла, а заперла сарай, амбары, окна на прогоны, закрыла на засов ворота, спустила с цепи двух волкодавов и вдвоем с бабкой укрылась в доме.
По хутору побежал тревожный слух об убийстве мальчонки Дубова.
Егор Дубов только что повечерял и вышел за ворота, намереваясь пойти к товарищам переброситься в карты, когда к нему подбежал меньшой сын Фомы Максимова Мишка и, от волнения еле выговаривая слова, сообщил о несчастье.








