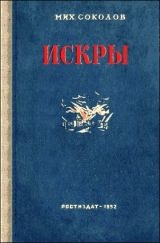
Текст книги "Искры"
Автор книги: Михаил Соколов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
Парень подумал немного, потом подошел к товарищам и о чем-то заговорил с ними, таинственно посматривая по сторонам и куда-то кивая головой.
А когда пришли в прокатный цех, дед Струков спросил:
– Ну, все показал, всю нашу жизнь, язви ее? У нас только что одному человеку штука ударила в живот и спалила все нутро. В больницу повезли, а на что она теперь ему! Эх, язви вас, погибели на вас нету, проклятых! – отчаянно взмахнул он рукой.
Луку Матвеича и Леона окружили свободные вальцовщики.
– Возмущаться мало, старина, надо действовать, – сказал Лука Матвеич. – В Петербурге вон рабочие одного из таких же больших заводов весь завод остановили из-за товарищей и предъявили хозяину требования улучшить рабочую жизнь.
– Это на Обуховском? – спросил Александров. – Слышали мы об этом.
– Вот и вы – поднялись бы все, как обуховцы, да и заявили бы им, правительству и хозяевам: «Сократить рабочий день до восьми часов, не то не будем работать!»
– Так они и сократят, – сказал кто-то.
– Всем рабочим классом подняться – сократят.
– А что ж, дельные слова. Давно пора подыматься против такой жизни, – как в колокол ударив, гулко проговорил огромный человек в синих очках на лбу – вальцовщик Щелоков.
– Да и на самом деле: сколько еще можно терпеть такую жизнь и то, как они измываются над рабочим человеком?
– Остановить все работы – и шабаш! Брешут – поддадутся.
И заговорили вальцовщики, и зашептались о чем-то, крепче сжимая клещи в руках и беспокойно поглядывая по сторонам.
Так было везде. Казалось, ничего особенного Лука Матвеич и не говорил, но после беседы с ним люди начинали задумываться, высказывать затаенные мысли, яснее осознавать свое положение и таящуюся в душе великую силу.
Леон шагал рядом с Лукой Матвеичем и думал: «Вот они какие, социал-демократы: к каждой душе рабочей имеют ход. А что же будет, если таких появится на заводе десяток-другой?».
– Слышал, как отвечают рабочие? – спросил Лука Матвеич. – Горит в душе у каждого ненависть и будет разгораться все больше. Брось искру – и вспыхнет пламя. И мы бросим эту искру, дай срок.
– Слышал, все слышал, Лука Матвеич, и все запомнил. Спасибо вам!
– Ну, это ты уж перехватил, парень, с благодарностью. Это наш с тобой святой долг, Леон: каждую возможность использовать для пробуждения сознания рабочих. Запомни это.
«Это наш с тобой святой долг», – мысленно повторил Леон и готов был крепко пожать руку учителю. Лука Матвеич ставит рядом с собой его, Леона Дорохова!
Поздно вечером Леон пошел провожать Луку Матвеича на вокзал. Лука Матвеич заговорил с ним о том, что ему надо читать, как вести себя, как жить, с кем дружить, а Леон, слушая его, мысленно восхищался простотой и мудростью своего старого друга и его вниманием к нему, простому рабочему человеку.
Ночь была темная, пасмурная. В воздухе стояли запахи травы полынка, от поселков потягивало кизячным дымком. Леону вспомнился хутор, и такими сладкими показались эти ночные степные запахи. Но не тот был уже Леон. С горечью и досадой он думал: «А что было кроме этого? Ничего, никакого просвета в жизни». И как-то само собой у него вырвалось:
– Дождичка бы надо. Хлеба погорят.
– А у тебя много посеяно? – спросил Лука Матвеич и посмотрел на хмурое небо.
Леон понял его, не сразу ответил:
– За других беспокоюсь. Жара землю рвет. А я… я отсеялся и не про это думаю.
Помолчав намного и оглянувшись по сторонам, Леон продолжал:
– Научите меня революционному делу, Лука Матвеич, политическому делу, чтобы знать всю правду жизни и то, как ее переделать, эту проклятую жизнь. Я в жилу вытянусь, а буду помогать вам бороться за новую жизнь для рабочего человека и всего простого народа. У Ряшина мы с Ольгой все равно ничему не научимся, только время будем убивать зря.
Лука Матвеич искоса посмотрел на него, на его резко очерченный профиль лица, статную, подтянутую фигуру. «Хороший парень. Недаром Илья так хлопотал о нем. Можно и должно по-настоящему приобщить его к революционной работе и заняться им. Собственно, мы уже приобщили его», – подумал он и ответил:
– Да, Леон, ты прав: у Ряшина вы с Ольгой многому не научитесь. Но пока что придется посещать этот кружок. Самое же главное: как можно больше читать книг. Я тебе привез кое-что и еще пришлю с кем-нибудь или сам привезу проездом. – Он помолчал немного и голосом твердым, а вместе с тем и с какой-то особенной теплотой продолжал: – Понравился ты нам с Ильей крепко. Не зря ходил на кружок. Если и дальше так пойдешь – много полезного для пролетариата со временем можешь сделать. Давай немного посидим, а то ноги что-то как колоды стали, и покурим малость. Не люблю курить на ходу.
Они сели на небольшой курганчик, поросший полынком, немного помолчали, будто слушали ночные шорохи.
Лука Матвеич набил трубку душистым табаком, а Леон достал пачку папирос третьего сорта. Когда закурили, Леон спросил:
– Скажите, Лука Матвеич, долго еще люди будут маяться так в жизни? Можно ведь так: подняться рабочим людям всем сразу и скинуть такую судьбу к чертям на рога? Или не пришла еще пора это делать?
Лука Матвеич улыбнулся, кольнул его острым взглядом.
– Долго, Леон, люди еще будут маяться в жизни. Не пришла еще пора подыматься всем. Но такая пора настанет, надо только терпеливо работать всем нам среди рабочих. А ты как считаешь?
– Я за это время, за два года эти, столько насмотрелся на порядки всякие и так все меня обозлило, что я могу в любое время подняться против хозяев и властей. Но я один, как говорил Чургин, ничего не сделаю. Загонят в Сибирь – и на том все кончится.
– Да-a. А интересно, что же ты увидел на шахте, на заводе? – спросил Лука Матвеич, попыхивая дымом.
– То же, что и на руднике, и в хуторе – везде, – ответил Леон, – одни неправильности, насилия. Всю жизнь я видел это, да только больше отворачивался, будто это меня не касалось.
– Зря отворачивался, – мягко укорил Лука Матвеич.
– Может, и зря, – согласился Леон и, сорвав ветку полыни, поднес ее к лицу. – А может, и не зря. На мой характер – я каждый день в холодной сидел бы. – Он помолчал немного, жадно затянулся дымом и продолжал: – Все у меня в душе бунтует против такой жизни. Я вон, когда тут были «потехи», готов был топором порубить все. Вот ежели б все такие были, как вы или Чургин! Но таких – один на тысячу. А к Ряшину я больше не пойду.
Лука Матвеич постучал трубкой о стебель полыни, и в темноте рассыпались и затрещали красноватые искры.
– Да, норовистый ты, – сказал он и, приподнявшись, сел. – Дай тебе волю, ты все сровнял бы с землей, – завод, шахту, подворье Загорулькина, хуторское правление, а потом погиб бы в Сибири.
Леон покачал головой и с болью и с сожалением, но твердо, без колебаний ответил:
– Нет, Лука Матвеич, вы не так поняли мои слова. Теперь я увидел, что один я ничего не сделаю. Пробовал, но меня выселили из хутора, на том кончилось.
– А если бы тебе сейчас дали десятин сто земли? – лукаво спросил Лука Матвеич.
– Не взял бы. Не это теперь меня интересует, – ответил Леон.
– Интересный ты парень! Просто молодец Илья, что нашел тебя.
– Опять же не Илья меня нашел, – ответил Леон, явно обиженный тем, что такой человек не понимает его.
– Гм. Ничего не пойму, – как бы не понимая пожал плечами Лука Матвеич. – Тогда объясни мне, старому, еще раз.
Леон помолчал, в уме подбирая слова для ответа, но нужных слов не находилось, и он виновато опустил голову.
– Не умею я говорить.
– Да уж как можешь, так и говори.
– Короче сказать, так: злой я дюже. На все злость у меня кипит в душе, на судьбу такую.
– Хорошо, что хоть не на людей.
– И на людей. Потому злость берет меня на людей, что они живут, как скотинка: тянут, тянут лямку и молчат. А тут не молчать, а драться надо. Подняться вот так, как при Емельяне Пугачеве, и в землю вогнать всех притеснителей, – с большой внутренней силой проговорил Леон и задымил папиросой.
Лука Матвеич удовлетворенно вздохнул, поджав под себя ноги, сел поудобнее.
– Что же мне ответить тебе, Леон? – медленно заговорил он, словно продолжая вслух свои мысли. – Хорошие слова ты сказал – горячие, сердечные, и я верю тебе: именно вогнать в землю надо всех их – загорулькиных, шуховых, сухановых. Не новым выступлением Пугачева, а восстанием пролетариата и крестьян. Но, – пристально посмотрел Лука Матвеич в темное лицо Леона, – но хватит ли у тебя мужества, воли, терпения, чтобы, раз встав на этот путь, как Чургин, на путь революционной борьбы за новую жизнь, никогда с него не сворачивать, а итти все вперед и вперед к намеченной цели?
Леон и прежде думал об этом «своем пути», но все его помыслы сводились больше к одному: как жить и чем кормиться. С момента поступления на шахту представления его о своем жизненном пути начали меняться, а после стачки он все больше стал думать о том, как изменить эту проклятую жизнь. Лука Матвеич, как и Чургин, говорил именно о таком пути. Что ответить этому видавшему виды человеку и революционеру? Леону хотелось бы наедине с собой поразмыслить об этом, прежде чем отвечать, ибо Лука Матвеич говорит не об обычном пути, а о пути, по которому идет сам, Чургин и, видимо, многие и многие другие – сильные, несгибаемые люди. И Леон нерешительно ответил:
– Силы у меня хватит, Лука Матвеич, но вот терпение может лопнуть. И еще: я не знаю, что оно такое будет в конце того пути, про какой вы говорите.
– Об этом рассказать трудно, Леон. Об этом надо читать в книгах. Много надо читать. Так начинали все, и я в том числе. Разумеется, не все книги я имею в виду, а те, которые мы читали на кружке у Чургина. Именно те книги и осветят тебе все впереди. Как мне светят, Илье.
Лука Матвеич тяжело поднялся, стряхнул с себя былки травы и сказал коротко, четко, будто решение прочитал:
– Значит, на там и кончим, Леон. Есть только одна дорога перед тобой: вперед, несмотря ни на что, не считаясь ни с какими преградами, – дорога в революционную жизнь. Правильно я понял тебя? – Он взглянул в лицо Леону и умолк, ожидая ответа.
Леон уже встал и стоял перед ним с опущенной головой, как перед отцом. «Есть только одна дорога – вперед, в революционную жизнь», – повторил он мысленно и почувствовал, как почему-то быстро забилось в груди сердце. «А если я не сумею быть таким, как Чургин?» – подумал он, но внутренний голос сказал ему: «Сумеешь, если сильно захочешь».
Леон поднял голову и прямо посмотрел в лицо Луке Матвеичу.
– Вы правильно поняли меня, Лука Матвеич, – ответил он и взволнованно продолжал: – Я могу. Я хочу итти по тому пути, по какому идете вы с Чургиным. Подучите меня только, и я не сверну никуда с этого пути. Умру, а не сверну.
Лука Матвеич протянул ему руку и торжественно, по-отечески тепло сказал:
– Ну, поздравляю тебя, молодой мой товарищ и друг! Объявляю тебе, что отныне ты есть член Российской социал-демократической рабочей партии, и благословляю тебя на революционные подвиги во имя партии, во имя пролетариата и всего трудового народа. Наш путь – борьба, беспощадная борьба с угнетателями за свободу и счастье пролетариата и трудового народа. Не забывай об этом никогда.
Леону вспомнилось благословение отца, когда он покидал хутор. Тогда отец уговаривал его не давать волю сердцу и смириться с судьбой.
Лука Матвеич призывал к борьбе.
Леон порывисто шагнул к нему, трижды поцеловал и почувствовал на глазах слезы.
Глава восьмая1
В имении Яшки трое суток никто не знал покоя ни днем, ни ночью. На четвертый день по дороге, обсаженной с обеих сторон молодыми белоствольными тополями, на широкий двор усадьбы вкатил роскошный фаэтон и остановился перед верандой.
К имению бежали женщины и дети, слышались оживленные голоса.
– Что это люди бегут сюда? – спросила Оксана.
– Хуторские вас посмотреть хотят, – ответил Яшка, подавая Оксане руку и помогая ей сойти с фаэтона.
– А откуда они знают о моем приезде?
– О вашем приезде знают все: помещики, начальники, мужики.
Оксана только покачала головой.
Крестьянки встали перед верандой в ряд и поклонились:
– Здрасьте, барыня-красавица!
Оксана приветливо улыбнулась, а на Яшку посмотрела так, что он и не рад был всей этой затее.
– Безобразие! Что это за крепостнические порядки! Как вам не стыдно! – тихо отчитала она Яшку.
– Опять получилось, как говорится, невпопад, – с искренним сожалением произнес тот. – Никогда я не угожу вам, Оксана, ей-богу!
На веранду выбежала Алена. Она была в розовом платье. На полном лице ее горел румянец, большие глаза светились мягко, и Оксана заметила, что Алена была уже не такой, какой она видела ее в хуторе. Новое что-то было в ней – милое, нежное, а вместе с тем и грустное.
– Оксана! – воскликнула Алена и сбежала с веранды по ступенькам.
Они обнялись. На глазах у Алены заблестели слезы. «Мне тяжело, Аксюта», – прочитала Оксана в ее глазах и, вспомнив о письме Леона, тихо сказала:
– От Левы привет. И письмо. – Она открыла свой ридикюльчик и отдала письмо.
Алена взяла письмо и убежала в дом, счастливая, радостная. Яшка прищелкнул языком и, приглашая Оксану в дом, сказал:
– У каждого свое. От радости забыла, что она хозяйка и должна принимать гостей.
– Вы всегда завидуете другим, Яков, – шутливо сказала Оксана, беря его под руку. – Слава богу, у вас теперь, кажется, всего достаточно, чтобы быть довольным судьбой.
– Да, у меня всего теперь достаточно. Но одного нет попрежнему, – многозначительно ответил Яшка.
Оксана искоса взглянула на его смуглое, сразу ставшее задумчивым лицо.
– Слишком быстро вы хотите добиться всего.
– Если я буду медлить, меня могут опередить другие.
Оксана шевельнула бровями, подумала: «Не отдашь, если любишь».
Вошли в просторную комнату. Оксана стала придирчиво осматривать обстановку, а Яшка с восхищением рассматривал ее. Она была в шелковом белом платье, в большой соломенной шляпе, говорила веселым, звонким голосом, ходила по комнате быстрой смелой походкой, и Яшке хотелось схватить ее на руки и носить, носить по этим комнатам. Но он мысленно говорил себе: «Нет, не пришло еще время для этого».
Дом был обставлен скромно. На полу в гостиной лежал недорогой ковер, на нем, посередине, круглый стол под красной плюшевой скатертью и два старых кресла, на окнах – полотняные с вышивкой гардины, на стенах – несколько плохих картин в золоченых багетах. Просто были обставлены и другие комнаты. В рабочем кабинете у Яшки стоял большой письменный стол с зеленым суконным верхом, у стены – деревянный диван грубой работы, над ним – ковер с оленьими рогами, головой волка и ружьем, возле – книжный шкаф, застекленный зеленоватым, с пузырьками оконным стеклом.
Оксана ходила по комнатам и думала: «Да, Яков, претензии у вас большие, а все еще отдает Кундрючевкой».
В кабинете на диване сидела Алена и читала письмо. Короткое оно было, и ничего особенного Леон в нем не сообщал. Писал только, что устроился на заводе, что живет на квартире у мастера Горбова, что скоро будет получать больше, чем получал на шахте, и ни слова не говорил о своих намерениях. Не было в письме теплоты, сердечности, даже ласкового слова в нем не нашла Алена, и на нее вдруг повеяло страшным холодом. «Доживусь у братца, пока Леон женится на другой», – думала она, снова и снова перечитывая письмо, и от одной этой мысли у нее тревожно билось сердце. Увидев Оксану и Яшку, она спрятала письмо, встала. Вид у нее был растерянный, губы плотно сжаты, полные руки опущены. Она сердито сказала:
– Яков, завтра я уезжаю.
Яшка понял, в чем дело, спросил:
– Что, письмо не нравится?
– Не нравится, что ты меня тут держишь и что-то мудришь. – И обратилась к Оксане: – Поедемте вместе. Это не Яшка, а черт! Хитрее его нет человека на свете.
– Не надо ссориться, Алена, – мягко проговорила Оксана. – Давайте лучше наведем порядок в доме – по-нашему, по-женски.
Яшка чертыхнулся в уме, пожал плечами, но сказал виновато, тихо:
– Что, хутором отдает? Ничего, придет время – все будет как у полковника Суховерова, и того лучше, – и вышел узнать, привезены ли из окружной станицы покупки.
После завтрака Оксана все переставила по-своему. Заметив, что в комнатах нет цветов, она позвала Яшку, сделала выговор, и Яшка сказал Андрею:
– Цветы требуются, Андрей, пальмы, фикусы, словом, городские. Сообрази и по этой части.
Когда Оксана была на речке и сказала, что хорошо бы устроить купальню, Яшка опять вызвал Андрея.
– Найди отца и попроси его: из этих досок, – он указал на штабель леса, потом на речку, – на том месте сделать купальню. С лавочками, с лесенкой в воду. Да лодку достань где-нибудь, а еще лучше – две. «Сколько же ей надо, Оксане этой? – думал он. – Если по ее жить, можно все хозяйство на разное чертовье перевести». Но ему хотелось оставить в памяти Оксаны приятные воспоминания о посещении его имения, и он готов был исполнить любой ее каприз.
На кухне Оксана вмешалась в стряпню Усти, и Яшке понравилось это. Он видел, что Оксана не чуждается работы и может быть неплохой хозяйкой дома. А одна мысль об этом вызывала у него умиление.
Обедали шумно, непринужденно. Яшка сидел в конце длинного стола. На нем была черная тройка, на груди – салфетка, из рукавов выглядывали белые манжеты с золотыми запонками. На противоположном конце стола сидел Андрей, тоже в черной тройке и с салфеткой на груди.
Яшка вспомнил о вечеринке в Кундрючевке под спасов день и подумал: «Успокоился старый Загорулька, самолично все осмотрел и только тогда дал десять тысяч. Что бы он сказал, если бы узнал, что Оксана сама приехала ко мне? А придется когда-нибудь величать ее дочкой». Он блаженно улыбнулся, пригладил свои небольшие усики, но не стал говорить об этом. Он вообще ни о чем не хотел говорить, что напоминало бы о Кундрючевке.
К вечеру поехали осматривать хозяйство. Яшка повез Оксану к отарам и табунам, показывал породистых овец, лошадей, быков, коров. Чабан готовил для нее в степи шашлык, плотники делали купальню, Андрей раздобывал лодки. Ради Оксаны Яшка распорядился сварить хороший обед рабочим и дать им водки. Все в имении жило ради Оксаны, и сам Яшка жил ради нее.
Оксана недоумевала: было похоже, что все хозяйство Якова Загорулькина было куплено на ходу, что перед ней разыгрывается какая-то комедия. И она с удивлением спросила:
– Яков, все это действительно построено вами на голом месте?
Яшка обратился к кучеру:
– Дядя Митяй, что тут было в позапрошлый год?
– Да что ж? Целина, а более ничего. Волки еще бегали.
И Оксана поверила. Она стала с интересом расспрашивать Яшку, что он намерен делать дальше. Яшка не особенно любил делиться своими планами. Но ему льстило, что Оксана интересуется его делами, и он готов был сказать ей: «А ты бросай свои курсы и выходи за меня замуж. Тогда я буду миллионером, а ты – полная хозяйка всему». И он сказал:
– Не люблю я хвастаться наперед, но можете мне поверить: через три года у меня тут будет миллионное дело.
– Теперь я в этом не сомневаюсь. А книги вы читаете? Я что-то мало видела их у вас.
– Ничего, я достигну всего, чего захочу. Вы видите, что я слов на ветер не бросаю.
Оксана поняла и подумала: «Нет, Яков, „всего“ вам, может, и не достичь: мы с вами слишком разные люди. Но мне нравится ваше упорство».
Она кривила душой. Ей нравилось не только упорство, с каким Яшка добивался своего. Ей нравился сам Яшка – волевой, грубоватый, упрямый степной парень из Кундрючевки, Нравился все больше и все сильней увлекал ее. Было в нем что-то дикое, необузданное, что пугало ее, и она не знала, как ей вести себя с ним.
– Да, Яков, вы действительно многого сумели добиться за эти два года, – задумчиво проговорила она. – И я понимаю, что это для вас не все. Но, – она пытливо посмотрела в его энергичное смуглое лицо, – зачем оно вам, это огромное хозяйство?
Яшка был ошеломлен таким вопросом. Ему казалось, что Оксана одобряет все его начинания и радуется его успехам. А оказывается… «А оказывается, чужое оно все для нее. На что мне хозяйство, а?! Да что она сумасшедшая, эта Оксана?» – подумал он и спросил:
– А что бы вы посоветовали мне делать в жизни, к чему руки приложить? На шахту итти? На заводе коптиться? Я к этому неспособный, Оксана, как и вы. Признаться, вы меня удивили своим вопросом. Для чего мне хозяйство, а?
Кучер громко крикнул на лошадей.
– Н-но! Ишь, холера, что выделывает, – возмущался он ходом пристяжной.
Яшка взял вожжи и сказал кучеру:
– Иди-ка, дядя Митяй, по своим делам, я сам приеду, – и, переведя лошадей на шаг, продолжал, обращаясь к Оксане. – Не люблю говорить об этом при посторонних. Да, так вы не ответили на мой вопрос. Что бы вы советовали мне делать?
– Учиться. Лучше на инженера, но агроном из вас тоже вышел бы неплохой.
– Чтобы работать на чужого дядю? – спросил Яшка. – Нет уж, хватит. Я достаточно поработал на отца. Пусть теперь другие на меня поработают.
– Кто эти «другие»?
– Все и всё: люди, земля, деньги, скот.
Оксана почувствовала, как Яшка вдруг уходит от нее все дальше, становится чужим, неприятным, и она недовольно сказала:
– А вы будете наслаждаться жизнью?
– Да, и работать на себя и…
– Да, – неопределенно произнесла Оксана и с неприязнью подумала: «Да, Яков, мы действительно по-разному смотрим на мир».
Некоторое время они ехали молча. Яшка был обижен и разочарован. Все, все не нравится в нем Оксане! А он уж мечтал о том счастливом дне, когда она войдет в его дом как хозяйка. И Яшка вдруг почувствовал: Оксана была и осталась чужой для него. Он вспомнил всех Дороховых, Чургина, и ему хотелось крикнуть: «А пошли вы все к черту со своими мнениями, поучениями! Я был хозяином и буду им, а вы будете работниками у таких, как я!» Но он не сказал этого, только вздохнул и посмотрел на молчаливые, зеленые степи, на затуманенные синие дали. Оксана мягко коснулась пальцем его загорелой, сильной руки, проговорила с легкой насмешкой:
– Не отчаивайтесь, Яков. У вас все идет прекрасно.
Он недоверчиво посмотрел на нее, потом взял ее руку, нежную, пахнущую духами руку с длинными тонкими пальцами, и поцеловал.
2
На следующий день Яшка с утра отправился к Френину и застал его за любимым развлечением.
Старый помещик сидел в зале возле камина в восточном халате и наслаждался пением. Хор слободской церкви тихо заводил:
Хвалите, хвалите имя господне,
Хвалите, рабы, господа…
Хор голосами не славился, но пел слаженно, мелодично, и Френин был им доволен.
– Господи, как хорошо! – умилялся он, сидя в глубоком кресле, и большим клетчатым платком утирал слезы.
Но это длилось всего минуты две. В следующий миг он преобразился: печальное лицо его стало веселым, в глазах блеснули озорные огоньки.
– Камаринскую! – крикнул он, и хористы запели плясовую.
Яшка стоял на веранде, у раскрытой двери, с плеткой в руке, и ему тоже стало весело. «Видать, славно пожил дед. Только что богу хвалу пел, а уже хоть пляши», – подумал он и медленно пошел к Френину. Взгляд его остановился на пианино. «Гм… Оксана играет, а у меня этой штуковины нет», – мелькнуло у него в голове, и он задержался возле открытой клавиатуры.
А Френин шлепал по ковру ногой в потрепанной туфле, помахивал платком и подпевал хриплым фальцетом:
Ах ты, сукин сын, камаринский мужик,
Он по улице бежит да все бежит…
Внезапно он скомандовал:
– «Верую»!
– Ве-е-рую-ю во е-ди-но-го бо-га… – запел хор, и вновь старый помещик пришел в восторг.
– Боже ты мой, какая прелесть! Что за красота! – растроганно говорил он, вытирая платком потный лоб.
Яшка приготовил расписку, подошел к Френину и сказал:
– Сосед, я приехал пригласить вас и вашу дочь к себе на обед.
– A-а, Яша! – обрадовался старик. – Послушай мой хор. Ах, как поют, мерзавцы!
– Хорошо поют. Так вы будете сегодня у меня с дочерью?
– Уехала дочь в Петербург. К пьянице мужу поехала. Еще что тебе от меня нужно? Говори скорей.
– У вас есть фисгармония и пианино, а у меня ничего. Продайте мне пианино, дорогой сосед. Моя гостья, племянница помощника наказного атамана, сыграет вам и споет за это.
– Гм… – задумался Френин. – А я забыл, сколько оно стоит. Сколько за него плачено? Забыл! – с досадой ударил он ладонью по колену.
– Возьмите двести рублей.
– Двести рублей? Двести оно и стоит. Верно! А если не двести, а?
– Так и быть, возьмите двести пятьдесят. Вот деньги, а вот расписка. Прошу расписаться.
– Угадал, Яков! Я за него отдал ровно двести пятьдесят рублей. Как одну копейку! – заплетающимся языком сказал пьяный старик. Спрятав деньги в карман, он расписался и крикнул хористам:
– «Разбойника»! Живо!
– Можно забирать? – спросил Яшка, плеткой указывая на пианино, но Френин досадливо отмахнулся от него.
Яшка вышел во двор позвать людей и приготовить подводу.
Небо хмурилось, надвигались грозовые тучи, и надо было торопиться. Во дворе не было ни души. Яшка зашел в людскую – там тоже не было никого, заглянул в конюшню, в сарай – никого. Наконец из-за кучи хвороста вышел кучер.
– Ты чего тут прячешься? – спросил Яшка.
– А это, видишь, когда барин гуляет, завсегда у нас так. У него, знать, рука чешется, как гуляет.
– Вон оно что.
Яшка велел запрячь свою лошадь, приготовить брезент, позвал людей Френина, чтобы вынести пианино, но они заколебались. Лишь когда из дома ушли хористы, а регент, утирая потное лицо, сказал, что Френин заснул в кресле, Яшка забрал пианино.
Тем временем плотники заканчивали на реке незамысловатую купальню. Старый плотник Евсей позвал Алену посмотреть, так ли все сделано, как хочется барышне.
Алена осмотрела купальню и только покачала головой:
– Вот сумасшедший! Вчера тут было пустое место, а сегодня купальня. И все это для вас, Оксана.
Оксана улыбнулась. Ей приятно было, что это сделано для нее. Ей вообще все было приятно здесь, потому что она в каждом шаге Яшки видела желание доставить ей удовольствие.
Когда плотники ушли, Алена разделась и прыгнула в воду, огласив речку радостными криками. Оксана, сняв платье, села на лесенке и стала болтать ногами в воде.
Из лесной чащи вылетела сова, проплыла над речкой и скрылась в вербах на противоположной стороне. Оксана вспомнила, как в Кундрючевке Яшка неумело, торопливо объяснился с ней, потом убил такую же сову, и она камнем упала между деревьями панского сада. И какая-то неясная тревога наполнила грудь Оксаны. Чувствовала она: влечет ее к Яшке неудержимо, и нет у нее сил противиться этому влечению.
После купанья Алена и Оксана нарвали цветов и сели на пологом берегу речки. Алена была весела и безумолку говорила, сплетая венок из цветов. Мрачное настроение у нее исчезло, и она мысленно была уже у Леона в Югоринске.
Оксана делала венок и тихо напевала. Неожиданно она спросила:
– Что вам пишет Леон, что вы так рассердились на Якова?
Алена оглянулась по сторонам; прежде чем ответить на вопрос, рассказала о своих подозрениях.
– Мы приехали сюда все: Яшка, батя и я. Ну, батя все осмотрел, сказал, что и как надо делать, и уехал, а я осталась. Яшка просил помочь немного и побыть за хозяйку. Потом я стала примечать, что братец мой мудрит, хочет просватать меня за Андрея. Вы только подумайте! Ведь он же хорошо знает, сколько я перенесла из-за Леона. А тут еще Леон пишет: мол, может, другого имеешь на примете? Потому я и разозлилась на Яшку. Не хочу я тут сидеть больше, и как вы поедете, так и я тронусь, – решительно закончила Алена.
Оксане вспомнилась Ольга, и она подумала: «А Ольга ближе Леону. Они вместе работают, вместе бывают на сходках и, кажется, любят друг друга. Как же теперь будет с Аленой?» И она осторожно спросила:
– А вы сильно любите Леона, Аленушка?
– Сильно, Оксана. Моей любви… Ох, намного хватит моей любви! На две жизни хватит… И Яшка вас сильно любит, Оксана, – вдруг сказала Алена и опять оглянулась по сторонам. – Только вы для него – все одно, что кисея быку: взбесится, и одни лохмотья от той кисеи останутся.
Оксана звонко рассмеялась.
– Неужели он такой, Яков?
– Такой.
– Вы просто боитесь его, Аленушка. Впрочем, я замуж ни за кого выходить не собираюсь до окончания курсов, по крайней мере, – подумав, добавила Оксана. – А вот вы с Леоном должны все хорошо взвесить. Леон сегодня работает, а завтра может случиться, что у него денег и на хлеб не будет. Уживетесь вы с таким?
Лицо у Алены вспыхнуло от волнения, и она быстро ответила:
– С Левой? Чудно даже слушать! Как это у нас не будет на кусок хлеба? Да что, у меня родных нет или денег? Да я еще поговорю с ним, с Левой. А то, может, он бросит ту работу и начнет с Яшкой вместе дела делать. Не пропадем. Не разлюбил бы он только меня, – проговорила она уже с тревогой в голосе.
Оксана пристально посмотрела на нее, на полное розовое лицо и большие жгучие глаза. «Да, ты, бесспорно, достойна Леона, милая, но одного ты не знаешь. Леон не согласится стать помощником Яшки. И на ваши деньги жить не захочет. Но, в конце концов, какое мне дело до этого? – перебила она свои мысли. – Мне надо о себе беспокоиться. Через два года закончу курсы. Как тогда жить? Ходить по сходкам вместе с Леоном? Выйти замуж за Якова и стать помещицей? Смешно даже думать. Курсистка Бестужевских курсов и вдруг – жена полуграмотного парня из Кундрючевки!»
Далеко за речкой шел дождь. Он падал гигантскими завесами сразу в нескольких местах, у земли круто выгибался, точно обходил невидимое препятствие, и горизонт темнел все больше. Вскоре от туч до земли опустилась серая туманная пелена, и все скрылось за ней. Вот кривым огненным зигзагом сверкнула молния, и загремел гром – медлительный, тяжелый. А через минуту солнце заволокли тучи, и день померк.
Тихо стало вокруг. Один камыш шелестел на речке. Потом на деревья мягко, робко упали крупные капли дождя. Вскоре, будто осмелев, они посыпались дружней, зашлепали по воде, по листве в лесу. И лес ожил и зашумел от них, как от ветра.
Оксана и Алена подняли визг и заторопились вверх по склону бугра, хватаясь руками за ветки кустарника.
Во дворе стояла подвода. Яшка выглядел измученным, но был весел: на дрогах, под брезентом, он дотащил наконец пианино до усадьбы.
– Где это вы весь день пропадали? – спросила у него Оксана.
– Музыку вам доставал. Насилу довез, чтоб ей ни дна ни покрышки, – ответил Яков и сдернул брезент.
Оксана всплеснула руками.
– С ума вы сошли! А сам на что похож: грязный, пыльный. Никогда не видала таких помещиков.
– И не увидите.
Дождь прошел стороной, а в имении Яшки только побрызгал землю.
Рабочие бережно внесли пианино в дом, установили его по указанию Оксаны.
– Где ты достал его? – спросила Алена, осматривая пианино.
– У Френина.
– Купил?
– Обдурил, – ответил Яшка и пошел переодеваться.
Оксана только пожала плечами, а Алена сказала:
– Это он может.
Вечером приехал старик Френин, увидал пианино и с недоумением спросил:








