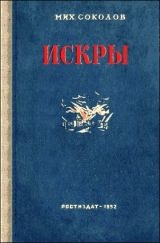
Текст книги "Искры"
Автор книги: Михаил Соколов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 38 страниц)
1
Злая в этом году была зима. Уже на исходе был февраль и по-весеннему светило солнце, уже щебетали на деревьях птицы и парили на буграх проталины, как вдруг опять пошел снег, поднялись бураны и снова засыпали шахтерские поселки синеватыми сугробами.
Но в марте небо очистилось от туч, проглянуло горячее солнце – и размякли, заслезились сугробы, будто не хотели расставаться с землей. Дохнула на них весна теплом, и потекли, побежали от сугробов сверкающие ручейки половодья, а вскоре от зимы одни белые пятна в балках остались.
А потом высыпала, зазеленела на буграх травяная молодь, закурчавились в садах деревья, запели птицы. И пришла весна – благоухающая, говорливая.
Апрельским утром вышел Леон из казармы, взглянул на степь, на горящее небо и золотистую роспись зари, подумал об Алене, и ему стало не по себе. И обжился он на новом месте, и работа лебедчиком пришлась ему по душе, а нет, не мог он забыть о хуторе! Вот опять пришла весна, и засияло солнце, вновь зазеленели степи и мужики начали сеять хлеба, а он должен спускаться под землю и там, в кромешной тьме, добывать хозяину уголь, а себе – жалкие гроши на пропитание. И не будет конца этой каторжной шахтерской жизни.
Леон вспомнил, что говорили вчера на кружке Чургин и приезжавший «учитель», Лука Матвеич, и горько усмехнулся. «Горсточка ведь нас всего, кружковцев, а мы толкуем про то, как скинуть царя, хозяев и переделать жизнь, и книжки читаем про это. Как же ты ее переделаешь, эту каторгу, если даже за получкой смотрит стражник и слова лишнего сказать нельзя, а в хуторе одного слова атамана хватит, чтобы перевести жизнь любому человеку?» – рассуждал Леон. Ему хотелось разделаться со своими врагами одним ударом, переделать судьбу-мачеху немедленно, а оказывается, сразу этого сделать нельзя. Для этого еще не было сил, не было подготовленных людей – революционеров, не было средств, организаций, как говорил Лука Матвеич, и рабочий класс не был подготовлен. «Когда же все это будет? Неизвестно», – думал Леон, и ему вдруг расхотелось читать книги и утешать себя несбыточными мечтами.
Проходивший мимо казармы Мартынов крикнул ему:
– Чего прохлаждаешься? Полезли, гудок скоро!
Леон взглянул еще раз в сияющую под солнцем весеннюю степь, вздохнул и вяло зашагал на шахту.
Мартынов рассказал, сколько вчера выиграл в карты, и хотел похвалиться содержимым красного узелка, который он держал подмышкой, да неловко было: там в кульке у него лежал подарок – конфеты для Ольги.
– Значит, не бросаешь карты? Плохо, – сказал Леон и добавил: – Лучше уж учился бы играть на гармошке.
– А научишь? Тогда брошу, ей-богу, брошу! – бойким голосом подхватил Мартынов. – Я ко всякой игре способный, ты не думай.
Леон взглянул на него, низкорослого, полного, и подумал: «Вряд ли ты, парень, так легко расстанешься с картами». Мартынов однажды признался ему, что каждодневной заботой у него было – у кого бы выиграть полтинник, пусть даже двугривенный, чтобы купить хлеба матери и четверым братьям-подросткам. Карты у него были тайно меченные, и если он проигрывал, то только для того, чтобы отвести подозрения. И, однако, всегда был без денег: мать обшаривала его карманы раньше, чем он успевал купить монпансье для Ольги. Но сегодня он нес ей полфунта ландрина.
В нарядной, как всегда в этот час, было шумно, многолюдно и густо накурено. Но вместо коптилки сегодня здесь горела яркая электрическая лампочка, и от этого казалось, что в углах прибавилось паутины, а потолок будто развело трещинами. Шахтеры с любопытством рассматривали невиданную лампу. Слышались голоса:
– Как же она керосин сосет, леший?
– Никак. Молнию поймали – вот и горит.
Мартынов с любопытством посмотрел на лампочку и с завистью сказал:
– Вот как бы нам с тобой, Левка, такую! Хоть бы душа от копоти очистилась маленько.
Рассудительный голос ответил ему:
– На том свете очистится, парень.
Мартынов отошел в сторону и погрузился в свои думы. Ему хотелось доставить Ольге радость, чтобы Ольга посмотрела на него своими ясными, как небо, веселыми глазами, чтобы она сказала ему что-нибудь ласковое, а он скажет, что хочет на ней жениться. И он улыбнулся.
Мысли его нарушил протяжный, низкий гудок. Нарядная загудела, зашевелилась, замигала сотнями ламп, и шахтеры двинулись к подъемной машине.
2
Был понедельник. Шахта сутки не работала. Леон хотел осмотреть лебедку, но не успел он повесить на гвоздь узелок с харчами, как явился дядя Василь. Приход его был тем более странен, что вчера они вместе были на кружке у Загородного, слушали Луку Матвеича, проводившего беседу о задачах российской социал-демократии, и обо всем переговорили, вместе возвращаясь домой.
По встревоженному лицу своего учителя, по стремительности, с какой дядя Василь пришел к нему, видно было: что-то случилось.
Оглянувшись вокруг, дядя Василь негромко сказал:
– Слыхал? – Он тяжело передохнул и не мог сразу сказать. – Слыхал, какое дело затевается? Ах вы ж, сукины сыны, негодяйские души, пралич вас убей насмерть!
– Да ты говори скорей, в чем дело?
– Ты подумай только, что они затевают, душегубы, иродово племя! Они его, – он наклонился над ухом Леона, зашептал: – порешить сговариваются! Шутка ли, а?
Леон сразу догадался, о ком говорил дядя Василь, однако, спросил:
– Кого?
– Да Гаврилыча, говорю тебе! Сейчас же ему передай! – шепнул дядя Василь и заторопился уходить. – Нет, я скорее его найду.
Леон был ошеломлен таким известием. «Убить Чургина! За что?» – думал он. В это время по вагонному буферу, что висел возле лебедки, два раза стукнули молоточком – сигнал спускать вагончики. Леон потянул к себе рычаг тормоза, и барабан лебедки стал медленно разматывать трос. Три больших новых железных вагончика двинулись вниз по уклону.
«Неужели за артели? Или за кружок? Ах, звери! Убить Чургина!» – думал Леон. Мысль об опасности, угрожающей Чургину, наставнику его и зятю, на миг заслонила собою все. Леону уже чудилось, что Чургин с окровавленной головой, мертвый лежит где-то. Но кто хочет его убить? Дядя Василь не сказал.
Заметив, что барабан стал вращаться что-то слишком быстро, Леон нажал на тормозной рычаг. Кованные железом дубовые колодки тормозной ленты плотно прижались к барабану, но ход его не уменьшался. Опустив рычаг, Леон еще сильнее надавил на него, но барабан вращался все быстрее.
Тормоз не действовал.
Снизу доносился угрожающий гул вагончиков.
– Да что же это такое? – Что было силы, обеими руками Леон нажал на рычаг, и в это время из-под тормоза показался дым и запахло горелым маслом. Страшная догадка бросила Леона в жар.
– Масло? Откуда масло?! A-а, вот вы как, сво-о-ло-очи?! – понял он предательскую проделку врагов Чургина.
– Ти-ше-е-е! За-абури-ишь! – послышалось с верхних плит.
Молоточек ударил «стоп». Потом еще и еще, но Леон уже не мог остановить барабана и что было силы крикнул:
– Тормоз не де-е-ржит!
Снизу, как из могилы, донеслось:
– Береги-и-сь!
Леон растерялся. Этого еще никогда не было. Что делать? Он напряг все силы и налег на рычаг тормоза, прижимая его к земле, но и это не помогло. И он в отчаянии закричал:
– Подсоби-и-те-е! Не удержу-у!
А вагончики с двухсотпудовым грузом, гремя и покачиваясь, бешено неслись вниз по уклону, все убыстряя ход. Другой конец троса, который должен был подымать порожняк снизу, почему-то оказался свободным. Крючком цепляясь за рельсы, он молниеносно скользил вверх, уродовал путь, вырывал шпалы и разбрасывал голубые искры. С плит, из людского ходка шахтеры бежали в штреки, кричали товарищам, чтобы спасались, то и дело давали Леону сигнал «стоп».
Дядя Василь, спустившийся было по людскому ходку, заметил, что вагончики «понесли», и метнулся к лебедке.
Леон, ногами упершись в крепь, всем телом навалился на рычаг, но он пружинил, бил его по животу и подбрасывал, как полено.
– Дрючком! Сзади дрючком! Да скорей же, дядя! О-ой, пропало все! – стонал Леон.
Посиневшее лицо его болезненно исказилось, фуражка упала с головы, волосы растрепались, а глаза, точно окаменев, с ужасом уставились на барабан и беспомощно следили за перемещавшимися витками троса.
Из-под деревянной ленты, будто от десятка коптилок, повалил беловатый дым, маслянистой гарью першил в горле, заволакивал все вокруг.
Вдруг лента вспыхнула. Дядя Василь хотел тапкой погасить пламя, но не смог. Схватив лежавшую возле лебедки стойку, он сунул ее под барабан, но, вставленную против входа, ее, вместе с ним, отшвырнуло в сторону.
– Левка! Да как же?! – в отчаянии крикнул прибежавший верхний плитовой и не договорил: в уклоне что-то загудело, затрещало и, как гром, загремели камни, будто скала где-то рухнула.
Барабан замедлил ход и остановился.
Дым облаком заволок все.
Хватаясь одной рукой за барабан, а другой поддерживая живот, Леон, с помощью плитового, встал, глянул вниз. Нисходящий ряд керосиновых ламп далеко внизу оборвался, и там была кромешная тьма. В уклоне было тихо и безлюдно.
– Обвал! – корчась от боли, удрученно произнес Леон и упал на отброшенную барабанам стойку.
Из-под тормозной ленты текло черное горячее масло.
Быстро подошел Чургин. Сурово взглянув на Леона, он тронул рычаг тормоза, провел по барабану пальцем.
– Ты смазывал? – спросил он у Леона.
Леон поднял на него бессмысленные глаза и ничего не ответил.
Чургин надел ему фуражку на голову, помог подняться и обратился к дяде Василю:
– Отведи домой. Вызовите доктора Симелова.
Леон страдальчески глянул ему в лицо, проговорил упавшим голодом:
– Тебя убить хотят, Илья… Скажи ему, дядя Василь.
– Подрядчики… в воскресенье… Ой, спина моя! – простонал сидевший на земле дядя Василь и хотел встать, да не мог.
Чургин выпрямился во весь рост и так застыл, сощурив глаза и хмуро глядя в темень. «Теперь все ясно», – подумал он. Достав из кармана папиросу, он задумчиво постучал ею по барабану и, швырнув ее в сторону, двинулся вниз по уклону.
Против второго штрека уклон был перегорожен огромной пирамидой обвалившейся породы. В людской ходок врезался вагончик, деревянная обшивка ходка саженей на шесть была снесена до основания.
Леон добрался до обвала, хмуро посмотрел вниз на гору рухнувшей породы. Подавленный случившимся, поминутно останавливаясь и морщась от боли, он спускался в коренной штрек, к стволу с одним желанием и мыслью: «Скорей, скорей выбраться из этой душегубки туда, на вольный свежий воздух, на землю!»
На нижних плитах коренного штрека, обнажив головы, молча стояли рабочие. Чургин что-то собирал и бережно складывал в одно место. Увидев лебедчика, рабочие расступились, исподлобья наблюдая за ним.
Под сверкающими глазами шахтеров Леон опустил голову и вдруг увидел: перед ним, под рогожей, лежал человек. Около рогожи валялся разорванный узелок, и кругом были разбросаны кроваво-красные и голубые конфеты – ландрин.
Леон шагнул вперед, поднял рогожу и отшатнулся, руками закрыв лицо.
– Марты-нов! – простонал он и вдруг страдальчески крикнул: – Не я это! Не я, братья-шахтеры! Хозяин убил его! Они всех нас убьют!
Чургин схватил его, но он высвободился, выбежал на средину площадки.
– Звери, что натворили? Женька, друг мой, как же это?! И на гармошке же ты просил научить, и карты хотел бросить. И конфеты…
Леон, как безумный, заметался вокруг убитого, размахивая руками, потом вдруг остановился, горящими глазами посмотрел на шахтеров и, подняв кулаки, крикнул во весь голос:
– Еще один погиб! Еще одного смерть настигла в этом подземелье! Когда же нас перестанут мучить, измываться над нами, убивать, как скотину? Их надо стереть с лица земли, губителей нашей жизни! Всех!..
Изо рта у него пошла кровь, он зашатался и, схватившись руками за грудь, изнеможенно повалился на плиты.
Чургин поддержал его.
Шахтеры молча склонили головы. Тогда из толпы вышел Семен Борзых, бросил вопросительный взгляд на Чургина и, заметив, что тот кивнул головой, сказал:
– Они издеваются над нами – мы молчим. Они, хозяева, калечат нас или на тот свет отправляют – мы молчим. Да мы живые люди или скотина бессловесная? Довольно нам молчать, надо требовать! Надо соединяться нам и всем рабочим миром подыматься на борьбу против них! Пролетарии, соединяйтесь для борьбы за наше рабочее, шахтерское дело!
Шахтеры зашумели, колыхнулись, угрожающе замелькали огненные языки ламп. На середину выбежал Иван Недайвоз, с остервенением сорвал с головы шапку и бросил ее на плиты:
– Да что они, гады, долго будут сосать нашу кровушку, а? Неужели мы не постоим за себя, братцы? За мной! На-гора-а-а! Проучить их, душегубов!
Потрясая обушком, он побежал по штреку к стволу.
– Проучить! – раздались голоса. – Бей их! Громи!
Шахтеры лавиной хлынули за Недайвозом, грозно крича и размахивая обушками и коптилками, но Чургин во весь голос крикнул:
– Остановитесь!
И толпа остановилась.
3
Подрядчик Кандыбин, у которого Чургин недавно отобрал вторую лаву, раньше всех узнал о случившемся и прибежал к управляющему. Ему было известно, кто залил масло в лебедку, но он торопился изобразить дело таким образом, что все это хитрая проделка Чургина. По его словам, тормоз был негодный с самого начала и Чургин умышленно поставил на лебедку ничего не понимающего в деле молодого шахтера, чтобы вызвать катастрофу и восстановить рабочих против управляющего.
– Вы дурак, извините меня, – сказал ему Стародуб.
– Никак-с нет-с, – показывая большие зубы, холуйски изогнулся длинный, как оглобля, Кандыбин. – Тормоз негодный был. А кто его делал? Чургин-с?
– Он изобрел лебедку – и он сделал негодный тормоз? Он отвечает за все подземные работы – и он будет устраивать катастрофу? Вы что, пьяны? – Стародуб бросил на подрядчика ядовитый взгляд и поднялся с кресла.
– Нет-с, Николай Емельянович, правду говорю! – воскликнул Кандыбин, все так же подобострастно изгибаясь перед управляющим. – А то, что шахтеры бунтарские речи говорили? Что Дорохов, Борзых и Недайвоз призывали громить контору, а он хотя бы слово им? – зашипел Кандыбин, как змея. – Это, по-вашему, не бунтарство? Не анархия-с?
Стародуб нахмурился, задумчиво прошелся по кабинету. Видя, что его слова произвели впечатление, Кандыбин выпрямился, некоторое время постоял, ожидая, что скажет Стародуб, но тот молчал и все ходил, заложив руки назад.
– Я вам как благородный человек скажу, Николай Емельянович: змею вы пригрели у себя на груди! Вы не знаете его, а он еще не такое преподнесет вам. Он в золотой чаше яд вам готовит!
Стародуб медленно подошел к столу и сел в кресло, белыми пальцами потирая виски.
– Можно итти, Николай Емельянович? – думая, что он достиг цели, спросил Кандыбин.
– Убирайтесь вон, – вдруг крикнул Стародуб, – пока я не позвал полицию и не арестовал вас!
Подрядчик испуганно шмыгнул за дверь.
Когда убитого подняли на-гора, Стародуб спустился в шахту.
Штейгер Петрухин уже выяснил обстоятельства аварии и хотел доложить, но Стародуб сам осмотрел измятые вагоны в тупике уклона, поднялся до места обвала кровли, попробовал тормоз лебедки и окончательно убедился в своих предположениях: под тормозную колодку было пущено масло. Очевидно, лебедчик или недоглядел, или был недостаточно опытен.
– Когда будет приведен в порядок уклон? – спросил Стародуб у Чургина.
– К шести часам утра.
Работа по очистке уклона шла быстро, и Стародуб остался доволен распорядительностью Чургина, но по тому, как рабочие встречали его молчанием и редко кто снимал шапку и здоровался, как злобно сверкали глаза у людей, он понял, что в шахте было не все благополучно.
– Ночная смена должна работать, – сказал он Чургину.
По расчетам Чургина, уборку породы можно было закончить к вечеру, ремонт пути и того раньше, а на крепежные работы требовалось три часа. И он ответил:
– Ночная смена будет работать.
– Через час поднимитесь ко мне.
– Хорошо.
Чургин догадывался, о чем будет итти речь в кабинете управляющего, и зашел в первую артельную лаву к Семену Борзых посоветоваться.
– Стародуб вызывает меня к себе, – тихо заговорил он, отозвав Борзых в сторону. – Очевидно, будет интересоваться не столько причиной катастрофы, сколько тем, что я позволил Леону, тебе и Недайвозу говорить «бунтарские» речи.
Борзых снял очки, долго вытирал их подолом рубахи, наконец водрузил на нос и спросил:
– Ну, так что ты мне хочешь сказать?
Чургин поднял на него глаза и ничего не ответил. Он чувствовал, что предстоящий разговор со Стародубом – первый за все время его работы у Шухова разговор, после которого он, возможно, не будет работать на шахте. Не станет же он отрицать того, что допустил речи против хозяев. Но если он допустил их, может ли Стародуб поверить, что Чургин не сделал это умышленно, что он не является скрытым вдохновителем Леона, Борзых, Недайвоза? «Безусловно, не поверит. Да, наступает развязка. Роль моя на шахте ясна. Откажись я – не поверят. Скажи – арестуют», – обдумывая положение, рассуждал сам с собой Чургин.
Борзых обратил внимание: Чургин, достав папиросу, взял ее в рот не тем концом и держал ее так, о чем-то думая. Борзых вынул папиросу у него изо рта, но Чургин, вместо того чтобы закурить, спрятал ее в портсигар.
– Я, кажется, не знаю, как себя держать, Семен. Странно, но это так, – признался он. – Открывать себя я не могу.
– Не имеешь права.
– И отказаться, если он в упор спросит, я тоже не могу. Черт его знает, как это глупо выходит. Я могу провалиться только из-за одного своего характера: не умею кривить душой.
– Так. Еще что скажешь? – хладнокровно спросил Борзых.
Чургин поправил фитиль своей лампы, туже надел картуз.
– А еще я тебе вот что скажу, – по-обычному, твердым голосом заговорил он: – потолкуй сейчас же со старшими второй, третьей и четвертой артелей, найди Загородного, тетку Матрену, Митрича, словом – всех наших. Будем начинать подготовку шахтеров к стачке. Основные требования к Шухову: восьмичасовой рабочий день, повышение расценок, охрана труда, увольнение остальных подрядчиков и штейгера. О других требованиях поговорим сегодня на кружке.
Борзых улыбнулся:
– Вот это добрые речи! А поначалу молол, что и не разберешь. Раскрывать себя мы, то-есть организация, запрещаем тебе. А дальше – тебя не учить.
– Ну, тогда желай успеха, иду.
– Желаю, Илья! – Борзых пожал руку Чургину. – Смотри, прямой ты уж больно, черт! Надо пока в обход итти.
Спустя час Чургин явился в главную контору. Тяжелыми, медленными шагами он подошел к кабинету управляющего, секунду постоял в раздумье. «А, черт! Рано ты захотел со мной объясняться», – пожалел он мысленно и, как обычно, без предупреждения вошел в кабинет.
Стародуб, отвалясь к спинке кресла, о чем-то думал. Лицо его было озабоченно, лоб и виски – красные, видимо, он тер их пальцами.
– Вы меня просили зайти, господин управляющий. Я вас слушаю, – негромко сказал Чургин, подходя и снимая картуз.
Стародуб поднялся из-за большого письменного стола красного дерева и зашагал по кабинету, ничего не ответив.
Чургин посмотрел на него – небольшого, крепкого, на ладные шевровые сапоги и перевел взгляд на огромные, в рост человека, часы. «Интеллигентская манера. Знаешь – говори сразу, в обморок не упаду», – подумал он. Взгляд его остановился на хорошо вычерченном генеральном плане второго горизонта, пришпиленном к стене у стола. Он пристально посмотрел на него и заметил: это был тот самый проект Стародуба, которым предусматривались малые лавы. Внизу на нем виднелась размашистая подпись Шухова. Но, несмотря на это, работы в шахте велись по новому проекту Чургина.
А Стародуб, заложив руки назад, все продолжал ходить по мягкому текинскому ковру и молчал.
Так прошла минута, две, и никто за это время не произнес ни слова. Казалось, происходил какой-то немой поединок этих людей и ни тот, ни другой не хотел сдаваться, ожидая, пока заговорит противник. Чургин знал эту манеру Стародуба, на многих она действовала подобно пытке.
Простояв ровно пять минут, – он это заметил по стенным часам, – Чургин надел картуз, потянул его за лакированный козырек и повернулся уходить.
– Садитесь, пожалуйста, – услышал он неторопливый голос.
Он вернулся и, подойдя к столу и положив на него картуз, опустился в желтое кожаное кресло, рассеянно достал портсигар и закурил.
Стародуб сел в свое кресло с высокой резной спинкой, бросил на Чургина мимолетный взгляд, но на его холодном, бледном лице не заметил и тени волнения. Похоже было, что этот худощавый, непомерно сильный человек был не его десятник и не к управляющему рудником пришел, а к давнишнему своему приятелю и вот уселся в кресле, беспечно закурил и большими голубыми глазами безразлично наблюдает, как синеватыми кольцами, вращаясь, к потолку уходит дым от его папиросы.
И Стародуб смягчился. Любил он в Чургине эту строгость, уменье держаться при любых обстоятельствах. Но о нем так много наговорили ему Петрухин и Кандыбин…
– Господин Чургин, скажите, – с ледяным холодком в голосе заговорил Стародуб, – с каких пор вы стали забывать, как надо держать себя в кабинете управляющего?
Чургин шевельнул бровями, неторопливо ответил:
– Я хорошо помню, где нахожусь и с кем имею честь разговаривать.
– Вы одно забываете, господин Чургин, что эта ваша вольность, мягко выражаясь, не вечно может проходить безнаказанно.
Стародуб многозначительно помолчал, как бы желая дать почувствовать значение своих слов, и продолжал:
– Объясните мне, что означает сегодняшнее ваше поведение в шахте? Что это за митинг, бунтарские выкрики и ваше молчание? Я, конечно, ценю вас, как ценил и до этого, но я никому не позволю сеять на вверенном мне предприятии своеволие и неповиновение…
Чургин знал, что если начать с этих вопросов, сразу будет видно, что он защищается, а раз защищается – значит виноват. И он начал, как всегда по порядку.
– Повторяю еще раз, Николай Емельянович, я знаю, что вызвал меня управляющий шахтой, но он в продолжение пяти минут не желал говорить со мной, а мне не о чем было, потому я и решил вернуться в шахту, чтобы не терять дорогого времени. Ну, а что касается того, что происходило сегодня в шахте, – извольте, я дам самые точные объяснения. Рабочие выражали свое возмущение нелепой гибелью товарища и тем, что подрядчики ставят при содействии господина штейгера…
– Позвольте, как это «при содействии штейгера»! – перебил Стародуб. – Какое содействие?
– Вот я и говорю: при содействии господина штейгера ставят негодные стойки, хищнически разрабатывают лавы, губят людей, а здесь, в конторе, ходят, нашептывают, сговариваются отомстить Чургину…
– Ну, хватит! – опять перебил Стародуб и встал. – Я отдаю вам распоряжение: немедленно убрать лебедчика Дорохова, перевести на другую работу эту девчонку, его сменщицу Ольгу Колосову, и поставить на лебедки расторопных людей. Далее: я распускаю ваши артели, отдаю лавы подрядчикам и запрещаю вам налагать на них штрафы. И, пожалуй, я подумаю также о вас. Довольно! – Он резко повернулся и заходил по кабинету.
У Чургина дух перехватило от этих слов управляющего. «Все. Конец всему, что я сделал», – мелькнула у него мысль. Что ему ответить, этому барину с золотыми молоточками? Да и стоит ли продолжать этот мучительный разговор? Но нельзя было молчать, и Чургин, стараясь держаться ровно, сказал:
– Вы можете рассчитать меня хоть сегодня, господин управляющий, но от этого истина не перестанет быть истиной. Убил человека подрядчик Жемчужников. Он подлил масло под тормозную колодку из мести мне за деловые замечания. И вы напрасно торопитесь возвратить ему лаву.
– Он подлил масло? Вздор! Не может быть!
– Уже было. Ваши распоряжения… Впрочем, мы поняли друг друга. Я не могу работать у вас, – закончил Чургин и встал. – Вы слишком легко даете себя вводить в заблуждение. И я доложу обо всем хозяину шахты.
Этого Стародуб не мог снести. Резко обернувшись, он негодующе сказал:
– Это возмутительно! Как вы смеете так со мной разговаривать? Как вы смеете учить управляющего, я вас спрашиваю, уважаемый?!
Чургин подошел к нему вплотную и, еле сдерживаясь, ответил:
– Я прошу вас, уважаемый, не орать, я не мальчик. Не угодна моя работа, я могу раскланяться. Но орать на меня я не позволю!
– Наглец! – выкрикнул Стародуб. – Можете итти!
Чургин побледнел, оглушительным басом сказал:
– Я не привык, чтобы со мной так разговаривали! И я заставлю вас извиниться передо мной! Завтра же я еду к владельцу шахты и расскажу ему все. – Он взял картуз со стола и торопливо вышел из кабинета.
Стародуб хотел закурить трубку, но спички ломались. Он остервенело швырнул на стол спички и сел в кресло, немилосердно потирая виски пальцами.
Для чего он позвал Чургина – он и сам не знал.
4
Чургин спустился в шахту с твердым убеждением, что спускается в нее последний раз. От этого у него еще больше окрепла решимость немедленно поднять шахтеров на борьбу. Теперь ему нечего было скрывать свои убеждения, он мог говорить с рабочими открыто. Но удастся ли ему и его друзьям убедить шахтеров объявить стачку? Этот вопрос тревожил Чургина, и он мысленно намечал, что надо делать.
Стволовой Митрич робко спросил у него в шахте:
– Ну как, Гаврилыч?
– Что – «как»?
Митрич оглянулся по сторонам, повторил:
– Как, спрашиваю, с ними-то, с начальством: обманул или пришлось объявиться?
Чургин пожал плечами, уклончиво ответил:
– А ты откуда знаешь, о чем я говорил с «ними» и что мне обязательно надо было «объявляться»?
– Должно, знаю, ежели спрашиваю. Помнишь, сказал осенью в конторке: «Придет время – сами объявимся»?
Чургин положил руку на его плечо, тихо ответил:
– Пришло, старина, время всем нам объявляться!
Митрич вполголоса сообщил:
– Дед Ильин тут. По секрету передал: мол, до тебя дело есть.
Чургин бросил острый взгляд в даль штрека, на тусклые керосиновые лампы и пошел к уклону, ничего не ответив. Какой-то невнятной тревогой наполнилась грудь его, чаще забилось сердце. Не успел он пройти несколько шагов, как ему встретилась тетка Матрена, гнавшая вагой с породой. Поотстав от своей подружки откатчицы, она, подойдя к Чургину, спросила:
– Ну как там? Все благополучно?
– Да вы что, только об этом и думаете? – сердито проговорил Чургин.
– Это уж мы знаем, парень, об чем нам думать. А ты, – прошептала она над ухом, поднявшись на носки, – гляди в оба. Дела могут обернуться круто.
– Чем круче, тем ближе к делу, – ответил Чургин и пошел дальше.
Шел и думал: «Я, кажется, уже не просто некая личность, разгоняющая подрядчиков: во мне рабочие видят нечто большее. Значит, стачка должна получиться. Надо только хорошо подготовить все. А я вот с управляющим не мог поговорить как следует и теперь вынужден буду писать хозяину. Значит, и над своим характером надо еще потрудиться. Однако где же может быть Ильин? Неспроста эта лиса явилась в шахту», – вспомнил он о сообщении Митрича и направился в восточную сторону коренного штрека.
Проверив, как идут работы по расчистке уклона, Чургин повернул назад и встретил вдруг Ильина. Озираясь по сторонам, хотя все рабочие были заняты и в штреке никого не было, старый подрядчик поздоровался с конторским десятником и сразу заторопился.
– Хоть и обидели вы меня, Илья Гаврилович, прошлый год, здорово обидели, да господь милостив. Я работаю на другой шахте и на вас злобы не имею: ваше дело такое. Но я человек старый, век доживаю и не могу согласиться… Потушите лампу, я не хочу, чтобы нас видели.
Чургин знал этого старика с квадратной седой бородкой как ловкого дельца, и подумал было, что он хочет дать взятку, чтобы получить обратно лаву, но было очевидно: подрядчик не за этим явился. Пригласив Ильина сесть в стороне, Чургин задул лампу.
Ильин сел на корточки возле целика, тихо заговорил:
– Вы человек молодой, горячо воюете с подрядчиками – бог вас рассудит. Я в свое время тоже был бы непрочь подложить вам свинью, чтобы убрать вас. Но насильно…
– Что «насильно»? – резко спросил Чургин, вспомнив предупреждение старика Ванюшина.
– Да тише же! Убить вас хотят, голубчик, – дрожащим голосом наконец выговорил Ильин. – А я не хочу этого. Мои руки чистые, и чистыми останутся до гроба.
Чургин был немало изумлен: ведь Ильин его противник, и несомненно был одним из заговорщиков. Верить ему или не верить?
– Это верно? Может, так – поболтали только по пьяному делу?
– Зря я вас тревожить не стал бы, – ответил Ильин. – Кровавое дело замышляют. Меня вот на сговор тоже позвали.
– Где и когда? – спросил Чургин.
– В номерах Кальянова. Сегодня вам, пожалуй, еще нечего опасаться. Сегодня только договариваться будут. Ежели что – постараюсь дать знать.
– Ну что ж, спасибо, папаша, – поблагодарил Чургин, и старик Ильин исчез в темноте.
5
В девять часов вечера Чургин послал Стародубу записку с сообщением, что работы в шахте возобновились, и заторопился домой: на десять часов было назначено экстренное собрание кружковцев. Он пришел домой, как всегда, спокойный, неторопливый, но душа его впервые была полна острой тревогой.
На кровати лежал Леон, возле него сидели Ольга, Варя и только что приехавшие из хутора Егор Дубов с женой и тихо разговаривали. Малыш прыгал на коленях у жены Егора, смеялся и все тянулся к чубу казака, выкрикивая что-то только самому ему понятное.
Пожав руки гостям, Чургин подошел к больному. Леон лежал с закрытыми глазами, на животе у него стояла кастрюля со льдом. Лицо его было красно, брови страдальчески приподняты, но он молчал.
Чургин взял его за руку, достал карманные часы и сосчитал пульс.
– Сто десять. Плоховато, брат. Симелов был?
Варя передала записку Симелова. Там было написано: «Кровоизлияние в брюшной полости, опухоли от ударов. Возможно воспаление брюшины. Установим окончательно завтра».
Малыш задорно смеялся, увидев отца, потянулся к нему, но Чургин сожалеюще развел руками и посмотрел на часы. Часы показывали девять часов тридцать минут.
– Грязный я, сынок, и некогда мне, – сказал он, но потом взял его на руки, подбросил несколько раз к потолку и пристально посмотрел на него. «Да… Ну, ничего, сынок. Сегодня твоему батьке еще ничего не грозит», – подумал он и, стараясь не выдать своего волнения, отдал малыша Егоровой жене и стал умываться.
Егор поведал о своем горе. Здоровье его мальчика ухудшилось. Симелов не стал скрывать: процесс медленного заражения крови подходил к концу, и мальчику грозила смерть.
– В Харьков, говорит, надо бы везти, тут нет таких лекарств. А куда мне его везти, как я и так пролечил на него все хозяйство? – с грустью проговорил Егор.
Чургин перебрал в памяти все, чем он и Симелов могли бы помочь Егору, но оба они были беспомощны.
– Хорошо, я сегодня поговорю с Симеловым, может, в Новочеркасске можно помочь мальчику – поедете к Оксане.
Егор, как бы извиняясь, тихо промолвил:








