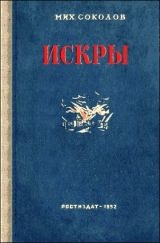
Текст книги "Искры"
Автор книги: Михаил Соколов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 38 страниц)
1
Лука Матвеич дорогой успел расспросить Леона о событиях на заводе. На квартире у Ткаченко они застали Ряшина, Александрова, Вихряя и Ермолаича.
Увидев Ермолаича, Леон спросил:
– А вы зачем бегали с дедом Струковым к дому директора?
– За умом, – ответил Ермолаич и, подняв рубашку, оголил спину. На ней от плеч до поясницы краснел кровавый след казачьей нагайки.
Лука Матвеич покачал головой:
– Вы тоже дрались с казаками?
– Нет, – ответил Ермолаич. – Лавренева хотел поднять, когда его есаул сбил, ну и полоснули, дьяволы.
– Сколько арестовали?
– Человек двадцать, а остальные разбежались. Чурбачова только что забрали.
Ряшин, сидя за столом, что-то писал на листке бумаги. В стороне на скамейке, опершись руками о колени, с низко опущенной головой сидел Александров. Ему казалось, что казаки приедут и за ним, что, быть может, они уже приехали и допрашивают жену. Он так задумался, что и не заметил вошедших. Леон подошел к нему:
– Об чем зажурился, Александрыч?
– О Сибири, – не отрываясь от бумаги, сказал Ряшин.
Леон удивленно посмотрел на Александрова, на которого он больше всех надеялся, и с сердцем проговорил:
– Ну и черт с ней, с Сибирью! Всех не пересажают.
Александров поднял голову, попросил закурить. Все знали, что он не курит, но никто не удивился его просьбе, и каждый с готовностью предложил свой кисет.
– Молодой, а уже в наставники метит, – усмехнулся Александров, неумело сворачивая цыгарку. – Не беспокойся, Александров не из трусливых и Сибири не испугается. Сибирь тоже русская земля.
Пришла Ольга и сообщила, что полчаса назад полиция арестовала кочегара, который давал тревожный гудок.
Вихряй нахмурился. Кочегаров бунтовал он, и вот уже у одного из них семья осталась без хлеба.
Лука Матвеич сел за стол, достал трубку. Набивая ее табаком, спросил:
– Какие цеха продолжают работать?
– Литейный, кирпичный и одна доменная печь из трех, – ответил Ряшин.
– И шахтенки заводские, – добавил Ткаченко.
– Сколько в тех цехах рабочих?
– Больше тысячи. Да теперь их вряд ли остановишь. Аресты испугали народ.
– Надо остановить, – спокойно возразил Лука Матвеич. – В железнодорожных мастерских знают о забастовке?
– Думаю, что знают.
– О нас теперь весь город знает, – с гордостью сказал Ткаченко.
– Это хорошо, но надо послать в мастерские, на другие предприятия и обратиться ко всем рабочим города с призывом присоединиться к стачечникам… Сколько у вас членов комитета? Как это вы собрались заседать, а не расставили дежурных, когда в поселке казаки, не установили пароль? – недовольно заметил Лука Матвеич и послал Ермолаича с Ольгой на улицу.
Ряшину не понравилось вмешательство Луки Матвеича в дела стачечного комитета. Оставив составление требований к директору завода, он пригласил всех сесть поближе к столу и сказал:
– Я советую прежде всего избрать председателя комитета, а затем обсудить план наших действий.
– Ты и будь председателем. Чего опять выбирать, раз в цехе выбирали? – подал голос Александров.
Никто против этого не возразил, и тогда Ряшин открыл заседание и рассказал о том, что, по его мнению, нужно делать стачечному комитету.
– Цехи, конечно, желательно остановить, – сказал он в заключение, – хотя теперь это будет трудновато сделать и может быть истолковано как насилие. Надо обратиться ко всем рабочим с воззванием, разъяснить причины нашей стачки и заявить, что поступок Лавренева является ошибочным и что рабочие не собираются прибегать к мерам насилия.
Лука Матвеич пыхнул дымом, вынул трубку изо рта и спросил:
– To-есть вы рекомендуете откреститься от товарищей, как от «насильников»?
– Просто заявить, что наша борьба ничего общего не имеет с действиями Лавренева. А вообще, как товарища, мне его жалко.
– Но в обращении надо ясно сказать, о какой борьбе идет речь.
– Об экономической пока что. Подрастем немного – перейдем и к политической, – невозмутимо ответил Ряшин.
– Это вы, конечно, вычитали в «Рабочей мысли»? – Лука Матвеич положил трубку на стол, встал и, пригладив усы, обратился к членам комитета: – Разрешите, товарищи, сказать несколько слов и мне, как представителю губернского центра партии.
Ряшин растерялся. Он знал, что Цыбуля наряду с экономическими обязательно выдвинет политические требования, а это не входило в его расчеты.
– Хотя стачечный комитет есть организация не политическая и не партийная, но пожалуйста, – быстро нашелся он.
И Лука Матвеич заговорил о том, что надо делать, чтобы стачка удалась.
После заседания стачечного комитета Лука Матвеич попросил Леона и Ольгу помочь ему перенести два больших чемодана, спрятанных в старой шахте.
Посоветовавшись, решили отнести груз к Степану Вострокнутову, жившему в хуторе, в пяти верстах от завода. Степан работал на заводе фурщиком, считался казаком и у полиции был вне подозрений.
Тяжелые чемоданы тащили с трудом и к хутору подошли и полночь.
Степан с удивлением встретил ночных гостей, но охотно согласился принять все, что нужно прятать от полиции.
Леону не терпелось поскорее увидеть «типографию», и он попросил Луку Матвеича показать ее. Лука Матвеич достал шрифт, какие-то жестяные коробки, флаконы с жидкостями.
– Это и есть типография, – пояснил он и открыл другой чемодан, в котором было три браунинга, патроны, книги, какой-то сверток. Леон взял револьвер, но Лука Матвеич отобрал его и, развязав сверток, протянул ему газету.
Леон прочитал:
– «Искра». Это что же такое?
– Это оружие похлеще браунингов, – ответил Лука Матвеич.
– «Искра», – опять прочитал Леон. – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Так это же боевые слова Карла Маркса о пролетариате!
– А это и есть боевой марксистский орган российской революционной социал-демократии, орган нашей партии, – сказал Лука Матвеич. – Мы потом почитаем, а сейчас я нам покажу, как размножаются писаные прокламации. Типографскому делу вам придется учиться долго, а вот стеклографию вы сразу поймете.
Он присел к столу и особыми чернилами быстро переписал четким, убористым почерком предложенный им на заседании стачечного комитета текст обращения к рабочим Югоринска, потом снял со стены рамку с портретом Николая Второго и на стекле, смазав его особым составом, проявил текст. Затем отпечатал несколько экземпляров обращения в виде небольшой листовки, смыл фиолетовые строчки, вытер стекло и отдал портрет Степану.
Степан осмотрел поверхность стекла и усмехнулся:
– Ловко! На глазах у самого царя сделано.
Леон и Ольга взяли листовки, условились с Лукой Матвеичем о встрече и собрались уходить. Степан хотел было запрячь лошадь, но Лука Матвеич сказал, что этого делать не следует, и Леон с Ольгой ушли пешком.
Стоял густой туман, моросил мелкий дождь. Дорога была накатана и покрылась льдом. Леон попытался итти по ее обочине, но снег тут был рыхлый, и он проваливался в него по щиколотку.
– Лева, я хочу уехать на шахту, – неожиданно сказала Ольга.
Леону стало ясно, что Ольге тяжело. «Да, далеко зашло дело. Но…» – Не закончив своей мысли, он взял Ольгу под руку, и у него невольно вырвалось:
– Не уезжай.
Ольга положила на руку Леона свою, и они легко зашагали по дороге, настороженно озираясь.
2
Утром Дементьевна, разбудив Дороховых, тревожно сообщила:
– Гудка нету! Мы лежали, лежали с Гордеичем, как проснулись, а его все нету. Должно, и гудок забастовал, истинный господь.
Леон быстро оделся, позавтракал и пошел на завод.
– Харчи, Лева! – крикнула вслед ему Алена, но он только махнул рукой.
За поселком его поджидал Лука Матвеич. Выйдя на бугор, они остановились, посмотрели на заводские здания и не услышали обычного тяжкого гула. Лишь из высокой трубы кирпичного цеха валил густой черный дым, да над крышами литейного вихрились искры из вагранок. Из труб доменного цеха лениво струился беловатый дымок от холостой «калоши».
Вокруг не было ни души. Лука Матвеич улыбнулся:
– Хорошо. Стачечный комитет действует.
На табельных досках заводских ворот за металлическими сетками висели номера. Больше всего их было на досках литейного цеха, меньше – на доске доменного, совсем мало – мартеновского, механического, модельного, и ни одного номера не было на доске прокатного цеха. «Здорово!» – сказал про себя Леон и услышал позади голос сторожа:
– Шли бы вы, ребята, лучше за рыбой в Кислый кут.
Леон задорно тряхнул головой, сбил картуз на затылок и вопросительно посмотрел на Луку Матвеича.
– Пошли к литейному, я на Ряшина что-то не надеюсь, – сказал Лука Матвеич.
По пути им встретилась группа рабочих. Лука Матвеич остановил их:
– Вы куда?
Рабочие переглянулись и ничего не ответили.
– Не бойтесь, мы от забастовочного комитета.
– Домой идем, товарищ бастовочный комитет. Кирпичный стал, печи тушат. Видишь, дымище какой?
Лука Матвеич глянул на трубу кирпичного цеха и удовлетворенно кивнул головой:
– Ну, молодцы, товарищи! Помните: без приказа забастовочного комитета на работу – ни один! Только вот что: мы-то с вами бастуем, а костыльный чадит. Пошли останавливать!
Рабочие присоединились к Луке Матвеичу и Леону. По пути встречались новые группы рабочих. Лука Матвеич и Леон немного задерживались с ними, советовали не выходить на работу до распоряжения стачечного комитета, и люди, ободренные тем, что о них заботятся, что с ними все рабочие, поворачивали назад, а иные торопливо уходили с завода. Лишь один какой-то рыжебородый мужик хмуро спросил:
– А вы что за птицы такие, что пытаете, куда я иду?
– Трус! – бросил Леон презрительно, но Лука Матвеич так посмотрел на него, что он осекся.
Мужик почесал в затылке и проводил Леона и рабочих злым взглядом.
Возле костыльного, наклонив голову и о чем-то раздумывая, прохаживался Вихряй. Завидев Луку Матвеича, он подошел к нему и взволнованно сказал:
– Не могу уговорить, боятся бросать работу. Что будем делать?
– Ничего, сейчас попробуем. Кто может выключить дутье? – спросил Лука Матвеич.
– Я выключу моторы, – вызвался Вихряй.
– Хорошо. Остальные – в цех. Леону задержать мастера.
Вихряй побежал в моторное отделение, а Лука Матвеич и все рабочие ватагой направились в цех.
Вошли и остановились. Посреди цеха, выстроившись в длинный ряд, шумели невысокие квадратные камельки – нагревательные печи. Из многочисленных дыр их торчали железные прутья – заготовки, било синее пламя, и от него в цехе туманом стоял угарный газ. Но люди не замечали его. Подростки бегали от печей к прессам с раскаленными заготовками в руках, взрослые вставляли их в штампы и делали костыли, некоторые тащили тяжелые ящики куда-то в глубь цеха, и только мастер спокойно ходил возле прессов, заложив руки назад.
Заметив посторонних, о чем-то говоривших с костыльщиками, мастер направился к ним, но Леон и группа рабочих окружили его. В эту минуту шум печей вдруг стих и прессы умолкли.
– Товарищи костыльщики! – напрягая голос, крикнул Лука Матвеич. – На заводе объявлена забастовка. Все цехи, кроме вашего и литейного, бросили работу, избрали комитет и наказали ему составить требования насчет повышения заработка, отмены штрафов и про другие рабочие нужды. По поручению заводского стачечного комитета объявляем ваш цех остановленным. На завод не приходите до тех пор, пока дирекция завода не примет наших требований и пока комитет не объявит, что можно возобновить работу.
– Вон отсюда, иродово племя! – загорланил мастер, но Леон схватил его за руку, а пожилой костыльщик крикнул:
– Помолчи, жила чертова! Мы согласны и бросаем работу, – сказал он в ответ Луке Матвеичу и обернулся к своим: – Как, ребята?
– Броса-аем!
– По дома-ам! – послышались со всех сторон голоса.
Лука Матвеич попросил костыльщиков помочь остановить литейный цех. Охотников нашлось много, но едва подошли к литейному цеху, как оттуда повалил народ.
Увидев Ряшина и Ткаченко, Лука Матвеич воскликнул:
– Ура литейщикам!
– Ура костыльщикам! – ответил Ткаченко, и веселые голоса наполнили заводской двор.
Леон наблюдал за Лукой Матвеичем, за его спокойными и точными действиями и думал: «Вот он, старый революционер. Ни одного лишнего шага! И как это он знает, что и кому сказать?»
Лука Матвеич взобрался на старые опоки и заговорил громко, отчетливо:
– Товарищи! По вашей воле завод стоит. Вместе со всеми рабочими России сегодня и вы выступили против своих угнетателей. Вчера полиция и казаки зверски расправились с Лавреневым и молодыми рабочими. Они хотели запугать вас. Отвечайте на это решимостью довести всезаводскую забастовку до победного конца! В ней – ваша сила, первое пока оружие. Лавренев – честный человек. Это хозяин-капиталист и его холуи довели рабочих до отчаяния, и люди пошли на погром. Вы должны потребовать освобождения их и сказать, что иначе вы не пустите завод. Хозяин и власти – одна шайка. Не успели вы подняться на борьбу с Сухановым, как на вас бросили казаков и полицию. Значит, рабочие не могут успешно бороться против капиталистов, пока существует царизм…
Вдали на заводском железнодорожном полотне показались всадники. Лука Матвеич возмущенно закончил свою речь:
– Вот и сейчас нам не дают говорить: опять едут казаки. Не падайте духом, товарищи! Объединяйтесь для борьбы за полное экономическое и политическое освобождение!
Рабочие увидели казаков и бросились кто куда.
– По домам! – крикнул Ряшин.
Леон указал Луке Матвеичу на бракованные трубы и побежал следом за ним. Но казак с тремя белыми лычками на погонах настиг их, наклонился с седла и заработал нагайкой. Леон зашатался, закрыл лицо руками и почувствовал, как чьи-то сильные руки схватили его и понесли.
Очнулся Леон в трубе. Впереди него сидел тот самый мужик с рыжей бородой, которого он назвал трусом.
– Это ты меня сюда затащил? А где тот, усатый? – спросил Леон.
– Убежал. Но вахмистр, кажись, догнал его. Пошли, все уже утихомирилось. Кровь оботри.
Леон вытер лицо, вылез из трубы и несколько раз негромко крикнул:
– Цыбуля! Товарищ Цыбуля!
Из других труб выползло несколько человек, но Луки Матвеича среди них не было.
– Эх, неладно получилось, – удрученно проговорил Леон. – На кой черт ты меня тащил? – обратился он к рыжебородому мужику. – Того, усатого, надо было спасать. Как звать-то хоть, скажи?
– Данила Подгорный. Я тебя спасал, думал, шашкой рубанули: кровью взялся здорово.
3
Леон направился к Ткаченко, жившему в казенной квартире рядом с заводом, и нашел его дома.
– Где Цыбуля? – спросил он.
– Арестован, – угрюмо ответил Ткаченко.
Леон сел на стул и упавшим голосом произнес:
– Такого человека не уберегли!
Домой он пришел с перевязанной головой. Алена, увидев его испятнанного кровью, с черной повязкой, в ужасе воскликнула:
– Кто это тебя?!
– Казаки.
– За что?
– Поди спроси их.
Алена села на стул и заплакала.
– Проклятая жизнь! Там меня отец порол арапником, тут тебя бьют. Да что это за наказание божие, за судьба такая?!
– Ну, ничего. Ты там перенесла, а я тут перенесу. Придет время, за все с них спросим.
– Спросишь ты с них! Лавренев уже спрашивал, да в тюрьме оказался. Эх, Лева, Лева! И на черта ты связался с ними, с хозяевами теми? Как будто тебе больше всех надо.
Возбужденная, быстрая, пришла Ольга. Едва она переступила порог, как Алена обратилась к ней:
– Оля, ну хоть бы ты отговорила его и не пускала в самое пекло. Ведь они его порешат когда-нибудь.
Ольга переглянулась с Леоном, подошла к Алене и погладила ее по плечу.
– Успокойся, Алена, слезами делу не поможешь. Пришлось так – вот и побили его. Но не всегда будут нас бить. Когда-нибудь мы им отомстим.
Алена утерла слезы, встала.
– Вы, я смотрю, одним миром мазаны, – недовольно сказала она и зло посмотрела Ольге в лицо. – Да на что мне ваша месть? Я хочу жить спокойно! Они будут мстить хозяевам. Подумаешь, какие храбрые! А хозяин возьмет да рассчитает вас да еще скажет полиции, чтоб за решетку вас посадили. Очень мне весело будет, если Леона заберут в тюрьму, а я с дитем останусь. Об этом ты думал? – спросила она у Леона.
Ольга видела, как при этих словах Леон покраснел и не знал, куда смотреть и что говорить. И так ей стало жалко его и обидно за него. «Да, Лева, нелегкая жизнь будет у тебя. А это ведь только начало», – подумала она и ответила Алене так же резко:
– Тебя послушать, так завязывай глаза и беги на край света. Нет у нас такой жизни, чтоб все шло тихо да спокойно. Ты это понимаешь? «Рассчитают, за решетку посадят», – насмешливо передразнила она Алену. – Подумаешь, страсти какие! Хватит нам дрожать. Пугали нас, да не очень мы боимся их всех! А ты поменьше бойся, тогда и жизнь будет как жизнь.
Леону понравилась речь Ольги, и он поддержал ее:
– Правильно, Оля. Ну, да это Алене с непривычки все таким страшным кажется. Я думаю, это скоро пройдет.
Алене и самой понравились слова Ольги, но она не сказала об этом, а только подумала: «Какие они горластые, уверенные, эти заводские девки. Все одно как мужик говорит».
От хаты Горбовых доносились песни. Леон по голосу узнал Дементьевну, певшую свою любимую плясовую, и спросил у Алены:
– Гуляют, что ли?
– А то ты впервой слышишь? С утра, – ответила Алена.
Леон набросил жакет на плечи и вышел.
У Горбовых шел пир горой. На старинном, обитом медными лентами сундуке сидел Иван Гордеич и, широко размахивая рукой, топал по земле огромным сапогом. Дементьевна в широкой синей юбке и белой кофточке с кружевами, подняв над головой рюмку с водкой, павой кружилась по хате, пристукивала ногой по земляному полу, и голосок ее бойко звенел на весь двор:
Полетел комаречек с горя в по-оле.
Да присел комаречек на дубо-очек.
Ой, задумался комарик, зажури-ился,
Почему он на мухе не жени-ился.
За столом, под иконами, помощник Ивана Гордеича по работе, такой же бородатый и рослый, как и он, пьяными глазами смотрел на невзрачного каталя Гараську. Тот, уставившись в тарелку, нацеливался вилкой на селедку. Вот он наколол кусочек, но сбросил его черными крупными пальцами. Потом нацелился на другой, но опять промахнулся. Тогда он сгреб пятерней все, что было на тарелке, выбрал злополучный кусок селедки, а остальное бросил в чашку с квашеной капустой.
А перед Дементьевной уже плясала и кривлялась красная, как калина, Гаращиха, припевая:
И пить будем, и гулять будем;
А смерть придет – помирать будем.
А смерть пришла – меня дома не нашла;
Я у Горбовых была, горьку водочку пила.
Леон стиснул зубы, отошел от окна и решил пройти по поселку, посмотреть, чем занимаются другие. Услышав шум в хате деда Струкова, он вошел в нее и остановился на пороге.
В хате было полно народу, стоял густой дым махорки. Посредине за низким круглым столом сидели игроки. Не шевелясь, не роняя ни одного звука, они, как зачарованные, смотрели на разложенные на столе, на коленях почерневшие карты лото, накрывали называемые банкометом цифры тыквенными семечками, картонками, и каждый то и дело посматривал на соседа – нет ли у того «квартиры».
Ермолаич, дымя прилипшим к губе окурком, сидел на табурете, шумел в сумке «бочонками» и бойко называл номера:
– Десять! Пятерка! Шалды-балды! Барабанные палочки!
Кто-то удовлетворенно протянул:
– Ко-он-чи-ил…
И ожили игроки, загалдели, щелкая языками, сожалея, что не дождались желанного номера.
– Ах ты ж, чертово дело, а! Пять квартер было!
– Постойте, постойте, я давно, кажись, кончил, – засуетился дед Струков. – Я ж в передвижку, язви ее.
– Двигал бы, а выигрыш мой, – строго сказал его сосед и сгреб к себе выигранные медяки.
Ермолаич, заметив Леона, спросил:
– О, Лева, что это у тебя за повязка? Проходи, садись. Ты на заводе…
– Пять было, крикун? – проверял кто-то выигравший номер.
– Было… Ты на заводе был? Как там? – расспрашивал Ермолаич Леона, складывая «бочонки» в сумку.
Леон стоял, злыми глазами смотрел на игроков и молчал. Ермолаич смутился, поворочался на скрипучей табуретке и сбросил с губы окурок.
– Сынок, зубы, что ли? Как там в нашем цеху? – спросил дед Струков у Леона.
– Крикун, заснул?
– Один! – начал новый круг Ермолаич. – Девять!.. Левка, бери карты!.. Три-перетри!
Леон круто повернулся и пошел прочь.
– Дедушка!.. Леон, куда ж ты?.. Туды-сюды!.. Левка! А пошли вы к черту! – выругался Ермолаич, швырнув сумку с «бочонками», и встал. – Расходись все не медля! На заводе такие дела, а у нас будто других и занятий нет!
Дед Струков сложил свои карты и бросил на стол.
– Правильные слова, Ермолаич. Левку, может, казаки нагайкой хватили, потому голова у него перевязана, а мы…
Рабочие некоторое время сидели на своих местах, тихие, сумрачные. Потом тяжело поднялись и стали расходиться.
Леон возвращался домой, и в груди у него щемило от боли. Как же можно продолжать забастовку? Чего можно добиться, если люди ведут себя так, будто ничего и не случилось, если даже Ермолаич, член забастовочного комитета, играет в лото?
Дома Алена и Ольга встретили его тревожным вопросом:
– Где ты был? Луку Матвеича арестовали. По поселку разъезжают казаки. Многих взяли уже.
Леон зло посмотрел на них и с ожесточением ответил:
– Нас всех арестовать надо! За то, что жизнь свою в лото проигрываем, что Луку Матвеича не отбили от казаков!
У Ткаченко собрались Ряшин, Вихряй, Ольга и Щелоков. Леон пришел последним.
– А где Александров? – спросил он.
Но где был Александров, никто не знал.
Ряшин сел за стол, задернул окно занавеской и сказал тихим голосом:
– Начнем. Надо обсудить обращение к рабочим и требования к дирекции завода.
– Покажи, что ты написал, – попросил Леон.
Ряшин молча подал ему исписанные мелким почерком листки тетрадной бумаги. Леон прочитал про себя требования, кольнул взглядом Ряшина и обратился к товарищам:
– Вы читали уже?
– Я говорил Ивану Павлычу, что надо сказать о восьмичасовом рабочем дне, а он говорит, что, мол, еще рано это требовать, – ответил Ткаченко.
– Я говорила Ивану Павловичу про самодержавие, а он высмеял меня, – обиженно проговорила Ольга.
Леон достал из кармана листовку Луки Матвеича и положил ее на стол перед собой.
Все напряженно ждали, что он скажет.
– О восьмичасовом дне ничего нет, про самодержавие, про свободу – ни слова, – перечислял Леон. И думал: «Как же поступить? Ряшин гнет свое. Луки Матвеича нет».
Ряшин нетерпеливо ворочался. Он видел, что Леон сличает написанный им текст с листовкой, напечатанной на стеклографе, и догадался, что это мог сделать только Цыбуля. Еле сдерживаясь, он наконец сказал:
– Дорохов, я председатель и несу полную ответственность за свои действия перед рабочими. Я уже говорил вчера, что некоторые из предложенных здесь Цыбулей заявлений могут отпугнуть от нас все общество. Надо пока говорить о повседневных, всем понятных нуждах рабочих, а не витать где-то в облаках общей политики и будущих благ.
– Не согласна я, – решительно заявила Ольга. – Как это не думать о будущем? А остановка завода – это, по-вашему, не политика? А протестовать против кровавой расправы полиции и казаков с рабочими – не политика? Это и есть та самая политика, про которую говорил товарищ Цыбуля.
– Правильно, Ольга, – поддержал ее Ткаченко. – К нам прибыла казачья сотня. А кто ее послал? Власть, значит – правительство, самодержавие. Вот и выходит, что мы уже начали борьбу с самодержавием, а не только с хозяином завода. Так я понимаю.
«Ну, Иван Павлыч, теперь держись. Левка разделает тебя под орех», – мысленно говорил Вихряй, ворочаясь на табурете, будто ему не терпелось поскорее высказаться.
Леон спросил его:
– Ты хочешь говорить?
Вихряй растерянно заморгал глазами:
– Я? Нет. Просто я согласен с Ольгой и Ткаченко.
Леон сложил вчетверо листовку Ряшина, спрятал ее в карман и сказал:
– Давайте, товарищи, почитаем другую листовку. Твою листовку, Иван Павлыч, пускать в дело не стоит: она неправильная.
– Это почему же? – сердито спросил Ряшин.
– А вчера представитель губернского центра ясно говорил – почему.
Ряшин встал из-за стола и сделал вид, что хочет уходить.
– Я не могу быть председателем в таком случае, – заявил он. – У нас забастовочный комитет, а не политическая организация. Цыбуля и губернский центр не имеют права навязывать рабочим свою волю.
Леон резко прервал его:
– Цыбуля – представитель нашей партии и дает нам, рабочим, дельные советы. Не угодны они тебе, воля твоя.
Ряшин надел картуз и слегка поклонился всем.
– Можете разговаривать в том же духе. А меня прошу освободить от ненужной траты времени. Я не привык, чтобы гонцы читали мне лекции о том, как лучше ходить по земле грешной. Дай сюда мою листовку, и мы квиты, товарищ Дорохов.
– Это что же, бежать? В кусты бежать в такую минуту? – сверля Ряшина злым взглядом, спросил Леон.
– Почему «бежать»? Просто нам не по пути, только и всего, – ехидно ответил Ряшин.
Леон встал и возбужденно прошелся по комнате.
– Вот что, Иван Павлыч, – обратился он к Ряшину. – Если ты расклеишь свою листовку, мы… мы поведем с тобой борьбу. Как смеешь ты, передовой человек, так поступать в этот момент? Рабочие играют в лото, гуляют, не знают, что им делать, а мы не можем указать людям верный путь. Какие же мы после этого социалисты?
– Ты молокосос, – холодно ответил Ряшин, – и тебе надо еще самому учиться, прежде чем поучать других. Злостной демагогией занимаешься. И я, конечно, скажу об этом где следует.
Леон задрожал от обиды, язвительно спросил:
– В полиции, что ли?
– Э-э, ты начинаешь ругаться? Не советую. Ты еще придешь ко мне, молодой человек.
Ряшин ушел.
4
Утром следующего дня на стенах и заборах появилась листовка за подписью: «Бастующие рабочие». Патрулировавшие казаки сорвали ее. А вечером Вихряй, Ткаченко и Ольга расклеили отпечатанные на стеклографе листовки с текстом Луки Матвеича за подписями: «Всезаводский стачечный комитет» и «Югоринский комитет Российской социал-демократической рабочей партии». Листовка кончалась требованием восьмичасового рабочего дня и лозунгом: «Долой кровавый разбой полиции и казаков! Да здравствует свободная стачка рабочих!»
В центре города и возле завода листовку сорвали быстро, но в поселках она висела до полудня, пока ее не уничтожила полиция. Несколько листовок сняли со стен сами рабочие, и эти пошли по рукам.
В полдень Ермолаич и Вихряй, вручавшие требования директору завода, по выходе из конторы были арестованы, а вечером казаки приезжали к Горбовым и сделали обыск. Леон незадолго до их появления ушел на хутор к Степану Вострокнутову.
Еще через день были арестованы Ряшин и его друг, хранивший литературу кружка.
Казаки начали устраивать облавы. Окружив поселок, они задерживали рабочих, врывались в дома, под видом обыска потрошили сундуки, шашками вспарывали подушки и перины, а если рабочий жил в казенной квартире, выбрасывали вещи на улицу. Каждого десятого из тех, кто не хотел итти на работу, задерживали и отправляли в полицейский участок. Но рабочие все равно не шли на завод.
Стачечный комитет послал директору завода для передачи хозяину требование прекратить глумление над народом, а по поселкам было расклеено обращение к населению с просьбой не поддаваться запугиваниям казаков. Обращение всюду было сорвано, и за его чтение люди подвергались аресту. Второе требование к Суханову тоже осталось без ответа.
Тогда члены стачечного комитета, выбирая часы, когда в поселках не было казаков, начали ходить по домам, агитировать и убеждать рабочих не выходить на работу. Но в поселках распространялись невероятные слухи о высылке всех забастовщиков в Сибирь, о том, что в Югоринск едут войска с пушками, что на завод Суханова из России уже направляются рабочие с других заводов, и не было двора и семьи, где люди не были бы охвачены тревогой и страхом за себя или близких.
Так длилось шесть дней. На седьмой день, ничего не добившись, напуганные действиями властей, люди пошли на завод. Стачечный комитет вынужден был выпустить объявление о прекращении стачки.
Было морозно, падал мелкий, колючий снег.
Над заводом, над потухшими печами и черными трубами кружилось и горланило воронье.
У заводских ворот, охраняемые казаками, в шубах сидели за столами мастера завода. Перед ними были списки рабочих, карандаши, перочинные ножи. Снег сыпался на столы, на списки, но мастера стряхивали его и, стараясь перекричать друг друга, выкрикивали:
– Следующий!
– За ворота! Следующий!
– Пропущай!
К столу мастера Шурина подошел Александров. Шурин взглянул на него, хихикнул:
– A-а, господин старшой! Старшой забастовщик! Иди-ка вон туда, – кивнул он в сторону степи за заводом. – Там тебе, может, больше заплатят.
– Как то-есть «иди»? – спросил Александров.
– Тебе сказано – иди, значитца, иди, – сказал, подходя к нему, чубатый казак.
– Следующий! – кричал Иван Гордеич. – Фамилия? Номер? – И, найдя фамилию в списке, примирительно говорил: – Иди в цех. Да благодари бога и вперед думай своей башкой.
– Следующий! Фамилия? – раздавался рядом голос другого мастера.
– A-а, бунтовщик? За ворота, с собаками выть!
– Сам ты собака!
– Проходи, не задерживай, – выталкивал рабочего на улицу казак с винтовкой.
– Что ты меня уговариваешь? Ты будешь мою семью кормить? Изверги вы, богом проклятые!
Казак взял рабочего за руку и, оглянувшись, тихо сказал:
– Иди-ка добром да скажи своим, чтобы не очень буянили. Сотник приказал спуску вашему брату не давать.
– Следующий! Номер? Фамилия? – крикнул Иван Гордеич.
– Колосова Ольга.
Иван Гордеич глянул на Ольгу поверх очков, поискал в списке фамилию и показал крест, поставленный рядом с ее рабочим номером. Укоризненно покачав головой, он достал из кармана резинку и стер крест.
– Проходи.
Ольга отошла в сторону и остановилась, ожидая, пропустят ли Леона и Ткаченко.
– Следующий! Номер?
Шурин поднял глаза и, увидев перед собой Ткаченко, ухмыльнулся.
– Придется с девками, парень, работать тебе. У-у, крамольник! За ворота!
Ткаченко взял описок, посмотрел в него: рядом с его фамилией стоял жирный черный крест.
– Не задерживай, – сказал молодой казак и взял его за руку, но Ткаченко оттолкнул его:
– Кого защищаешь, станишник? Кровососов народа?
– Это что за речи? Взять! – крикнул, подходя, урядник.
Ткаченко выбежал на улицу и смешался с толпой.
– Следующий! А-а, – злорадно произнес мастер кирпичного цеха и повысил голос: – За ворота!
От стола пошла женщина, наклонив голову и тихо всхлипывая.
– Следующий! Номер?
– Пять тысяч четыреста один, – отчетливо произнес Леон.
Шурин поднял голову.
– А-а.
Сидевший рядом с ним Иван Гордеич наклонился к нему, заговорил над ухом:
– Мой. Я хорошо знаю, – услышал Леон.
Стоявшие сзади рабочие ждали, чем кончится разговор мастеров. Многие знали Леона по его выступлению в прокатном цехе, некоторым было известно, что он «стачечный комитет».
Мастер Шурин ткнул пальцем в список, развел руками:
– Не могу. Прав не имею, Гордеич.
Иван Гордеич потянул список к себе, хотел стереть крест, но Шурин отстранил его руку, что-то шепнул на ухо, и Иван Гордеич с укором посмотрел на Леона и покачал головой.








