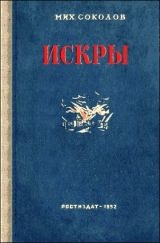
Текст книги "Искры"
Автор книги: Михаил Соколов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)
– Давай тут подождем. Как пригласят в хату – значит дело пошло, а нет – нам там все одно мед не пить.
Вбежав в хату, Дарья Ивановна затолкала мужа в широкую, мясистую спину:
– Мироныч, Мироныч! Одевайся скорей! Сваты!
Нефед Мироныч неудобно обернулся, сонными глазами посмотрел на жену, ничего не понимая, и уселся на сундуке, свесив босые ноги.
– Да скорее, ради небесного! – торопила она его, подавая штаны. – Люди на дворе стоят!
– Сдурела баба, – недовольно проворчал Нефед Мироныч, не попадая спросонья ногой в штанину. – Бабы пришли, небось, языки почесать, а ей сваты. Откуда люди?
Дарья Ивановна убрала подушку, погнала его с сундука, намереваясь достать из него юбку и кофточку.
– Наши хуторские. Встань с сундука!
– Наши? – Нефед Мироныч недоуменно выпучил красные от сна глаза и запрыгал на одной ноге к окну.
Отведя в сторону занавеску и узнав жену Максимова, он зло задернул окно.
– Так это ж Максимиха! Ну, мужичье проклятое, я вам покажу сватов! Я дам вам невест! – Раздраженно сдернув с ноги надетую штанину, он пустил шаровары по полу и метнулся к двери.
– Тю! Ах ты ж, мерин идолов, бесстыжие твои глаза! До баб в исподниках?! Мироныч, да ты сбесился? – напустилась на него Дарья Ивановна и, догнав, схватила за руку, но он, отшвырнув ее в сторону, выбежал на крыльцо.
Максимиха ожидала от Нефеда Мироныча все что угодно, но только не этого. Завидев его в подштанниках, она смущенно переглянулась с подсвашкой; обе готовы были провалиться сквозь землю. Нефед Мироныч, багровея, расставил руки по наличнику двери, спросил:
– Какие это тут сваты объявились?
Максимиха презрительно сощурила глаза, стараясь держаться спокойно, но щеки у нее запылали от гнева.
– У тебя что, штанов нету? Или покрасоваться выбег? – зло заговорила она. – Да ты хоть навовсе скинь их! Наше дело такое: мы купцы, у тебя товар; не сойдемся – в другой двор завернем. Аленку за Леона отдашь? – спросила она.
Нефед Мироныч ухмыльнулся, головой кивнул куда-то в сторону амбара.
– Сучка вон у меня в девках засиделась, могу задарма отдать.
Подсвашка, не зная, куда смотреть от стыда, дергала Максимиху за кофту: лучше, дескать, уйти и не срамиться, но Максимиха, дрожа от злости и обиды, не унималась:
– Сучку ты себе оставь, а дочку нам отдай. Говори нам ответ.
– Вон со двора! – загремел Нефед Мироныч, кулаком грохнув по дощатой стенке крыльца так, что стоявшая рядом цыбарка упала на землю, и пошел на свах, изогнувшись хорем и обзывая их нехорошими словами.
Свахи попятились назад, боязливо оглядываясь, как бы не натравил собак.
Из землянки вышел Яшка. Уж такого и он не ожидал. «Ну, совсем умом тронулся, старый», – подумал он и, поддернув брюки, словно к драке готовился, насмешливо обратился к отцу:
– Правильно, батя. Круши их! Только вот подштанники за зря не сняли, оно удобней было бы.
Нефед Мироныч, опалив его лютым взглядом, прогудел сквозь зубы:
– У-у, и ты туда же, су-укин сын! – И, крутнувшись, ушел в дом.
– Господи, Мироныч! Да на весь хутор осрамилися, на мир православный весь, – со слезами на глазах встретила его Дарья Ивановна.
– Замолчь! «Осрамилися»… Плевать я хотел на хутор твой и на весь мир тутошний!
Возле соседнего дома стояли и смеялись бабы.
А в землянке на кровати рыдала Алена, проклиная рождение свое, дом родительский, отца…
3
Нефед Мироныч, отдохнув, вышел во двор размяться и без надобности то убирал камешки, то старый инвентарь переставлял с места на место.
В калитке показался Степан Вострокнутов. Заметив хозяина, он поздоровался еще издали и направился к нему.
– О, это ж беда! И идут и идут – хоть из ружья в них пали! – вполголоса проворчал Нефед Мироныч, выходя из-под навеса.
К нему редкое воскресенье не приходили с какой-нибудь просьбой. Обычно считалось, что Нефед Мироныч после возвращения из церкви бывает в хорошем расположении духа и в такие минуты с ним легче столковаться. Так и Степан. Он только что был у свояка, советовался о своем неожиданном горе и, возвращаясь домой, не зная о только что происшедшем во дворе Загорулькина, зашел потолковать о долге. Еще весной он занял у Нефеда Мироныча под проценты тридцать рублей на корову. И вот уж прошел срок уплаты, а у него случилась беда: конь его провалился на мосту в щель и сломал ногу. На днях Степан купил другого, надеясь упросить Загорулькина отсрочить долг.
Нефед Мироныч подошел к нему вялой походкой, недовольно подал руку и презрительно оглядел его наряд. Степан был в старых чириках, в залатанных, убранных в шерстяные чулки шароварах.
– Чего это ты так прибеднился? Лампасину вон черным залатал, картуз сидит не по-казацки. Или в мужики записался?
Степан посмотрел на свои чирики, на шаровары, поправил картуз.
– По-свойски сказать, бедность наступила, а поддержки… – он развел руками, намереваясь сказать «нету», но сказал другое, поймав на себе выжидающий взгляд Загорулькина: – Только на добрых людей и надежда осталась.
Нефеду Миронычу понравилось это, и он подобрел.
– Ну, рассказывай, с чем хорошим пришел?
Они присели на лежавший под стеной старый каток. Степан, крутя цыгарку, заговорил о своем несчастье, о том, что покупка коня ввела в непосильный расход и теперь хоть семенную пшеницу продавай, чтобы свести концы с концами. Помолчав некоторое время, он несмело попросил:
– Сделай милость, Мироныч, подожди с долгом до рождества. Ну, хоть режь, а нету силы отдать. Сам знаешь: казак без коня – что баба без юбки.
Он говорил, не глядя на Загорулькина, тихо, покорно, и по его несмелым движениям, по робкому голосу чувствовалось: стыд и отвращение наполняли в эту минуту его гордую казацкую душу. А вот надо просить.
– Не ладно у нас с тобой получилось, Степан, – сказал Нефед Мироныч после некоторого раздумья. – Я тебе давал весной, ты обещался возвратить еще в жнива, расписка есть, а нынче уже и с зябью люди добрые кончили. Навряд я помогу тебе, станишник. Ты просишь подождать, а завтра другой попросит, а там еще какой. Так, парень, здорово нахозяйствуешь. Как-нибудь перебейся. Что ж теперь, руки опускать? Я – не солнце, всех не обогрею.
Он грузно встал, делая вид, что разговор кончен, а Степан все еще сидел на катке. Лицо его было задумчиво, хмуро, нижняя губа чуть заметно вздрагивала, но он сдерживался и не давал волю сердцу. Скрутив цагарку, он откусил кончик козьей ножки, выплюнул его и ушел не прощаясь.
На другой день его вызвал писарь хуторского атамана и, объявив, что половина его пая переходит в пользование Нефеда Мироныча Загорулькина в обеспечение долга, предложил расписаться на какой-то бумаге. Степан взял испещренную неразборчивым почерком бумагу, долго смотрел на нее, но слова казались непонятными, буквы прыгали. Трясущимися руками он быстро расписался рядом с корявой подписью Нефеда Мироныча и, ударив пером в стол так, что ручка сломалась, торопливо вышел. Он ничего не сказал, но видевшие все это казаки поняли, что он сказал бы, если б можно было сказать.
– За ручку – две копейки. Слышишь, Степан? – крикнул писарь и, посмотрев в окно на его невысокую сутулую фигуру, сердито буркнул: – Придется доложить атаману.
4
Игнат Сысоич смирился. Коль не отдали Загорулькины дочь, значит не судьба. И посоветовал Леону ехать в город, искать лучшей доли. Ничего ему теперь не хотелось, кроме одного: чтобы сын хорошо устроился. Велев Леону собираться, он один начал работы в поле. В этот раз он решил послушаться совета Ермолаича об удобрении земли навозом, хоть в душе и сомневался в том, что донская земля примет его как воронежская. Ночами, чтобы не видали и не осмеяли хуторяне, Игнат Сысоич вывез навоз на участок и разбросал его по зяби. Незаметно для себя он начинал тверже верить в успех нового предприятия и уже подумывал, у кого бы попросить еще навозу, чтобы удобрить хотя бы две десятины, и под каким предлогом. Но надеждам Сысоича не суждено было сбыться.
Вечером в понедельник, когда он накладывал на дроги навоз, готовясь ехать в степь, его позвал к плетню Степан Вострокнутов и сообщил о переходе земли к Загорулькину. Игнат Сысоич сначала не поверил и несколько раз даже переспросил Степана, не шутит ли он.
– Закон на твоей стороне, – сказал Степан, – ты у меня арендуешь не первый год. Но ты землю не отобьешь у него, разве что в Черкасское соберешься, до присяжных. А тут что Нефед, что атаманы – одна шайка. Я подаю прошение наказному, прошу отчислить меня из казаков. Это разор, а не казацтво!
Игнат Сысоич свалил навоз и не поехал в поле. Перед ним встало самое страшное: остаться без земли. Все свободные мягкие участки хуторского юрта были уже заарендованы, а целинные ему было не поднять.
«…А я ж сделал зябь. Хотел весной сеять. На чем сеять? Конец! Погибель!» – думал он, сидя на завалинке. Ему вспомнилось, как на этом же месте, на завалинке, он увлеченно рассуждал летом о приобретении лобогрейки, и сейчас ему было стыдно и горько за эти свои думы.
Он сидел растерянный и подавленный, не понимая, что надо делать, кому жаловаться. От одной мысли о том, что ему сеять будет негде, его бросало то в жар, то в холод. Земля – смысл его жизни, его радость, и вот ее нет вовсе. А кругом необозримая степь и степь.
На другой день Игнат Сысоич не пошел в правление, к атаману, куда собирался с вечера. Посоветовавшись с Фомой Максимовым, он решил не ходить и к Загорулькину. Максимов уверил его, что Загорулькин не является хозяином земли Степана, что она временно перешла к нему лишь в обеспечение долга.
– Степан долг выплатит – и конец Нефедову хозяйствованию, – подбадривал он. – Так что я б на твоем месте пахал без опаски. Если бы он купил ее с торгов, тогда он хозяин. Но это земля войсковая.
И Игнат решил продолжать свое дело.
Однако Нефед Мироныч рассчитал иначе. Получив участок Вострокнутова в обеспечение долга, он и не думал расстаться с ним, а чтобы Степан, уплатив долг, не потребовал возвращения земли, решил пока что сдать ее, якобы в аренду, писарю: тот любой закон мог повернуть, как хотел.
Закончив дела в правлении, Нефед Мироныч сам запряг жеребца, взял сажень и поехал на участок Степана, чтобы точно обмерить его.
5
Стояли погожие дни «бабьего лета». Высоко в небе перились редкие облака, солнце не палило, светило неярко, в степи было тепло и как-то по-особенному легко дышалось.
То и дело низко над землей медленно проплывала длинная паутина, цепляясь за почерневшие стебли подсолнухов, за кусты полыни. И оттого, что она блестела на солнце, все вокруг, как в сказке, казалось опутанным нежнейшими серебристыми нитями.
Заметив еще издали, что на участке кто-то есть, Нефед Загорулькин придержал жеребца, раздумывая, как ему поступить, и, спустившись в балку, остановился. Вспомнился летний покос дороховской пшеницы, тревожная ночная встреча с Игнатом Сысоичем.
«Может быть драка», – сказал про себя Нефед Мироныч и посмотрел на длинный плетеный кнут. Потрогав кисть его, он пугнул коня и выехал на участок.
Игнат Сысоич боронил унавоженную зябь, то и дело любовно покрикивая на кобылу:
– Ну, давай, давай, Катька-а! Еще немного, родная, сейчас покурим.
Увлеченный работой, он и не заметил, как сзади его остановилась линейка.
– Помогай бог, – не слезая, процедил сквозь зубы Нефед Мироныч и ядовито добавил: – на чужой земле…
Игнат Сысоич остановил лошадь, снял фуражку и рукавом утер потное лицо. Сердце его тревожно застучало, и он сделал усилие над собой, чтобы держаться спокойно.
– Спасибо. А у нас своей, бог дал, никогда и не было, – сказал он. – Все на чужой шею гнем, того и гляди, как бы не согнали.
«Ишь ты, еще и храбрится», – подумал Нефед Мироныч и вслух повторил:
– «Согна-али». Добрых людей не сгонят. А вот какие чертевьем всяким землю поганят, таких как же не согнать?
Спросив у Игната Сысоича о границах участка, он больше не стал с ним разговаривать и поехал к балке, намереваясь начать обмер. Игнат Сысоич продолжал работу.
Через полчаса вдоль и поперек вымерив участок, Нефед Мироныч вернулся к линейке, уложил сажень и собрался ехать. Поровнявшись с Игнатом Сысоичем, он сказал:
– Ты, я вижу, дурачком прикидываешься. Так я тебе скажу напрямки: хозяин этой земли теперь я! А я с тобой уговора не делал засорять мою землю навозом вонючим и боронить ее бестолку. А за то, что ты самовольством занимаешься, я тебе велю сейчас же отсюда уезжать.
Игнат Сысоич подошел к нему и твердо, с сознанием своей правоты, сказал:
– Ты хозяин на день-два, а Степан – навсегда. С ним у меня писаный уговор, на нем печать атамана. Не имеешь ты прав распоряжаться этой землей. Я пока хозяин тут!
Нефед Мироныч спрыгнул с линейки, подошел к нему и ехидно спросил, подбоченясь:
– Учить казаков начинаешь?! Умом навозным забогател?
Белая нить летучей паутины коснулась его лица, прилипла к губам и запуталась в бороде. Нефед Мироныч, отмахиваясь, как от пчелы, злобно выплюнул паутину и ладонью вытер бороду.
Игнат Сысоич направился к бороне. Тогда Нефед Мироныч быстрым шагом обогнал его и стал торопливо отцеплять борону.
– Не трожь! Не трожь, говорю! – крикнул Игнат Сысоич, но Нефед Мироныч уже снял постромки, с силой выдернул борону из земли и потащил ее к линейке.
Игнат Сысоич настиг его, вырвал борону из его рук и потащил на прежнее место.
– А-а-а, хамское отродье! – взревел Нефед Мироныч, и в следующую секунду кнут, словно гадюка, обвил ноги Игната Сысоича повыше колен.
Не помня себя, Игнат Сысоич кинулся на Загорулькина, схватил его за горло. Но не ему было справиться с кряжистым Загорулькиным, и кнут вновь взметнулся в воздухе.
…Игнат Сысоич, пригнувшись, бежал по пахоте, спотыкался, падал и опять бежал, а над головой его все свистел кнут и все хлестал и хлестал, нестерпимо обжигая спину, плечи, голову. Потом все стихло.
Очнулся Игнат Сысоич на пахоте возле балки. Пахла сырая земля. По склонам балки, не шевелясь, уныло стояли раздетые деревья. Внизу, средь пониклых камышовых зарослей, журчал ручеек.
Одиноко и тихо было кругом. Лишь грачи, поблескивая сизым отливом пера, горделиво расхаживали по зяби, выбирая случайное зерно, червячков и наполняя степь протяжным хриплым карканьем.
Домой Игнат Сысоич вернулся больным. Не заходя в хату, он направился прямо в конюшню – убедиться, дома ли лошадь или ее взял Загорулькин. Но лошадь стояла у яслей и жевала сено. Услышав голос хозяина, она повернула к нему голову, коротко заржала. Игнат Сысоич бросился к ней, прильнул к ее тонкой красивой шее.
– Убежала, Катька, убежала от изверга, родная моя Катечка! – Он, как ребенка, ласково гладил ее, и слезы заливали его глаза.
В конюшню сумрачно вошел Леон. Допахивая землю под зябь на участке Пахома, он случайно узнал в степи о драке Загорулькина с отцом и, прибежал домой.
– Что случилось, батя? – дрожащим голосом спросил он, разглядывая исписанную кнутом одежду отца.
– Погибли, сынок! Насовсем погибли теперь. С земли согнал он меня, – сквозь слезы еле вымолвил Игнат Сысоич.
Леон выдернул из-под стрехи кол и, быстро отвязав кобылу, вывел ее из конюшни.
– Не надо, Лева, сынок! – сказал Игнат Сысоич, но Леон уже прыгнул на лошадь и с места погнал ее галопом.
Он не знал, на току ли Загорулькин и что он теперь будет делать. Прижавшись к лошади, стрелой летел он все вперед и вперед, ничего не замечая вокруг, и лишь серая стежка дороги змейкой юлила перед ним да слышалось, как стучали подковы лошади. Но там, где был он, не было Нефеда Мироныча.
Вечером, лишь только Дарья Ивановна подоила коров, с краю от сарая блеснул огонек. Никто его не приметил. А когда Нефед Мироныч спохватился, уже ревела и металась скотина, выли собаки, кричала птица и пламя от соломенного база, от навеса для инвентаря, где ждала нового урожая лобогрейка, румянило облако зловещим заревом.
И опять в хуторе поднялся переполох. Люди хватали цыбарки, гремели ими у колодцев, истошно что-то кричали друг другу, и все спешили к Загорулькиным.
Немного позже на бугре запылал ветряк.
Ходили смотреть на пожар и Леон с Игнатом Сысоичем, и Степан Вострокнутов, и Егор Дубов, но кто был виновником пожара – никто не знал. Нефед Мироныч думал, что повинны Дороховы. Однако опросы и допросы атамана не дали никаких результатов.
6
Через неделю после пожара Леон получил постановление атамана о выселении из хутора.
И в последний раз слушали ребята, как играет на гармошке Леон. А играл Леон страстно, неутомимо и все старинные песни, тяжелые, надрывающие сердце. Внимали ребята тягостным этим созвучиям, бегали по клавишам неуловимо быстрые пальцы Леона, а песни стонали над хутором, неслись за речку, в степь.
Далеко-далеко в эту ночь было слышно гармошку.
Под Агапихиной хатой Леон делил последние минуты с Аленой. Он сидел наклонившись, хворостиной бесцельно чертил на земле непонятные линии, и на лице его была суровая грусть.
Рядом с ним, откинув к стене голову, сидела Алена, большими черными глазами печально глядела куда-то в безбрежную лунную даль.
– Чего ж ты молчишь? – глухо спросил Леон.
Алена не ответила. Все так же в мутную ночь смотрели ее глаза, блестели в рассеянном свете луны, точно стеклянные были.
Леон швырнул хворостину в сторону, взял Алену за руки.
– Жить же невмоготу так, Алена! Мочи нету, ты ж сама знаешь! – возбужденно заговорил он. Потом обнял ее, прижал к себе ее голову. – Разве мне не жалко тебя, своих? Жалко. И хутора жалко. Но ты сама видишь: не нужен я тут. Выгнали! Эх, Аленушка-а, краса моя ненаглядная! – ласкал он ее, нежно гладя по голове. – Я б волком завыл, ежели бы жизнь считалась с нашими слезами… Не надо плакать.
– Ничего… Я немного. Я уже, – торопливо утирая глаза кончиком белой косынки, отвечала Алена. – Ты не нужен тут – это правда. Я все вижу и знаю. Но теперь и я не нужна. Мне страшно. Я пропаду тут, Лева, а я жить хочу, – дрожащими губами шептала она, заглядывая ему в глаза…
Лишь на рассвете вернулся Леон домой. Долго он сидел возле печки, потом принялся за приготовленный матерью завтрак.
Отец с матерью укладывали в мешок необходимые вещи, вполголоса переговаривались:
– Иголку с ниткой положи, – беспокоился Игнат Сысоич.
– А то у Вари иголки нету?
– На всякий случай. А икону какую положить?
– Пантелеймона – она маленькая.
Наскоро поев жареной картошки и выпив кружку молока, Леон встал из-за стола и сказал:
– Ну, я готов. Что вы там шепчетесь?
– Да мы так, сынок, – запнулся Игнат Сысоич, – промежду собой, собираем тебе.
Мать тихо всхлипывала.
Прошло еще несколько минут. Игнат Сысоич стал в угол, поднял глаза на иконы.
– Попросим господа бога. Может, оглянется, на нас, грешных.
Все стали в угол.
Долго и усердно молилась семья Дороховых. Отрывистыми взмахами клал Игнат Сысоич на грудь широкие кресты, шепотом взывал к Спасителю, Николаю-чудотворцу, потом стал на колени, головой прильнул к холодной земле и все просил и просил оглянуться, смилостивиться, послать…
Смотрели со стен, из угла почерневшие лики скучными, безжизненными глазами, но не внимали этим исступленным мольбам житейским. Поднявшись с колен, Игнат Сысоич благословил Леона и хотел обратиться к нему с бодрым напутственным словом, но из груди, от самого сердца вырвались другие слова:
– Не думай, сынок, что избавиться от тебя хочу. Всех люблю я вас одинаково, детки мои родные, а ты… Одна надежда была, и та… А там и Настя уйдет. А чего мы без вас будем делать?! Эх! – не выдержал он и заплакал.
Потом благословила мать, надела на шею Леона маленький серебряный крест и заплакала в голос.
На кровати склонилась на подушки Настя, и плечи ее вздрагивали.
Отвернувшись к окну, стоял Федька.
Одна за другой катились по щекам Марьи горячие слезы, падали на кофту, на землю, и никто не мог остановить их и унять материнское горе.
– Ну, хватит, люди кругом, – глухо проговорил Игнат Сысоич, когда вышли на улицу.
Он шел торопливо, ссутулившись, опустив голову, точно ему было стыдно. Марья кончиком косынки то и дело касалась опухших глаз, в который раз объясняя Леону, как найти Чургиных.
– Прямо от станции – степом и степом. Она по левую руку будет, шахта.
Редкие в этот утренний час хуторяне, здороваясь, останавливались и долго смотрели вслед семье Дороховых. По пути к провожающим присоединилось несколько товарищей Леона.
Леон шел, устремив взгляд вперед, почти не замечая встречных, и словно во мгле проходили стороной люди, палисадники, хаты; только Алена, будто на краю земли, одна стояла во всем мире и смотрела на него печальными глазами, и глаза те, большие, черные, блестели на солнце тихими искорками.
Когда проходили мимо сгоревшего ветряка, Леон переглянулся с отцом, и оба потупили взгляды. Федька распустил мех гармошки и заиграл.
Игнат Сысоич сперва молчал, потом, как бы вспомнив что-то, сказал:
– Брось, Федя!
Но гармошка уже наполнила степь тягучей, стонущей песней, и от нее, от слез матери горло сводило спазмой.
Леон поспешил проститься с матерью и крупно зашагал к лесу.
Скучно и сиротливо было в степи. Как ненужный старый ток, заросла она, опустела, и лишь кусты перекати-поле все убегали куда-то к затуманенным горизонтам, по-заячьи прыгая за ветром.
Не парили теперь в голубой выси легкокрылые жаворонки, не пели они больше нескончаемых своих песен. Одни грачи-старожилы низко пролетали над землей, высматривая, где бы чем-нибудь покормиться, и наполняли степь тоскливым и хриплым карканьем.
Зло шумел осенний ветер в перелесках. Дунет на листья и вихрем несет их в воздухе, разбрасывая по балкам, дорогам. Только с лесом еще не мог справиться. Налетит на него стремительным порывом, тряхнет крайние вековые дубы и затихнет, обессиленный.
Неласково смотрело из-за облаков неяркое солнце.
Все дальше и дальше в степь уходил Леон с товарищами, все слабее доносились стонущие голоса гармошки, а Марья все шла и шла по дороге, все утирала косынкой слезы, чтобы хоть спину, хоть пятнышко родимое еще разок увидеть. Казалось, будто сердце ее материнское уносили в черный, сумрачный лес, а в груди только отзвук его остался – мучительный, ненужный.
У леса Игнат Сысоич связал сундучок и котомку, отдал Леону и, трижды поцеловав его, пошел обратно. Попрощались и ребята.
Леон медленно вошел в лес.
Высокой, длинной стеной выстроились перед ним старики-дубы вдоль просеки, угрюмые, могущественные. Обокрал их ветер, раздел до самой коры, и притихли, зажурились дубы, широко раскинув голые ветви и печально поскрипывая. Лишь верхушки их еще жили и кивали зелеными кудрями, как бы приветствуя нежданного путника.
Молчал лес, замер, словно думам человеческим не хотел мешать. Только листья все шуршали и золотистыми бабочками порхали из-под ног и, отлетев в сторону, мягко ложились на землю.
Но вот хмурые тучи раздвинулись, из-за них выглянуло солнце – и засверкал лес янтарной бахромой молоди, зарделись огненные узоры на кленах и заиграли, затрепетали на них солнечные блики.
Оглянулся Леон и никого не увидел. Одна сорока, нахохлившись, бесприютно сидела невдалеке на высоком голом ясене.










