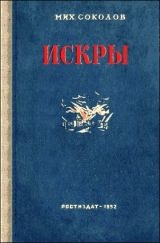
Текст книги "Искры"
Автор книги: Михаил Соколов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 38 страниц)
– Мы должны опираться не на «живые мощи», а на молодых, энергичных людей.
– Но ведь это бланкизм чистейшей воды! – воскликнул Кулагин. – Ведь наши рабочие верят в царя, как в бога, и говорить им: «Долой царя» – это значит скомпрометировать в их глазах наши высокие социалистические идеалы и, кроме того, навлечь на себя ропот всех слоев общества.
Он говорил внушительным голосом, с солидностью человека ученого, говоря, то надевал, то снимал темное пенсне и играл им, как знатные барыни лорнетом. Да и сам Кулагин был солидный, представительный мужчина лет сорока, с холеными усами и будто выточенным белым носом, что тоже придавало ему вид интеллигентного, образованного человека. Общаться же с кружковцами Кулагин стал недавно, будучи привлечен в кружок Ряшина.
– И вообще я не понимаю, какой нам смысл механически переносить западноевропейский марксизм на почву русского общественного движения, – продолжал Кулагин, вращая пенсне в пальцах и расхаживая по комнате. – Не знаю, как ты, Евгений, – обратился он к Полякову, – а я в некоторой части согласен с Михайловским.
Поляков улыбнулся, поудобнее уселся в мягком кресле, сверкнув стеклами своего пенсне, и ответил:
– Михайловский был неправ, это доказано передовыми русскими социал-демократами, Плехановым в частности.
– И Лениным в особенности, – подсказал Чургин.
– А вы знаете Ленина?
– Лично – нет, а его работы – да.
– В таком случае, почему же вы не отвечаете на критические замечания нашего уважаемого хозяина дома?
– По единственной причине: я пришел не на диспут, а для обсуждения известного вам дела, – ответил Чургин, имея в виду полицейское дело Луки Матвеича.
– Дело Цыбули? Я уже кое-что предпринял, – сообщил Поляков. – Придется достать немного денег, и он будет на свободе. Прямых улик против него, оказывается, нет.
– Сколько?
– Двести.
– Хорошо, завтра вы будете иметь двести рублей, а пока возьмите вот эти сто, – сказал Чургин и вынул из бумажника четыре двадцатипятирублевые бумажки.
– А мне больше и не нужно, – принимая деньги, ответил Поляков. – Сто рублей я уже отдал кому следует.
Чургин не стал задерживаться. Прощаясь, он сказал Кулагину:
– С вами мы можем поговорить завтра на сходке. Пусть рабочие скажут, кто из нас прав. Кстати, листовка составлена по газете «Искра».
– Составили вы? – спросил Поляков.
– Я.
– Н-да. Напрасно вы со мной не посоветовались.
– Вы думаете, мы могли бы разойтись во мнениях?
– На сходке поговорим, – уклончиво ответил Поляков, протягивая Чургину руку.
Однако сходку собрать не удалось. Рабочие-кружковцы, видимо, находились под впечатлением арестов, и на хутор к Степану Вострокнутову явилось всего три человека. Поляков ушел, а Чургин провел беседу о газете «Искра» и объявил, что на заводе создается новый социал-демократический кружок, в отличие от прежнего кружка самообразования.
– Руководить кружком буду я, – сказал он при этом.
4
Поезд мчался белой заснеженной степью. Леон сидел на диванчике, одетый в старенький жакет, тот самый, в котором он уходил когда-то из Кундрючевки. И сундучок при нем был тот же, только сейчас в нем лежали брошюры и книги.
Алена смотрела на Леона, на его простые деревенские шаровары, на старый жакет и вспоминала, как он уходил из дому, а она стояла на улице и провожала его полными слез и отчаяния глазами. Именно такого, в этом хуторском костюме, она и любила его, мечтала о нем в свое время, и ей казалось сейчас, что перед ней сидит прежний Леон и от него веет чем-то давно знакомым, дорогим, любимым. И она ухаживала за мужем, как за больным, то доставала из корзинки пирожки и угощала Леона, то советовала ему сесть подальше от окна, чтобы не простудиться.
Леон думал о беседах с Лукой Матвеичем, о наставлениях Чургина, о том, что и как делать в хуторе. Но Алена так была весела и хороша в своей беспечности, что он скоро отвлекся от своих мыслей.
Со станции Донецкая они ехали в хутор попутной подводой.
Было пасмурно, но морозно. Деревья, бурьян, комья ил дорого покрылись инеем. Все, казалось, застыло, окоченело и покрылось серебристой порошей, и только люди и животные двигались, и над ними клубился пар от дыхания. Безлюдные, покрытые снегом поля, мертвые деревья в балках, устало шагающие навстречу волы в подводах и мужики возле них, везущие хлеб на ссыпки, навеяли на Леона тоску. «Стынет, немеет жизнь в хуторах. На заводе и зимы не чувствуешь – все огнем дышит; а тут все занесло снегом, и стужей веет отовсюду. А ведь я здесь вырос и хотел найти счастье», – думал он, поеживаясь от холода. Стараясь согреться, он спрыгнул с саней и пошел за ними по дороге.
Неподалеку от Кундрючевки встретился дед Муха. Маленький, заиндевевший, с посиневшим лицом, он шел с охоты домой, держа шомпольное ружье подмышкой, а огнисто-рыжую лису подвесив к поясу.
– Здорово дневали, дедушка! – поздоровался по-хуторскому Леон. – Значит, не зря снег топтали, что рыжую подкараулили?
– Подкараулил! Я их две подстрелил, да одна убегла в кусты. А ты кто и куда едешь? – спросил он, не узнавая Леона с перевязанным черной повязкой лицом.
– Еду яблоки моченые воровать. Аль другие успели?
– А их нонешний год не того, мороз побил, – сказал дед Муха и пристально посмотрел на Леона. – Да ты не Левка, случаем? Самого яблочного атамана и не угадал! – воскликнул он и, повесив ружье на плечо, потер руки. – Ну, тогда угощай деда папироской.
Леон закурил с ним, бегло взглянул на его залатанную во многих местах разноцветными кусками овчины шубенку и сочувственно произнес:
– Значит, живем так, что и ходить скоро не в чем будет?
– Не живем, сынок, а мучаемся. А твои дела шибко разогнались, что голова перевязана?
– Шибко, – ответил Леон, – оттого и перевязана.
Дед Муха опять посмотрел на него сощуренными глазами, качнул головой.
– Ну, прощевай, парень, – сказал он и поспешил к хутору.
Возле речки Леон и Алена остановились, окинули взглядом степь, хутор.
Над Кундрючевкой висела легкая пелена тумана. Там и сям из труб струился седоватый дымок, разносил запахи кизяков, полыми, и они вливались в грудь горьковатым хмелем и волновали воспоминаниями о безмятежном детстве.
Леон обнял Алену, сказал:
– В этих местах начиналась наша любовь.
Алена прижалась к нему, и они несколько минут молча стояли на бугре, вдыхая морозный воздух и родные запахи.
На белой равнине замерзшего става парили небольшие проруби, возле них лежали крупные синие льдины. На снегу виднелись потемневшие следы, солома. Поодаль от прорубей стояли сани с огромной искристой льдиной, а на ней сидел черный грач, поглядывал по сторонам и что-то долбил клювом, будто кланялся.
В хуторе было тихо, малолюдно. Редкие прохожие при встрече с Леоном и Аленой долго всматривались в них и, кивнув головой, молча проходили мимо. Только подростки шумели возле маслобойни и темными клубочками скатывались на санках к речке. Веселый звон их голосов несколько оживлял тихие, заваленные снегом улицы Кундрючевки. Леон смотрел на эти улицы, на расписанные морозом маленькие окна хат, на уныло шагавших к речке быков, и ему странным казалось, что он родился и вырос здесь и ходил по этим скучным улицам, далеким теперь и таким маленьким.
Игнат Сысоич был в амбаре, очищал пшеницу на посев. Услышав во дворе голос Леона, он выбежал из амбара, старчески-мелкими шагами засеменил навстречу.
– Сынок мой родимый, дочечка наша! Да откуда господь послал такую радость? – взволнованно, нараспев заговорил он.
Они обнялись, и Леон вошел в амбар. Там меж закромами висело огромное решето – кружало. В нем лежала пшеница, а на полу – отходы. Леон взял щепотку зерна, пошевелил на ладони.
– Хорошее. Загорулькино?
– Приданое. О сынок, теперь отец твой соберет не меньше ста пудов с десятины. Он же и земли обещался дать, Нефадей-то, раздобрился. Так что десятинок пятнадцать, как не больше, заложу в этом году непременно. Катька жеребенка привела – конь скоро будет, да корова телка принесла – бык скоро… А это что? Побил кто? – увидев повязку на голове Леона, спросил Игнат Сысоич.
– Ушибся.
Игнат Сысоич опять стал хвалиться Загорулькиной пшеницей.
– Это не пшеничка, сынок, а чистое золото.
– Зернышко пухленькое.
– О сынок, зернышко – ядреней не найти. И ячменек, бог дал, ничего, – важно говорил Игнат Сысоич. – Маловато трошки дал сват, ну, да нам немного с матерью надо, как Настя замуж выйдет.
– Федька пишет? Когда ему срок?
– Скоро должен прийти. На Кавказе он. Пишет, благородные люди из Петербурга ездят туда грязью лечиться. И, скажи, ума сколько у них, накажи господь, у этих благородных. Да такого добра, грязи паршивой, в любом хуторе вагоны наберутся, а они, видал, куда едут! То-то деньги некуда девать!
Леон рассмеялся, но умолк, поморщившись от боли, и дотронулся до повязки на голове.
Игнат Сысоич недоверчиво посмотрел на него.
– Кто ж это тебя, сынок? Ты не кройся от родителя, чего уж теперь. За политику это?
– Урядник плеткой.
– Да он что, сбесился? Таки ни за што ни про што бить? – возмутился Игнат Сысоич. – Эх, а говорил – зашибся!
Леон перевернул железную коробку и сел на нее. Игнат Сысоич чувствовал: с недобрыми вестями приехал сын, но ему не хотелось верить в это, и он спросил:
– Погостевать приехали?
– Забастовка была у нас, то-есть, бунт, по-хуторскому, – ответил Леон. – Рабочих тысячи полторы рассчитали с завода. Ну я отделался легко: рассчитали только. А других казаки в кровь избили, многих в тюрьму отправили.
Игнат Сысоич тяжело сел на мешок с зерном и опустил голову – сутулый, маленький, и от его приподнятого настроения не осталось и следа.
– Та-ак… – он закряхтел и достал кисет, но Леон протянул ему папиросу. – Ать же едучая какая, судьба эта проклятая, а? Ну, гонит в петлю – и шабаш! Что ж это такое: из хутора выгнали, с шахты погнали, а теперь и с завода. За чем же властя смотрят, хотя бы и царь? Живьем в могилу кладут суп-по-ста-ты.
В амбар тихо вошел Егор Дубов, поздоровался:
– Здорово дневали, соседи! С гостями вас да с хорошими новостями!
– Слава богу, Егор Захарыч, – невесело бросил Игнат Сысоич. – Только новости не дюже хорошие. Бьют нашего брата, работать не дают, и никому нет до этого никакого дела – ни властям, ни царю. Ложись в могилу и помирай – только и остается нашему брату.
Егор взглянул на черную повязку на лице Леона, присел на мешок рядом с Игнатом Сысоичем и хмуро сказал:
– Расскажи, Игнатыч, что там у вас случилось. Не бойся.
Алена не стала сама рассказывать о Леоне. Помогая Марье делать вареники, она расспрашивала о хуторских новостях. Когда Леон, расставшись с Егором, вошел в хату, Марья, увидев повязку на голове сына, испуганно спросила:
– Господи, что это с тобой, Лева?
Леон рассмеялся.
– Вот, не успел войти в хату, а вы уже испугались. Сестра, пожалуйста, сбегай в лавочку, купи там… – обратился он к Насте и зашарил по карманам.
Марья недовольно посмотрела на Алену.
– Что же ты мне тут сорокой трещишь, а про главное – ни слова?
Алена швырнула вареник на стол.
– С работы его рассчитали, мамаша, и казаки пробили нагайкой голову, – сказала она и, сев на лавку, заплакала.
Марья не расспрашивала больше ни о чем, только быстрее стала делать вареники.
5
Вечером Леон, сняв повязку, пошел к Загорулькиным. Алена ушла туда раньше, и Нефед Мироныч уже успел узнать кое-что о ее жизни. Но он встретил зятя, как и подобает, и Леон подумал, что тестю ничего не известно о событиях на заводе. Однако Нефед Мироныч сам заговорил об этом, когда выпил водки.
– Вижу по глазам, что брешете вдвоем и правду утаиваете от отца. Говорите прямо: в гости приехали на масленицу, вареников поесть, чи случилось что?
Леон не стал скрывать, но и всей правды не сказал.
– Рассчитался, – спокойно ответил он. – Нет терпенья смотреть, как огненное железо калечит людей.
Нефед Мироныч пытливо посмотрел на Алену, но она опустила глаза и молча ела блины.
– Оно, конечно, – одобрительно отозвался он на слова Леона, – при огне работать и головой рисковать за несчастные те четыре красненьких – пошли бы они к черту, хозяева разные заводские! Правильно сделал, что рассчитался. Погостите тут, отдохнете, а там видно будет. Или думку держишь на другой завод податься?
– Пока нет. Да работы хватит, мне искать ее нечего.
– С твоими руками да еще искать! – тоном искреннего участия проговорил Нефед Мироныч и неожиданно предложил: – А ты брось искать ее и унижаться перед всякими. Оставайся тут и будешь при мне заместо моей правой руки. Я старею, а Яшке оно без интереса, мое хозяйство, ему экономию подавай. Раз судьбе угодно было и ты вошел в нашу семью, входи тогда по-настоящему и будешь хозяином. А там, пока я живой, в казаки примем, и заживете вы с Аленкой как люди, и детишек, какие, бог даст, пойдут, на хорошую дорогу выведете. Такие мои слова, сынок Лева. А что было промежду нами, того, считай, вроде и не было.
Леон всего ждал в этом доме, но такого не ожидал и задумался, не зная, что отвечать: «Сам Загорулькин приглашает в наследники! И даже в казаки принять обещает! Или это Алена все затевает, а отец пошел ей на уступки?»
Алена посматривала то на него, то на отца, и лицо ее светилось радостью. Было похоже, что она именно ради этого и ехала сюда, видя в этом счастливый выход из положения.
Леон почувствовал, как она легко и незаметно толкнула его в бок, и ответил:
– Это очень большое дело, такое хозяйство, и у меня про него и думки не было.
– Зато теперь будет. Это, гляди, я от чистого сердца как своему дитю делаю. Сына на ноги поставил? Поставил. И зятя поставлю! – гордо заявил Нефед Мироныч. – И ты не смотри, что старый Загорулька, мол, бешеный и скряга. Для кого и скряга и бешеный, а для своих детей я отец. Так-то.
Дарья Ивановна не знала, как и угодить Нефеду Миронычу за такие речи, и то наполняла ему стакан водкой, то подкладывала горячих блинов со сметаной и все переглядывалась с Аленой. Наконец-то в семье у нее наступила настоящая, согласная жизнь!
Леон поблагодарил Нефеда Мироныча и обещал подумать о его предложении. Но, придя домой вечером и ложась спать, он сказал Алене:
– Нашим ни звука про это.
Алена не поняла его.
– Почему? Да это какая же радость будет!
– Я сам скажу, придет время. Надо все хорошо обдумать.
– А тут и думать не об чем. Я согласна хоть нынче переехать сюда. А тебе что – не нравится, об чем толковал батя? Лева, ну, скажи: хочешь ты быть хозяином всего нашего добра, а? – Алена прижалась к нему горячим телом, шепнула: – У нас скоро будет ребенок. Соглашайся, дурной, выкинь из головы думки про завод. Про себя, про свою семью подумай хорошенько. Ради чего нам с тобой мучиться?
Леон не ответил, а Алена все упрашивала его согласиться на предложение отца. Он слушал, слушал ее и наконец ответил тихо, но твердо:
– Нет, Алена. Сюда я не вернусь. Никогда.
Алена отодвинулась от него и отвернулась к стене.
На следующий день с утра Леон отправился навестить знакомых, а когда пришел домой, Игнат Сысоич с таинственным видом сказал ему:
– Нефадей был только что. Сказал, вроде как в приймы согласен взять тебя и чтобы ты был хозяином всего его добра. Это правда, сынок?
– Правда, – сухо ответил Леон, и Игнат Сысоич еще тише сказал:
– Соглашайся, сынок. Сейчас же иди и говори, что ты согласный. Это, считай, само счастье нам в руки дается.
Леон с безразличным видом махнул рукой, и у Игната Сысоича сердце дрогнуло: отказался!
– Нет, батя, богатейте вы, а я не хочу. Не хочу! – отчетливо повторил он. – И вы мне про это больше не говорите.
– Дурак! Дурак, видит бог. Да ты в своем уме, Левка? – сразу рассердился Игнат Сысоич. – Что ты плетешь мне околесную: «не хочу»? А я велю тебе не медля соглашаться!
Леон ничего не сказал, и Игнат Сысоич горько покачал головой. Все рухнуло у него: мечты о богатстве, о счастье сына, внуков, и опять впереди маячила опостылевшая лямка безрадостного труда – та же, что гнула ему спину весь век.
Алена была в другой половине хаты и все слышала. Медленно выйдя в переднюю и видя, что Леон прячет в карман брошюру и намеревается уходить, она с укором сказала:
– И отца не послушался? Эх, Лева, Лева! О чем только ты думаешь! С работы второй раз рассчитали, жить нечем, а ты книжки слушаешь и от счастья отказываешься.
– Чего ты хочешь от меня, Алена? – сдержанно проговорил Леон.
– Жить я хочу, а не по белу свету скитаться, – повысила голос Алена. – Хочу, чтобы ты о семье думал, а не о бунтовщицких делах!
Леон шагнул к ней, взял за руку.
– Алена, или ты замолчишь и перестанешь болтать всякое, или я сейчас же уеду из хутора!
Алена зло сощурила глаза.
– Боишься, чтоб и тебя не позвали туда, куда засадили твоего усатого наставника?
– Алена! Я муж твой! Неужели ты рада будешь?
– Бунтовщик ты! Атаман босяцкий! А босяки у моего отца в работниках ходят, а не в зятьях состоят, – с ненавистью сказала Алена и быстро вышла из хаты, хлопнув дверью.
Игнат Сысоич, Марья, Настя с изумлением посмотрели на дверь, на Леона. Алена ли это сказала или они ослышались?
– Да-а, – уныло проговорил Игнат Сысоич. – По всему видно, сынок, ладу промежду вами не будет.
Марья сидела на сундуке, косынкой утирала лицо и думала: ведь какой красивый у нее сын, а вот и ему судьба не дала счастья. Наконец она встала, высокая, строгая, закрыла дверь и твердо сказала:
– Ну, так вот что, сынок: чтоб и нога твоя у них больше не была, у таких иродов.
Возле окна стояла Настя, вспоминала, как сватали Алену, и лицо ее пылало гневным румянцем.
Леон задумчиво прошелся по комнате. Все в нем кипело от ярости, но он крепился и только мысленно говорил: «Так. Это должно было случиться. Уеду. Завтра же уеду!» Он остановился у окна и забарабанил по стеклу пальцами.
Мороз расписывал стекла замысловатыми узорами. Они сверкали звездочками, разбегались по стеклам серебряными иглами, и от них шел леденящий холод.
Глава тринадцатая1
За окном спускались сумерки. Догорала на горизонте заря, и синим туманом окутывалась степь, заснеженные крыши хат, деревья. В хуторе, за речкой, зажигались огни.
Яшка, развалясь в кресле, сидел в своем кабинете и, придвинув лампу под розовым абажуром, читал роман Гончарова.
На столе, возле серого мраморного чернильного прибора, стояла фотография Оксаны, ближе к Яшке – стакан с чаем в серебряном подстаканнике. Поодаль лежала стопка книг, тетради в черной блестящей клеенке.
Не отрываясь от чтения, Яшка взял стакан, отпил глоток чаю. Скоро он бросил книгу на стол, закурил. Утомительно было ему читать такие романы. Не любил он людей ленивых, медлительных. Жизнь Обломова вызывала у него лишь скуку и озлобление.
«Надо же было этому Гончарову тратить время на описание такого дармоеда! Нет, чтобы изобразить человека хозяйственного, расторопного, как Штольц. А этот – размазня, лежебока. Таких надо искоренять из жизни».
Он тяжело встал, бросил папиросу в морскую раковину, взял фотографию Оксаны. В соломенной шляпе с большими полями, в белом платье, Оксана смотрела на него будто живыми глазами и лукаво улыбалась.
Дверь в кабинет отворилась, и на пороге показался Овсянников. Он был одет в черную пару и сапоги, русская черная рубашка была подпоясана белым шелковым поясом.
– Добрый вечер, Яков Нефедович, – поздоровался он и взглянул на портрет Оксаны. – Немного задержался. Вы не в обиде?
– Добрый вечер, господин Овсянников. По совести говоря, я не обиделся бы, если бы вы сегодня и совсем не пришли. Надоело сидеть за книгами.
Овсянников усмехнулся. Он всей душой ненавидел Яшку и как выскочку-помещика, и как счастливого соперника. Отказавшись постригаться в священники, он уехал учительствовать в этот глухой край, и вот нужда заставила его приходить сюда два раза в неделю: станичный атаман обязал его «учить их благородие господина Загорулькина всем наукам и с наибольшим усердием». Овсянников преподавал Яшке гуманитарные науки, а кое-кому из мужиков – науку крестьянских восстаний, надеясь, что эта наука принесет больше пользы, и когда-нибудь красный петух погуляет по имению новоиспеченного помещика. Сегодня Яшка должен был рассказать ему о творчестве Гончарова, затем о хозяйственной системе рабовладельческого Рима.
Яшка подготовился к первому уроку сносно, а о латифундиях римских патрициев отвечал без единой запинки. «Вижу, вижу, что это тебе понятнее и ближе», – подумал Овсянников и спросил:
– Теперь вы понимаете, почему у нас в России барщина была сдерживающим, регрессивным, а не прогрессивным началом и почему против крепостничества у нас выступили лучшие умы демократов-просветителей – Чернышевский, Герцен, Некрасов, не говоря уже о народниках?
– Понимаю, я не без головы. Зато теперь все умы молчат и некому выступать, – ответил Яшка.
– Против чего и кого?
– Да вот хотя бы против этих лентяев и лежебоков, всех этих обломовых с дворянскими гербами, против дикости и отсталости нашего хозяйства.
– О, вы слишком радикальны, Яков Нефедович! – рассмеялся Овсянников. – Этак вы и до государя-императора доберетесь.
– Я – не знаю, а другие доберутся, если царь сам не догадается кое-что переделать.
Овсянникова начинал занимать этот разговор. До сих пор Яшка не высказывал своих мыслей, а Овсянников тем более не имел намерения откровенничать перед преуспевающим помещиком. И он, стараясь подзадорить Яшку, сказал:
– Это не дело царя – догадываться, что кому нужно, а тех, кто вздумал бы ему «напомнить» об этом, неминуемо ждет Сибирь.
– Дураков ждет, а умных минует, – не задумываясь, возразил Яшка.
– То-есть?
– To-есть если «напоминать» поодиночке, – пояснил он.
– A-а, – ухмыльнулся Овсянников. – Разумеется «гуртом и батька бить легче», как говорят. Одни мужики, если взбунтуются, сколько переполоху наделают! А если еще и пролетариат, со своей мозолистой рукой, к ним присоединится… Так я понял вас?
– Не совсем, – задумчиво проговорил Яшка. – Мужик мимоходом может задеть и меня, а это мне не может нравиться. Впрочем, своей земли у меня нет.
«Что, под этим соусом не кушаешь, господин помещик? – мысленно позлорадствовал Овсянников. – Понятно, куда ты гнешь».
А Яшка подумал: «Не на того напал, господин учитель, я тебя вижу насквозь».
– Давайте продолжать, Яков Нефедович, – снова учительским тоном заговорил Овсянников. – Итак, прошлый раз, – поглаживая шевелюру и закрыв глаза вспоминал он, – я остановился на том, как объясняет явления природы и общественной жизни немецкая идеалистическая философия.
Яшка досадливо поморщился: «Ну, сядет теперь на свою философию, а она нужна мне, как корове – седло».
– Господин Овсянников, – серьезно обратился он к своему учителю, – вот вы уже объяснили мне и рабовладельческий строй Рима, и феодальный строй, и капиталистический в разных странах. Все по тем книгам, что вы изучали. А свое мнение вы имеете, ну, скажем, о нынешнем строе в России?
Овсянников был озадачен. Видимо, он неосторожно говорил с Яшкой. Но что ему ответить? Ведь Загорулькин – крупный коннозаводчик, и одного его слова властям достаточно, чтобы он, Овсянников, оказался за решеткой. Но Яшка поставил вопрос в упор, и увильнуть от ответа – значило бы струсить. «А, черт, он хочет поймать меня на том, что я трус? Ну, уж дудки!» – с досадой подумал Овсянников и твердо ответил:
– Да, Яков Нефедович, я имею свою точку зрения на существующий порядок вещей и, если вам это интересно, могу изложить ее. Я знаю, что нахожусь не в охранке.
– К этому почтенному учреждению я никакого отношения не имею.
– Тем лучше. Так вот: я считаю, что самодержавный строй должен рухнуть, вернее – он будет низвергнут насильственным путем. И низвергнут он будет силами всего общества, в первую очередь крестьян, как главной и наиболее многочисленной социальной группы России. На месте самодержавия должно стать революционное правительство с министрами из народа, вся земля должна быть передана тому, кто ее обрабатывает, крестьянам, а фабрики и заводы рабочим. Частные банки, железные дороги должны стать народной собственностью. Свобода должна быть гарантирована законом для всех, и все должны иметь равные права. Это – цель. Средства народная революция. Такова моя точка зрения. Вы удовлетворены?
Яшка задумался над словами Овсянникова, ища в них то, что его интересовало. «Свобода и равные права для всех – подходящее дело. Землю – крестьянам? Гм… У меня ее нет, но может быть. Об этом надо подумать. Фабрики – рабочим? Мне нет до них никакого дела. Банки – народу? Мне все равно, где получать кредит, лишь бы давали. Министры – из народа? Согласен, но не из всякого народа. Долой самодержавие? Гм… Вовсе долой – это риск, но поприжать хвост дворянам и царю, их радетелю, не мешало бы», – рассуждал он и, решив, что все, о чем говорит Овсянников, не так страшно, ответил:
– Удовлетворен. Люблю людей прямых. Ну, и думаю, что в этом вашем народном государстве такие люди, как Штольц в том романе, будут не на последнем месте? А вот царя скидывать насовсем – это, пожалуй, преждевременно.
– Скажите, – спросил Овсянников, – если бы народ свергнул царя и избрал вас в правительство, на чью сторону вы бы встали?
– Я приветствовал бы народ, – улыбнулся Яшка.
– А если бы мужик захотел отобрать все земли и помещичьи имения?
– Я встал бы на сторону царя.
– Значит, да здравствует все, что мне выгодно?
– Конечно. Все, что полезно деловым людям, хорошо. А откуда оно идет, это полезное, не все ли мне равно?
Овсянников подошел к столу и, взяв из коробки папиросу, невольно задержал взгляд на портрете Оксаны. Яшка перехватил этот взгляд и сочувственно сказал:
– Вы зря думаете, что она порвала с вами из-за меня. Со мной она играет точно так же, как играла и с вами, Виталий Алексеевич. Она никому не хочет принадлежать, но хочет, чтобы все мы принадлежали ей, как игрушки. Когда-нибудь она доиграется.
Овсянников не ожидал такой откровенности, а про себя подумал: «Прямой и смелый, как черт! И именно с таким ты и „доиграешься“, Ксани. В этом помещик из Кундрючевки прав».
Яшке не хотелось заниматься уроком, а у Овсянникова пропала охота беседовать и, простившись, он вышел.
Едва за ним закрылась дверь, как вошел Андрей и передал письмо от Алены. Яшка разорвал конверт, пробежал глазами письмо и нахмурил брови. Алена описывала свою жизнь и мрачных красках и просила его приехать в хутор. «Начинается», – подумал Яшка и с укором сказал Андрею:
– Зря ты упустил такую девку, сестру мою.
Алена нравилась Андрею, но он равнодушно ответил:
– Теперь уж поздно толковать об этом. Они состоят в законном браке.
– Дурак! Законы не про нас писаны. Деньги – вот закон. – Яшка подумал и более спокойно продолжал: – Я еще не знаю, что там у них вышло, но может случиться, что Алену я заберу к себе. Запомни это на всякий случай. Да, – сказал Яшка, как бы вспомнив, – у Чернопятова есть мельница, она заложена и перезаложена. Попробуй перехватить ее.
Андрею лестно было, что хозяин хочет сделать его своим зятем. Это означало, что он, Андрей, бывший хуторской парень, бедняк, может стать совладельцем все более растущего хозяйства коннозаводчика. И он с готовностью ответил:
– Хорошо, буду ждать. А мельницу я куплю. Скуплю векселя Чернопятова.
– Молодец. Действуй решительно.
Вечером Яшка написал письмо Оксане в Петербург. Письмо было полно жалоб на одиночество, на судьбу, а в конце его Яшка прямо спрашивал, готова ли Оксана соединить свою жизнь с его жизнью и когда это произойдет. Писал он под горячую руку и не особенно заботился о слоге, писал все еще с ошибками.
Дней через десять он получил ответ. Оксана писала на розовой бумаге:
«Дорогой Яков! Выходить замуж я не намерена, по крайней мере в ближайшее время. Пока трудись над собой и больше, больше читай книг. Стыдно, ты все еще пишешь с ошибками».
Яшка дальше читать не стал и разорвал письмо в клочья. Потом ударил фотографию о стол так, что стекло брызгами разлетелось по комнате, и зашагал из угла в угол, заложив руки назад и опустив голову. Надоело, ох, как надоело ему слушать эти упреки и наставления! «Да-а. Значит, вышел просчет. Игру надо кончать. Кончать со всеми. Устал, осточертело». Взяв фотографию, он хотел изорвать и ее, но остановился, подумал и небрежно бросил в ящик стола. А через час он мчался в имение Френина, к вернувшейся на днях помещице Ветровой.
Ехал он на санках, укутавшись тулупом, и только глаза его, как два агата, сверкали из-под шапки, будто что выискивали в степи. «Все они одинаковые, бабы, – думал он. – Ни чувств, ни честности, ни черта не ценят. Так не все ли равно честно я буду поступать с ними или нет?»
Под санями скрипел снег, вихрем летел из-под копыт лошадей, осыпал Яшку с ног до головы, но он все смотрел и смотрел в щелку между воротником тулупа и шапкой, видел, как лошади покрылись пеной, и чувствовал запах их пота.
Дорогу перебежала лисица. Яшка оживился, с сожалением прищелкнул языком и долго смотрел, как лиса, то и дело останавливаясь, неторопливо удалялась по снежной равнине и наконец исчезла в сумеречных степных далях.
Яшка вздохнул.
Спустя каких-нибудь полчаса он чертом пронесся улицей маленькой деревушки с невзрачными домиками и въехал на взмыленных лошадях в раскрытые ворота барской усадьбы.
2
Чургин наладил работу нового кружка в Югоринске, снабдил кружковцев литературой для чтения и вернулся к себе в Александровск. Дома его ожидали приятные вести. Варя сообщила, что его назначают помощником штейгера на руднике Акционерного общества, а Стародуб уже присылал за ним мальчика. Чургин только улыбался и ничего не говорил.
– Что ж ты молчишь? Не нравится тебе это? – не понимала Варя.
– Нравится, милая, и это, и то: и назначение, и беспокойство обо мне Стародуба.
В порыве радости он обнял ее и тихо сказал:
– Ты понимаешь? Господину Чургину доверяют попрежнему, а товарищ Чургин попрежнему будет делать свое дело. Вот чему я радуюсь, милая. Ух, ты-ы!
– Ой, Илья! Кости же поломаешь.
– Это от любви и от хорошего настроения.
Придя на шахту, Чургин направился к штейгеру Соловьеву поблагодарить его и за отпуск и за новое назначение.
– Вы, кажется, готовились сдать экстерном экзамен на штейгера? Я вам помогу в занятиях, и вы получите диплом с медалью, – сказал Соловьев.
– О, это уж слишком!
– Это меньше того, чего вы достойны, Илья Гаврилович. Я говорю без лести.
Чургин был взволнован. Он поблагодарил Соловьева и дал слово в ближайшее время начать готовиться к экзамену.
Ознакомившись с состоянием работ в шахте, Чургин зашел в уступы к Митричу, отозвал его в сторону.
Старик обрадовался, увидев его:
– A-а, Илья Гаврилыч! Ну, как оно ездилось? Нагостился там, у себя в России? – и, подойдя ближе, понизил голос: – Тут прямо заждались тебя. Загородный что-то не туда свернул, против Семена пошел.








