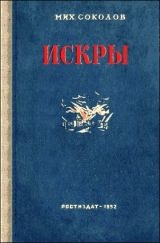
Текст книги "Искры"
Автор книги: Михаил Соколов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц)
– Вас зачем принесло сюда в такую пору?!
Алена знаками начала объяснять ему, чтобы он молчал: ненароком уйдет сом; но дед Муха, знать ничего не желая, шумел:
– Проваливайте отсель, пока я заместо головля крючком не подсек какую! Рыба-алки, едять их мухи, какие.
– Да тише же, дедушка! Сом учует! – вполголоса умоляла его Алена, но дед, повысив голос, угрожающе заворочался на дереве.
– «Со-ом». Велю вам в одночас удаляться отседова, не то я так наловлю вам удилищем, что и сидеть у меня разучитесь! Самое время для удочки – рыба клюет, а их тут лихоманка носит, – возмущался он, забыв, что, по его же правилам, сейчас можно было переговариваться только знаками.
Девчата торопились использовать дорогое время, пока хищник отстаивается в тени пещеры. В прошлый раз они пришли, когда он повернулся головой к выходу, готовясь покинуть свое логово, а тогда взять его невозможно: мордой коснется сетки, и все пропало.
Не став спорить с дедом, они вошли с бреднем в воду, бесшумно миновали поникшую вишню, на которой, как петух на жерди, сидел дед Муха, и, приплыв к обрыву, обогнули сетью пещеру. Потом вогнали в грунт заостренные клячи и замерли в ожидании, по шею стоя в воде.
Настя заработала болтушкой, выгоняя хищника. От ее ударов вода под кручей пенилась, брызги летели во все стороны, глухо булькая, и это окончательно вывело деда Муху из терпения.
– Ах вы, бес бы вас взял со всеми потрохами! – опять зашумел он над головами девчат. – Аленка! Настя! Осатанели девки! – сокрушался он, беспомощно махая руками. Но минуту спустя, видя, что на него не обращают внимания и всерьез обложили пещеру, дед Муха утихомирился и даже с любопытством стал наблюдать, что выйдет из затеи девчат.
Оксана с Леоном сбежали с бугра и направились к деду, Яшка поотстал. От его наблюдательного глаза не ускользнуло, что Оксане он приглянулся, и у него созрел смелый план.
Оксана меж тем подбежала к деду Мухе, заглянула вниз с обрыва.
– Ловят они, дедушка? – спросила она.
Дед Муха поднял на нее недовольные выцветшие глаза и, отвернувшись, сделал вид, что занимается своим делом и больше его ничто не интересует.
– Пошли на ту сторону, – сказал Леон и направился к старой, разрушенной гребле, но Оксана не расслышала и продолжала наблюдать, что делают внизу девчата.
Вдруг вода в пещере всколыхнулась и закружилась воронкой. Алене показалось, что сом идет прямо на нее, а не в бредень. Еще сильней нажав на клячу, надежней вогнав ее в глинистое дно, она знаком попросила у Насти болтушку. Та бросила шест неосторожно.
Алена схватилась за нос.
– Холера б тебя на том свете так кидала!
Девчата засмеялись, но Алене было не до смеха: такой момент, а она должна заниматься своим носом, останавливать кровь.
– Та-ак. Одна уже наловила, – удовлетворенно заметил дед Муха.
Вдруг лицо Насти, стоявшей у другого конца бредня, сделалось бледнее полотна, глаза испуганно уставились на Алену, и на некоторое время она лишилась дара речи. Потом лицо ее просияло, и она приглушенно заговорила:
– Девчата, родименькие! Он, проклятущий. Истинный Христос, он, мерин идолов, – и отступила в сторону, почувствовав, как что-то противно-скользкое коснулось ее тела и пошло в бредень.
Еще через минуту возле самого лица Алены изводы показался огромный зеленоватый хвост, скользнул по щеке ее и скрылся в воде.
– Фу-у, нехай тебе грец[3]3
Грец – черт.
[Закрыть]! – брезгливо отвернулась Алена.
Ждать было нечего, девчата понимающе переглянулись и стали отходить от берега. Стоя по шею в воде, они миновали пещеру, тихо отплыли на глубокое место и, сойдясь на середине речки и замкнув бредень, все поплыли по течению. Сом был в сетке, но пока этого не чувствовал.
Яшка неслышными, кошачьими шагами подошел к речке и остановился позади Оксаны.
Дед Муха знал, чем может кончиться опрометчивость девчат. Желая предупредить Алену и забыв, что сидит на дереве, он всем телом наклонился вперед, приглушенно крикнул:
– Мотню! Мотню же…
Тут голос его оборвался: главная опора – сук, на грех, обломился, и в один миг старый рыбак шумно свалился в воду.
– Ах! – вырвалось у Оксаны.
Она отшатнулась и оказалась в объятиях Яшки. Он поцеловал ее в шею и как ни в чем не бывало столкнул с обрыва Трезора.
– Тю! Тю! Куда тебя нечистая! – испуганно завопил дед Муха, барахтаясь в воде.
– Купаемся, дедушка? Как оно там ловится? – насмехался Яшка.
– Да вишь, крючок, должно, рак затащил. Не пропадать же добру! – не теряя достоинства, ответил дед Муха.
А Оксана стояла у обрыва, и ей казалось, что в том месте, где поцеловал Яшка, лежит что-то горячее. Она была удивлена и возмущена поступком Яшки, готова была уйти и кончить знакомство, но что-то удерживало ее на месте, и она стояла рядом с ним, наблюдая охоту на сома.
Искусство девчат должно было состоять в том, чтобы не зажимать хищника бреднем, а вести его как бы на воле. И они вели его – осторожно, медленно, пользуясь течением и собственным движением сома. Но это легко было делать на глубине, когда сеть его не стесняла. А что делать, когда он коснется грунта?
Осторожно сворачивая к отлогому противоположному берегу, напрягаясь до последнего мускула, они обхватывали сома бреднем все больше и больше, чтобы ему негде было развернуться, шепотом переговаривались, как его лучше вытащить на берег, но никто ничего толком не понимал, потому что каждая задыхалась от тяжести сети и от усталости, а тут еще клячи оказались неуклюже длинными и мешали движению.
Надо было проплыть не более двадцати саженей, но долгими показались эти сажени. Наконец Алена почувствовала под ногами грунт и подала знак стоявшим на берегу девчатам и Леону, чтоб помогали.
– Возьмите гузырь вверх! – сказал Леон и в сапогах вошел в воду.
Только теперь сом почувствовал беду. Он вдруг крутнулся так, что на поверхности вода заходила, как в половодье на глубоком месте, и рванулся назад. Однако девчата крепко зажали в руках подобранный гузырь, и усилия сома были напрасны.
– Мотню, мотню подберите! – выбравшись на берег, на ходу кричал дед Муха, приближаясь к девчатам, и тоже вбежал в воду на помощь.
Сом заметался. Стесни его бредень на глубине, он порвал бы сеть; но сейчас его брюхо коснулось земли, двойная сеть облегла его вплотную, и он не мог развернуться. Отчаянно работая хвостом, он дергал клячи то в одну сторону, то в другую, изгибался так, что показывал из воды зеленую спину, и неизвестно, удержали бы ого девчата, если б дед Муха с Леоном не помогли.
– Брешешь! Тяни, Леон! Живо, девки! Давай! Р-разом! – командовал дед Муха.
Наконец кое-как сома выволокли на берег.
– А, сукин сын, воряга, нагулялся? Отыграются тебе теперь гусята и всякая божья тварь, – торжествовал дед Муха, подтягивая сеть. – Ай, да де-евки! Чтоб бабы такого черта когда ловили – ни в жисть!
Изгибаясь дугой, позеленевший от тины, хищник бился о землю, шлепая по траве с такой силой, что она ложилась, будто скошенная, и все норовил уйти в воду. Дед Муха выхватил из-за голенища кривой садовый нож, которым обычно потрошил рыбу, изловчившись, перехватил сому горловину, и тот сразу обессилел.
Леон не спускал глаз с противоположного берега. Ему казалось, что Яшка лишь для видимости наблюдает ловлю сома, а сам о чем-то все говорит, говорит Оксане. «Жалуется на отца», – решил он в уме.
Настя тихо сказала, головой еле приметно указав на Яшку:
– Он не на шутку с ней затевает, с Аксютой.
Вот Яшка и Оксана пошли берегом. За кустом калины они задержались. Потом Оксана вдруг выбежала из-за куста и направилась к старой гребле.
Яшка резко шагнул в сад, и через минуту раздался выстрел. Поднявшаяся сова на мгновение как бы повисла в воздухе и камнем упала между деревьями.
Дед Муха злорадно проговорил:
– Стреляешь? Оно и сова – птица, раз поумней какая утикает.
Все обернулись в сторону панского сада и молча переглянулись, а у Леона было такое состояние, что он готов был измолотить Яшку до потери сознания. «Облапал! Ну, погоди, я с тобою расправлюсь», – грозился он мысленно.
Алена посмотрела на сад, где стрелял Яшка, и, виновато потупившись, отошла в сторону, выжимая на себе край мокрой юбки.
Немного спустя пришла и Оксана.
4
Смотреть добычу сбежался весь хутор. И не удивительно: такого огромного сома еще никто не видел.
Атаман Калина достал из кошелька трехрублевую бумажку, отдал Алене и покровительственно похлопал ее по плечу:
– Поделите между собой. Никому не давался, а вам посчастливилось.
Алена смущенно опустила голову, одернула прилипшую к телу мокрую юбку, кофточку.
– Теперь не бойся, бабы, за птицу, – обратился Калина к женщинам. – Да благодарите Аленку, что словила такого черта. Сомятину можете забрать, какая охоту имеет.
Бабы загалдели, заспорили, а дед Муха подошел к Калине и просительно снял картуз:
– Василь Семеныч, дозвольте бабке на уху отрезать.
– Это проси у девчат. Они ловили, они и хозяева. Только навряд сомячий жир вам с бабкой на пользу пойдет.
Дед Муха умоляюще глянул на Алену, на ее подруг и часто заморгал глазами:
– Ну, девоньки? Я ж вам… Дозвольте, милушки, а?
Алена незаметно сунула ему в руку бумажку, сказала:
– Берите хоть всего, дедушка.
Дед Муха не знал, что и говорить от радости. Схватив Алену за руку, он крепко сжал ее старческими сухими руками, и на глазах его выступили слезы. Ведь у него было целых три рубля!
Вскоре после этого случая на реке Леон пришел в лавку Загорулькиных за табаком и застал там Яшку одного. Яшка сидел за столиком и что-то подсчитывал, щелкая на счетах. Завидев Леона, он весело обратился к нему:
– A-а, это ты? Сейчас, постой немного, барыши отцовы досчитаю.
– Мне некогда. Дай махорки пачку, – хмуро сказал Леон.
Яшка дал ему две пачки махорки, но денег не взял.
– Отец не обеднеет, а тебе пригодится, – сказал он. – Что ты такой надутый?
Леон закурил, спрятал махорку в карман и тогда ответил:
– Спасибо за табак. А насчет веселости я тебе вот что скажу, Яков: если ты будешь обхаживать Оксану, я сделаю из тебя труху. Понял? Она не пара тебе.
Яшка нахмурился, немного подумал. Скажи это другой кто, он вышвырнул бы его на улицу, но с Леоном ему не было расчета ссориться. И он виновато проговорил:
– Скажу по чести, Левка: я поцеловал Оксану в шею и сказал ей, что это только начало. Я знаю, что она мне не пара. Но Алена тебе тоже не пара. И, выходит, мы с тобой связаны одним узелком, и ссориться нам нет расчета.
Он вышел из-за прилавка и стал перед Леоном.
– Бей, если хочешь. За Оксану стерплю.
Леон отстранил его и ушел. Да, Яшка был, кажется, прав.
Глава четвертая1
Дул горячий сухой ветер.
Нескончаемыми тяжелыми волнами катились и шумели по степи хлеба. Нагибал суховей упругие золоченые стеблины, трепал их ожесточенно, будто вырвать, разметать хотел по нолям-дорогам, да нехватало силы. Налетит яростно, положит до самой земли, а стебли выпрямятся и опять шуршат и кланяются на все стороны, будто над ветром смеются. И колыхалась, шумела попрежнему от них степь от утра и до вечера, как живая.
Страдная пора была в разгаре. Всюду, куда глазом ни кинь, в больших шляпах, в длинных холщовых рубахах маячили косари. Острой звенящей сталью они рядками валили на стерню безусую гирьку, чернявую гарновку. За ними, нагнувшись, шли женщины, вязали скошенное в тугие снопы, расставляли их искусными крестцами. И раздевалась, пустела степь, и копны заселяли ее и пестрели всюду, как байбачьи курганчики.
Не шептаться теперь колосьям безмятежно тихо утренними зорями, не хвалиться перед проезжими янтарными своими зернами. Пройдут дни, вылущат их гранитные катки – и посыплются зерна на жернова ветряков, в пустые закрома хуторян, в прожорливые купеческие амбары…
Пшеница у Дороховых выдалась низкорослая. Косогор плохо задерживал влагу, дожди падали не часто, а суглинистая почва не оправдала надежд на Загорулькины сортовые семена. И опять тоска и обида точили сердце Игната Сысоича. Дергал он к себе старую косу, срезал гарновку под самый корень, чтобы больше досталось соломы, а мысль возвращалась к чужим дородным полям. Не такой вышел хлеб, как у других людей.
Рядом с ним косил Леон. Игнат Сысоич видел, как широким полукругом все дальше и дальше отступала перед ним пшеница, как она приветливо кивала ему, словно благодарила за уход и заботу, и срезанная, шурша и ворочаясь, рядками ложилась немного поодаль, ожидая, пока ловкие женские руки свяжут ее в тугие, курчавые снопы. А Леон все шел и шел – высокий, прямой, сумрачный, и сталь его косы зайчиком вспыхивала на солнце.
«Разве ж ему такую валить? Играется, а не косит», – подумал Игнат Сысоич и ласково сказал остановившись:
– Передохнем, сынок. Эй, дочки, охолоньте немного, все равно зараз не повяжете! – крикнул он Насте и Оксане, но те спорили:
– А я тебе говорю – не так! Вот как надо. Скорей и лучше будет, – поучала Настя Оксану.
– Ничего подобного! Мама говорила, что перевясло обязательно надо скручивать, а уж потом вязать сноп, – возражала Оксана и обидчиво обратилась к отцу: – Ведь я правильно делаю, батя? А она заставляет вязать некрученой соломой.
Игнат Сысоич незлобиво погрозился Насте:
– Ты, коза! Все лишь бы скорей? Смотри у меня. А ты не слушай ее, дочка, а перевяслом да через плечо хорошенько!
Оксана шутливо набросилась на Настю, свалила ее на стерню, и степь огласилась беспечным девичьим смехом.
Леон снял картуз, подолом рубахи вытер потное лицо. Он тоже видел, что урожай опять был не такой, какого хотелось, и ему стало досадно на свою работу. Оттягивая от спины прилипшую рубаху, он недовольно сказал:
– Опять, кажется, труды пропали. По три четверти[4]4
Четверть – десять пудов.
[Закрыть] – больше не возьмем.
Игнат Сысоич большим пальцем провел по лезвию косы, достал из-за голенища брусок и чиркнул им по стали так, что она жалобно взвизгнула. Подумав, вздохнул и сказал:
– Бог ее знает, как оно все выходит. Разве ж такой ей быть по зяби, пшенице? И пахано хорошо, и семена Нефедовы, а видишь? Значит, хозяева мы с тобой, сынок, никудышные. Эй, дочки, принесите-ка из кринички холодненькой!
Оксана взяла из-под крестцов кубышку, выплеснула нагревшуюся воду и побежала в балку. Следом за ней направилась и Настя.
Леон проводил их взглядом, взял у отца брусок и несколько раз провел им по косе.
– Яшка за Аксютой стал увиваться, – обронил он хмуро.
Игнат Сысоич озабоченно почесал запыленную седоватую бороду. Теперь ему стало понятно, ради чего Яшка дал золотую пятерку, и не взял обратно, когда Игнат Сысоич хотел вернуть ее. Уверенно, с гордостью он ответил:
– Ничего, тут он облизнется! Это ему не хуторская девка.
От проселочной дороги по меже к Дороховым шел человек. Невысокий и худощавый, в широкополой соломенной шляпе, он издали был похож на подпаска хуторского стада, но лапти выдавали его родину.
Зажав под рукой косовище, он то и дело срывал колос, тер его ладонями, на ходу провеивая и считая зерна.
– Он и есть, глянь! – обрадованно воскликнул Игнат Сысоич, узнав гостя.
Подойдя к Дороховым, человек снял шляпу, тенорком выкрикнул:
– Помогай бог, Сысоич, Леон! Живы тут?
– Живы, Ермолаич, бог миловал.
Ермолаич положил на землю обмотанную мешком косу и кленовый держак и, сбив шляпу на затылок, тылом ладони вытер заросшее рыжеватой бородкой лицо.
– Отдыхаем? Ну и пекет!
– Паров набираемся. Пшеничка ж – видишь? – казака с конем укроет. Прямо замучила, – пошутил Игнат Сысоич.
Ермолаич присел на стерню, облегченно протянул ноги и разжал кулак, показывая зерно:
– Вот она, пшеничка твоя! Двадцать семь самое большее. А у Степана Осиповича сорок два зерна в колоске и колос наполовину длиннее.
Игнат Сысоич тяжело опустился подле него, поджал ноги и достал кисет с табаком.
– Сорок два, – горько усмехнулся он. – У нашего Нефадея пятьдесят одно зерно в колосе, шутка ли!
Ермолаич был известен по всей округе как непревзойденный косарь и мастер на все руки. Сам он был из-под Воронежа. Неутомимый ходок по чужим краям, он одинаково хорошо знал Кубань и Таврию, Заволжье и Терек, косил на Дону и Украине, зарабатывая на кусок хлеба семье. Теперь он на Кубань посылал двух сыновей, а сам избрал место поближе от родного села. Каждый год в конце июня, он приезжал в Кундрючевку косить высокие, густые хлеба, а свое хозяйство оставлял на жену и дочек. Не раз уже, прощаясь с Дороховыми глубокой осенью, давал он зарок больше не приезжать, надеясь на заработки сыновей, но лишь только зацветала рожь, вновь появлялся в хуторе. Останавливаясь на харчах у Дороховых, косил Ермолаич хуторянам травы и хлеба, клал печи и чинил хозяйкам цыбарки, и, глядя на него, можно было подумать: будь лето в два раза больше – его энергии хватило бы. Но первые снега напоминали ему всякий раз о семье, и он исчезал из хутора так же незаметно, как и появлялся.
– Откуда бог несет, Ермолаич? На, крути! – подал ему кисет Игнат Сысоич.
– Да был у тебя дома, струмент оставил, а иду с Чекмаревой. У Степана Осиповича спробовал две недельки. Богатый казак, а скупой – страсть!
Ермолаич переобул лапти, рассказал о строительстве в районе своего села железной дороги, о предполагаемой свадьбе старшего сына и вновь вернулся к тому, с чего начал.
– Такие-то дела. Замучили народ неурожаи. Да и у вас, как я посмотрю, зернышко не важное нонешний год.
– Ячменек ничего, гарновка вот подкузьмила. У других – по грудь солома да в четверть колос, а у нас, – развел Игнат Сысоич руками, – все не как у людей.
– Не-ет, Сысоич, кабы это у нас, в Воронежской, – у нас добрей хлебушко был бы. Вывези ты на полосу возов тридцать навозу, так и тебя господь не обидит. На такой земле надо бы по десять четвертей ржицы собирать, не мене!
– Не заведено у нас на Дону навоз возить: кизяки бабы с него лепят да печки топят. Участок такой, и дождей мало – вот она, беда где! Я хотел нонешний год другой участок взять, так поди ж ты! Недели две ходил к казаку. Я пятнадцать даю, а ему вынь да положь двадцать целковых. Так и не отдал, под толоку пустил, а теперь и гребет по трешке за голову, за попас. А где нашему брату, мужику, толоку взять? Одним земли вдосталь, а тебе все озадки.
Ермолаич искоса глянул на Игната Сысоича, улыбнулся.
– А как же мы-то на осьминниках на едока держимся? И живы, слава богу, не подыхаем.
– «Не подыхаем», – повторил Игнат Сысоич, пряча под усами усмешку, – только и того. А как по правде сказать, так вы и живете только тем, что до нас каждое лето ездите. Какая уж это жизнь! – махнул он рукой. – Сын косить едет, ты – цыбарки починять, стекла вставлять. Добро, народ вы мастеровой, а как до нас доведись – конец бы каждому. И не езди вы – чего б вы делали? Картошку бы ели с житным хлебом да квас с таранкой хлебали. Оно хоть мы и едим не белый хлеб – потому норовишь какой добрей продать, – да все-таки у нас больше пшеничка, как ни говори. Ты не обижайся, я так, по-свойски тебе говорю.
Ермолаич, опершись на локоть, лежал на боку, соломинкой ковырял сухую, разорванную трещинами землю. Исхудалое, морщинистое лицо его было как прах – черное, обветренное; оттого, что щеки ввалились, нос казался большим, несоразмерным лицу, и только по впалым быстрым глазам видно было: нет, искрится еще жизнь в этом щупленьком, измученном человеке и не все еще силы выжала из него судьба-мачеха.
Что он, вскормленный ржаной коркой да квасом, мог возразить Игнату Сысоичу, когда у него самого душа была переполнена горем, когда его самого обижали и в родном селе, и в далеких чужих станицах, и в городах – всюду, куда за пропитанием гоняла жизнь? И он не возразил, а только шевельнул запыленными бровями и тяжело вздохнул.
– Чего ж тут обижаться, Сысоич? Каждый из нас мужиков, как приходит весна, так и пошел кочевать, как цыган, по белу свету, а свое на бабу с детишками бросаешь. Так и вся Русь скитается, как бездомная. А прокормишься этим? В летошний неурожайный год сколько поумирало народу! Ты вот и тут живешь, на хлебном Доне, а далеко ли от нас ушел! Нет, брат, я тут чужой, да и ты не свой, как я насмотрелся за эти годы. Разве что казачок какой из бедных, вроде Степана, одинаковой с нами души человек, а вот эти… – неведомо куда указал Ермолаич, вскинув бородкой. – Другому целое лето спину гнешь, а он и три десятки не даст, чуть не за одни харчи работаешь. А ежели еще и машины, как у Нефеда, пойдут – и насовсем заработки переведутся. Ну, скажи на милость, куда подаваться, куда? – Он пытливо посмотрел в глаза Игната Сысоича. – Некуда! Вот она где, вековая беда наша. Так-то… Ходу у нас нет, у мужиков!
– Нет ходу, верно, – согласился Игнат Сысоич и рассказал ему о покосе пшеницы Загорулькиным и угрозах атамана.
– А то, думаешь, не выселят? Права в их руках, – подтвердил Ермолаич. – Нет, Сысоич, нам надо другую жизнь искать.
– «Искать». Кабы она на дороге валялась где, другая жизнь эта, может, и нашел бы!
– Я не знаю, на какой дороге она валяется, только жене, когда уходил, сказал: осенью бросаю хозяйство. На завод буду перебираться. Может, там вольготнее станет жить.
Оксана с Настей вернулись из балки, принесли холодной воды.
– Так будете ходить, дочки, отца высушите, – шутливо заметил Игнат Сысоич.
Оксана была в простой деревенской кофточке, в поношенной юбке, и Ермолаич не узнал ее. Лишь когда, подавая кружку воды, она назвала его по имени, он признал ее и обрадовался:
– Никак это ты, Аксюта? Ах ты ж, проказница, как обвела Ермолаича! А я и не смотрю, потому вижу – чужой человек. Ну, здравствуй, красавица!
Оксана засмеялась.
– Да и вас трудно узнать, дядя Ермолаич. Совсем вы худой стали. Прошлый год не такой были. И усы у вас теперь какие-то другие, короткие.
– Жирным, Аксюта, тяжело работать, и заработки шибко худые будут. А усы – это я за место съедобного пообкусывал за зиму. Вот поживу здесь на жирных хлебах, авось вырастут.
2
Ермолаич остался до вечера – помочь Дороховым. Приладив свою косу к древку, он выбрал ею в пшенице саженный квадрат, поплевал на ладони и пошел рядом с Леоном, размеренно шагая за каждым взмахом.
– Вы широко берете, дядя, мою делянку захватываете, – заметил Леон.
– Это мой захват такой, брат. А ты потесни отца. Да, гляди, этого черта обкоси, – указал Ермолаич на зеленый куст чертополоха, высившийся впереди над пшеницей.
Леон забыл, что коса его была слегка выщерблена. Дойдя до куста, он с силой ударил косой, и чертополох повалился вместе с колосьями. Положив еще несколько рядов пшеницы, Леон остановился: что-то недоброе почувствовала рука. Осмотрев лезвие, он нахмурился, поднял срезанный под корень чертополох и со злостью швырнул его далеко в сторону.
– Ты чего? – тревожно спросил Игнат Сысоич.
Леон молчал. Стыд и досада густой краской залили ему лицо, и он виновато опустил голову.
Игнат Сысоич торопливо подошел к нему и сердито вырвал из рук косу. Трещина от лезвия доходила почти до ободка, и Игнат Сысоич покачал головой:
– Так и знал. Эх, Левка, как только ты думаешь!
– Будяк помог. Она лопнутая была, – попробовал оправдываться Леон.
После этого Игнат Сысоич уже не мог сдержаться:
– Где она лопнутая была? Лопнуть бы ею по твоей башке – другой раз знал бы, как косить надо. Да о такой дуб ногу поломать можно, а не только железо. Хозяин, ядрена в корень!
– Да чего вы ругаетесь, батя? Ведь не с умыслом же я сделал это.
Игнат Сысоич сплюнул, бросил косу и, отойдя в сторону вынул из кармана кисет.
– Вот везет! Как метит, накажи господь: где тонко – там и рвется.
Ермолаич поднял косу, пальцем долго водил по лопнувшему месту.
– Ну, ладно, чего ж теперь – драться? Я ковалю скажу, как надо с ней, – и как все одно новая будет. Еще лучше! – подмигнул он Леону.
– Я до Максимовых сбегаю, – вызвался Леон.
– До чертимовых сбегай! – не унимался Игнат Сысоич. – Куда хочешь иди, а нонче день – год кормит.
Игнат Сысоич дрожащими пальцами свернул толстую цыгарку и стал было выбивать огонь, но искры от кремня пролетали мимо трута, и он не загорался. Ермолаич взял у него кремень, ровно приложил конец шнура к краю камешка, и со второго удара трут взялся жаром.
– От злости только жилы дергаются, – сказал он, – а дело не спорится. Дай-ка на цыгарочку.
Игнат Сысоич молча подал ему бумажку и насыпал на нее табаку.
Подошло время обеда. Марья устроила под телегой возле балагана тень и подняла на палке белый платок – веху.
Когда сели вокруг разостланного на земле мешка, она достала из кармана небольшую деревянную ложку, вытерла ее о серый фартук и отдала Оксане.
– Это я тебе купила, дочка, а то нашими и рот разорвать можно – чисто лоханки.
Оксана подняла на нее свои зеленоватые глаза и ничего не ответила: опять ее отделяют от всех.
Дома Марья потчевала Оксану, чем только могла: цыплят резала, начиняя их душистой начинкой, молока давала, сколько могла, у Максимовых меду разжилась для нее, у деда Мухи – яблок. Все лучшее, что имели Дороховы и не всегда ели даже по годовым праздникам, ставилось на стол перед нею, а Леон даже вина раздобыл у Яшки.
Оксана видела, с какой любовью все это делается, и ей приятно было такое внимание родных. Но как только перед нею вставал вопрос, часто ли они сами едят это, ей становилось не по себе. Так и сейчас: все ели борщ, заправленный салом, а она – суп с цыпленком; всем была приготовлена картошка, а ей – блинчики со сметаной. И Оксане стыдно было есть все это, тем более в присутствии Ермолаича. Хлебнув несколько ложек супу и еле проглотив три блинчика, чтобы не обидеть мать, она поблагодарила и направилась в балку с ведерком, чтобы принести воды.
– Да вода-то есть еще, дочка! – сказал Игнат Сысоич.
– Я холодной принесу, батя!
3
А Леон шел к Максимовым, и в голове его бродила все та же неотвязная мысль: нет, так жить нельзя. Нет больше ни сил, ни желания маяться день-деньской из-за такого урожая. И в работники незачем наниматься. Но что делать и где искать заработка, если даже Ермолаич, умудренный жизнью человек, лишь зарекается искать сытый кусок по чужим краям и – все равно идет искать его каждый год? «А делать что-то надо. Поговорить разве с Аксютой и устроиться в Черкасске?» – думал Леон, но его пугало то, что он ничего не умеет делать, кроме как сеять и убирать хлеб.
Фома Максимов работал вместе с косарями. В свое время не одну думу он передумал с Игнатом Сысоичем. Бывало и спали вместе с ним на одном тюфяке, и мечтали о хорошей жизни; но когда начал он богатеть, реже стал бывать у Дороховых и старался сдружиться с богатыми казаками. Теперь он собирался меряться силой с самим Загорулькиным и твердо решил, что в будущем году, лишь отцветут медовым цветом сорок десятин густого максимовского хлеба, убирать его выйдут в поле не медлительные косари из России, а новенькая лобогрейка, и тогда можно еще посмотреть, кто кого будет учить: Загорулькин мужика Максимова или Максимов – казака Загорулькина.
Так мечтал недавний бедняк Фома Максимов, под корешок скашивая высокую гирьку, и надеялся, что мечты его обязательно сбудутся.
– Помогай бог, дядя Фома! – сказал Леон, подходя.
Максимов остановился, снял широкую соломенную шляпу, и лысина его блеснула на солнце.
– Спасибо, Леон. За чем хорошим пожаловал в такой горячий час?
«Жадный! Даже чужие часы считает», – подумал Леон и виновато ответил:
– Косу порвал, выручите, если можно.
– Молодец, парень. Как это тебя угораздило?
– Она треснутая была, а будяк помог.
– Я и говорю: оно у вас с Федькой завсегда пособщики в таких делах находятся. Тот никогда шкоду один не делает, все ему кто-нибудь пособляет. Ну, что ж с тобой делать? Придется дать. Только ежели и моя коса треснет, не обижайся: я тебя скорей Игната оттрескаю, право слово!
На току Максимовых, на трех колесах от воловьих дрог, скособочилась старая деревянная будка. Поодаль от нее между треногой на проволоке висел закопченный котелок, под ним дымились кизяки. От них извилистой струйкой тянулся беловатый дымок и таял где-то над головой.
Федька и Леон дружили с детства. Часто, как и отцы когда-то, они вместе спали, ели и даже одеждой друг друга щеголяли на улице по очереди, пока Леон не обогнал своего друга ростом. Федька был не в отца. Простодушный и отзывчивый, он часто выручал Леона при хозяйственных затруднениях, и Леон знал: если ему что-нибудь надо, Федька из-под семи отцовских замков достанет, хотя бы ради этого ему пришлось лишний раз испытать тяжелую отцовскую руку. Но сейчас сам Максимов раздобрился. Федька вынес из будки косу и, отдавая ее Леону, сказал:
– Смотри, Левка, еще чертяк какой скосишь – мой отец две шкуры спустит, твою и мою, накажи бог.
На току никого не было, и Федька предложил Леону покурить – он не курил при отце.
– Как ты думаешь, – с серьезной миной заговорил он, быстро свертывая цыгарку, – яблоки в панском саду по нас не скучают? Годовой праздник на носу, спас, а какие ж мы ребята, ежели не спробуем тех яблок за здоровье пан-генерала?
Леон сказал, что дед Муха к спасову дню купил крупной соли и похвалялся, что будет встречать ею охотников до яблок, но Федька беспечно махнул рукой:
– Да это он на засолку своих головлей! Он же сидит, сидит на солнцепеке, ну, покуда там десятого подсекет, а первые к тому времени уж протухнут. Известное дело, за такое рыбальство бабка Муха молитву ему читает, а то и за бороденку. Вот он и решился делать засолку прямо на рыбалке. Нет, мы так устроим: я заранее заберусь в сторожку и перезаряжу ружье. Уж я что-нибудь устрою вредному старику. Весело будет, вот увидишь!
Хитроумные планы покражи яблок, меда, денег с тарелок в церкви возникали в Федькиной голове молниеносно, и Леон сказал:
– Ну и голова у тебя: наказной атаман позавидует.
– В наказные не гожусь: обкраду всех купцов, – невозмутимо ответил Федька и тут же, меняя тон, озабоченно сказал: – Слышал я от сестры: мол, Яшка, здорово увязался за Аксютой. Как ты на это смотришь? Может, ему фонарей наставим?
– Я говорил Яшке, что она ему не пара. Думаю, что Оксана на него не польстится.
Федька выпустил из уголка рта струю дыма, немного помолчал.
– Вот о чем я должен сказать тебе, как другу, – продолжал он, отводя взгляд в сторожу: – Нефадею не понравится ваша любовь с Аленкой: бедный мужик богатой казачке тоже не пара. Но Яшка, он скоро вторым хозяином в доме станет, помяни мое слово. А если у него с Оксаной не сладится дело, тогда уж у тебя с Аленкой наверняка ничего не выйдет, – уверенно заключил он. – Понимаешь?
Леон об этом не думал. Он бросил на Федьку нетерпеливый взгляд, как бы убеждаясь, серьезно он говорит или шутит, но тот, прямо посмотрев ему в лицо, подтвердил:
– Правду говорю, Яшка такой. Он мстить будет.
И Леон задумался. А что, если и в самом деле это случится? До сих пор Яшка ничего не имел против него, Леона, и, судя по его взаимоотношениям с отцом, несомненно встал бы на сторону Алены. «Но неужели ради счастья Аксюты придется поступиться своим счастьем?» – подумал Леон и спросил:








