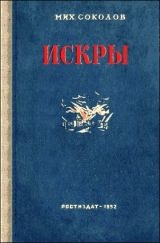
Текст книги "Искры"
Автор книги: Михаил Соколов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 38 страниц)
– За ворота, – объявил Шурин.
Леон взял список, показал рабочим большой черный крест против своей фамилии.
– Смотрите, что нам пометили хозяева! Кресты на голодную смерть нам приготовили! И казаки…
Плетка ударила его по плечу, а вслед за этим раздалась матерная брань.
– Мужицкое отродье! Арестовать! Чего рот раззявили? – прикрикнул урядник на казаков.
Казаки бросились к Леону, но на выручку подоспели Ткаченко, Щелоков, Данила Подгорный, оттеснили казаков, и Леон скрылся в толпе.
Урядник кричал, угрожал, но рабочие стеной преградили ему путь. И тогда опять засвистели казачьи нагайки.
Люди попятились от ворот, бросились в стороны, ругаясь в бессильной ярости и грозясь кулаками. Некоторые остались на месте и, вобрав головы в воротники, молча сносили удары и только вздрагивали всякий раз, когда на их спины опускалась нагайка, да исподлобья смотрели на казаков, на мастеров сверкающими, злыми глазами.
Падал мелкий, колючий снег, ложился белым покровом на землю, сыпался людям за шею. От него, от свиста нагаек и крика мастеров до самого сердца тело пронизывала невыносимая боль.
А воронье все кружилось и горланило над заводом.
5
До вечера Леон пробыл у Ткаченко. Много они говорили о причинах провала стачки, о расправах хозяина завода и властей с рабочими. Вспомнили, как все начиналось: выстрел Галина, раненого, лежащего в больнице Бесхлебнова, Лавренева и его товарищей, которым угрожала каторга. Лицо у Леона все больше темнело. Чем отомстить за все эти издевательства над народом? Хоть в какой-то мере дать почувствовать хозяевам и властям, что они могут жестоко поплатиться за свои злодеяния? И у Леона созрело решение: явиться на квартиру директора завода и расквитаться за все.
– Сергей, ты не знаешь, кто взял револьвер Галина? – неожиданно спросил он у Ткаченко.
– Я, – ответил Ткаченко, ничего не подозревая.
– А ну-ка покажи мне его.
Ткаченко достал из сундучка никелированный «Смит-Вессон» и подал его Леону. В барабане оставалось пять пуль, и Леон сказал в уме: «Хватит на одного негодяя».
Ткаченко насторожился:
– Зачем тебе револьвер? Или так, хочешь поносить на всякий случай?
– Так, на всякий случай. Да, нет ли у тебя какой-нибудь старой одежды? – попросил Леон и опустил револьвер в карман.
Ткаченко почувствовал: друг его замышляет что-то недоброе. Подойдя к нему, он хотел отобрать револьвер и тревожно сказал:
– Ты мне дурака не валяй. Что ты надумал делать?
– Не хочешь, чтобы меня арестовали, давай что-нибудь из старья.
Переодевшись, Леон испачкал себя сажей и ушел, а спустя немного времени был возле дома директора завода. Но там стояла охрана. «Змеи, полицией загородились от рабочих», – подумал он и остановился: «Нет, так ничего не выйдет». И вспомнил о Галине.
Еще через несколько минут он уже был возле домика, в котором жил инженер Галин.
– Мне нужно видеть по срочному делу господина начальника цеха, – твердо сказал Леон, когда на звонок вышла горничная.
– Он собирался…
Леон не стал слушать горничную. Отстранив ее, он быстро вошел в дом и увидел: в передней комнате стоял инженер Галин и испуганно смотрел на него.
– Господин Галин, я хочу вас отблагодарить, – произнес Леон грубым, взволнованным голосом, и не успел Галин и слова сказать, как Леон двумя выстрелами свалил его на пол.
Что было дальше, Леон никогда потом не мог ясно себе представить. В доме поднялся страшный крик, потом кто-то ударил его чем-то по голове, потом мелькнули перед глазами улица, деревья.
Пришел в себя Леон только в степи, далеко за городом.
Глава двенадцатая1
Три дня Леона не было дома.
Алена то и дело выходила на бугор за поселок – посмотреть, не идет ли он, расспрашивала у соседей, не видел ли кто его, но ей отвечали, что он где-то тут, на заводе, и она опять возвращалась домой, печальная, полная тревожных предчувствий.
Сегодня она вновь вышла за ворота, постояла немного и пошла за поселок. На бугре завывал ветер, на ветру кружился и бил в лицо колючий снег, и от него слезились глаза, но Алена все смотрела на завод, огромный, мрачный, и ждала Леона. Поодаль от нее по всему бугру маячили одинокие фигуры женщин, тоже печально смотревших на завод, и ветер осыпал их леденящей снежной пылью.
Долго стояла на бугре Алена и опять одна вернулась домой.
Леон пришел неожиданно, едва она затворила за собой дверь.
Алена вздрогнула, грустно взглянула на его небритое, почерневшее лицо, выдающиеся скулы, темные круги под глазами. Такого ли она знала в хуторе? И все это шахта, завод. Но она не стала говорить об этом и только покачала головой:
– Где же ты скитался все эти дни? Казаки были у нас.
Нелегальная литература была спрятана в сарае, и Леон спросил:
– Обыск делали?
– Делали, но ничего не нашли. Про тебя спрашивали. Я сказала, что ты на работе.
– Да, – неопределенно произнес Леон, снимая жакет.
Алена поняла, что его рассчитали. Исподлобья взглянув на ее испуганное, бледное лицо, Леон направился к умывальнику и сказал:
– Собери мне пообедать и положи чего-нибудь в узелок.
– Опять уйдешь?
– Придется.
Алена стала собирать на стол. Умывшись, Леон подошел к ней, обнял и погладил по плечу. Горько и тяжко было у него на душе и не было слов, бодрых, веселых, таких, чтобы успокоить жену.
– Ничего, Аленушка, – тихо сказал он. – Переживем и это как-нибудь.
Леон верил: придет время, когда он избавится от таких ударов судьбы, когда жизнь и работа будут приносить людям радость и счастье. Так он и сказал Алене. Но она хотела жить, жить с ним без тревог и волнений. Об этом она мечтала, из-за этого терпела от отца неприятности, ради этого стремилась поскорее выбраться из Кундрючевки.
– Выходит, зря мы уехали с хутора, – с обидой и разочарованием сказала Алена. – У всех оно, горе, в каждой семье, как я насмотрелась за эти дни. Сколько ж это сил положить надо, чтобы скинуть его с плеч человека?
– Придет время – скинем, – убежденно ответил Леон. – Да у нас с тобой что? Горе у тех, у кого детишек полная хата. А мы с тобой, считай, и горя-то по-настоящему еще не видели. Ну, рассчитали. Так что ж, кроме этого завода нет разве других? Была бы шея, а ярмо найдется, как говорится, и духом нам падать нечего. На худой конец можем вместе пойти работать.
Алена широко раскрыла свои большие темные глаза, пренебрежительно бросила:
– И такое выдумает, ей-богу, аж досадно! Да что, я выходила замуж, чтобы в заводе коптиться?
Леон ничего не ответил. Ему-то действительно было досадно, что жена его так понимает семейную жизнь.
Обедал он молча. Алена молча подавала на стол. Наконец Леон поднялся из-за стола, надел фуражку и хмуро сказал:
– Где я буду, пока что и сам не знаю. В случае чего, тебе дадут знать про меня.
Алена виновато подошла к нему, положила руки ему на плечи и взглянула в его измученное лицо.
– Уже опять рассердился. Я просто сгоряча так сказала. Ну, куда ты уходишь? Что я одна тут буду делать? Тогда и меня бери с собой. Я помогать тебе буду, если надо. Я все, все буду делать, лишь бы ты был со мной, Лева, сокол мой ненаглядный.
Леон поцеловал ее, и у него отлегло от сердца.
– С этого бы и начинала. Но сейчас я не могу тебя взять с собой. Пусть немного утихомирится все.
Алена проводила его и немного успокоилась. Но утром она встала, а его не было. И целый день не было, и вечер, и она не знала, куда деть себя. Посидела немного у Горбовых, посмотрела, как Дементьевна из разноцветного тряпья ткала дорожки, но не интересовали Алену ни дорожки эти, ни сама Дементьевна. Она хотела быть с Леоном, а его не было. Зачем ему надо было опять уйти из дому, когда ему ничто больше не угрожает? И, вернувшись домой, она снова думала о своей жизни, а потом легла на кровать и заплакала.
Утром приехали два казака и обшарили все уголки комнаты.
Алена испугалась, ни потом нашла в себе смелость протестовать:
– Вам кто дал право лазить по чужим сундукам? Что это вы тут за порядки вздумали наводить в наших бабьих тряпках?
– А ты, молодаечка, лучше язык попридержи за зубами, – ответил один из казаков.
– Нечего мне молчать. Я вот брату напишу, так он живо образумит вас. Я сама казачка, и не дюже вы мне страшны такие!
– О-о! Станишница? Откелича ж ты такая строгая?
– Черкасской станицы. «Откелича»!
– А братенек, он как?
– Он помещик, а не «как».
Казаки переглянулись, не зная, верить или нет.
– Постой, ты не из Кундрючевки? Не Нефедова дочка?
– Загорулькина я, – ответила Алена.
– Да ну? – заулыбались казаки. – А мы из Садков, соседний хутор с вашим, зерно у вас всегда мололи. Ну так вот что, молодка. Скажи своему мужику, чтобы он на время куда-нибудь того, смотал удочки. Ищут его жандармы. А нам твой мужик нужен, как прошлогодний снег.
Когда казаки уехали, Алена заметила на улице Чургина и какого-то человека в пенсне. Увидав казаков, они замедлили шаги и не спеша прошли мимо двора Горбовых. Алена выбежала за ворота и окликнула:
– Илья Гаврилыч!
Чургин обернулся к ней, хмуро посмотрел, будто не узнавая. Видя, что казаки уехали и Леона с ними не было, он улыбнулся и подошел к Алене.
– Не узнал, богатая будешь. Ну, здравствуй, сестра.
Войдя со своим спутником в дом и увидев беспорядок в комнате, он спросил:
– Обыск делали? Ничего не взяли?
– Они уже второй раз приезжали, – ответила Алена. – Не взяли ничего.
– А Леон где?
– В поле, с ветром вдвоем.
– Хорошие речи приятно слушать, – опять улыбнулся Чургин. – Ну, а ты как – не испугалась?
– Попервости испугалась, а потом отчитала их так, что больше они не приедут. – И Алена рассказала о своем разговоре со станичниками.
Чургин похвалил ее за смелость, а за то, что она окликнула его, мягко пожурил:
– Я знаю, милая, где вы живете. Но раз я прохожу мимо, ты не должна меня окликать. Пора, сестра, привыкать к нашей жизни… Усатый такой человек был у вас?
– Ничего, привыкну. Цыбуля? В полиции он.
У Чургина сразу пропало шутливое настроение. Переглянувшись с человеком в пенсне, он устало опустился на стул и попросил Алену немедленно разыскать и привести Ольгу.
2
Леон жил у Степана. В первое время он не находил себе места, часами сидел в хате, думал о стачке, о Луке Матвеиче, о том, почему рабочие опять потерпели поражение. Раньше ему казалось, что стоит рабочим выступить дружно, разом бросить работу, и хозяин уступит. Но вот уже две стачки видел он на своем коротком рабочем веку, в обеих принимал участие, – и обе закончились разгромом рабочих. Значит, сильны, очень сильны хозяева и власти, и с ними куда тяжелее бороться, чем это раньше представлялось ему.
Так думал Леон и старался понять главную причину поражения. Но чем больше он размышлял об этом, тем яснее становилось ему, что дело тут не в неопытности забастовочного комитета и даже не в Ряшине, а в чем-то другом, что и Лука Матвеич вряд ли смог бы изменить. Ведь не смог же Чургин довести до успешного конца стачку на шахте. А в «Манифесте коммунистической партии» Маркс говорит, что пролетариат сильнее своих угнетателей. И Лука Матвеич говорил на заводском дворе, что в стачке – сила. «Так почему же эта сила не побеждает?» – спрашивал себя Леон и не находил ответа.
На хутор пришел Ткаченко, но ничего утешительного не принес. Арестованные сидели в полиции, неарестованные работали или ходили без дела. Некоторые подали прошения директору с просьбой принять их на прежнее место.
– Пошел искать работу у «Юма» один Александров. А Бесхлебнов все еще в больнице, – невесело закончил Ткаченко.
– Так. Ну, а мы с тобой куда поедем и что искать будем? – спросил Леон, горько усмехнувшись.
– Подождем еще немного, – ответил Ткаченко. – Если приема не будет, тоже пойдем на Юмовский завод. Месяца два я продержусь огородом.
Леон задумчиво прошелся по комнате, поправил наброшенный на плечи пиджак и решительно заявил:
– Нет, Сергей, я уже наездился и никуда отсюда не тронусь. Будем бороться.
Ткаченко покрутив кончики усов, искоса взглянул на Леона. Тот ходил по комнате медленно, спокойно, шаги его были твердые, и Ткаченко подумал: «С характером парень и не по возрасту серьезен», – а вслух сказал:
– Да и мне не особенно хочется разъезжать, но и без дела ходить нехватает терпенья. Вот разве что охотой заняться? А тебе, по-моему, лучше пока что на завод не показываться. Мне кажется, тебя метят посадить рядом с Иваном Павлычем за решетку.
– Это тебе так кажется. Ряшин руководил кружком. А я давно ли на заводе и кто меня знает?
– Руководил, да не так. Ведь ты рядом с Цыбулей стоял, когда тот против царя говорил.
– А тебе это не нравится?
– Нет, что ж, Лука Матвеич правильно говорил. Теперь, после казацких нагаек, я думаю, кое-кто вспомнит про те слова.
Прощаясь, Ткаченко неожиданно сказал:
– Леон, мне кажется, Галина убил ты.
Леон взглянул на него через плечо и отвернулся, а потом подошел к окну и глухо спросил:
– Что говорят про Галина?
– Говорят, что туда ему и дорога. И еще говорят, что его ухлопал какой-то наш рабочий, черный, как черт.
– Много арестовали людей?
– Да человек двадцать еще за последние дни.
Леон дрожащей рукой взял папиросу и закурил. «Выходит, что я только помог посадить еще двадцать человек невинных людей? Уж лучше бы тогда посадили меня одного», – подумал он, и в мыслях у него мелькнуло: «Пойти в полицию и заявить, что Галина убил я?».
Ткаченко наблюдал за ним, и у него не оставалось уже сомнений в том, что Леон совершил террористический акт. «Смелый, чертов парень! Такой и в огонь кинется и сгорит за милую душу. Нет, надо об этом сказать кое-кому. Но кому сказать, если Цыбуля в тюрьме?» – думал он, не зная, как удержать Леона от какого-нибудь нового опрометчивого шага.
– Ну, прощай пока, – невесело проговорил он и шагнул за порог, но опять обернулся к Леону. – Да, а револьвер нашли у Галина.
Не дождавшись ответа, Ткаченко вышел.
Леон медленно зашагал по комнате. Вспомнилась Алена. Хорошо, что так получилось и его не смогли задержать. А арестуй его власти – попал бы в тюрьму и стал арестантом, каторжником. «Эх, Аленка! – с грустью подумал он о жене. – Вышла ты за меня и уже дитя нажила, а только натерпишься ты со мной горя. А ты к горю непривычная, не то что Ольга». И он серьезно задумался об избранном им пути. Правильно ли он поступил, причислив себя к отряду лучших борцов за рабочее дело? Чургин – опытный человек и грамотный, не в пример ему. А какой опыт у него, недавнего батрака отца Акима? «Нет, Лука Матвеич, – думалось ему, – не гожусь я для политических дел, и вы с Чургиным зря надеялись на меня». Но тут же внутренний голос возражал ему, голос совести: «Значит, ты трус. А как же люди идут на каторгу за народное дело, за правду? Тебе жалко Алену, а тех семей не жалко, кормильцы которых сидят в полиции и, наверно, пойдут в Сибирь? Они ведь никого не убивали, а только хотели протестовать против увольнения с завода».
Тяжело вздохнув, Леон сел на кровать и опустил голову. От сырого, пропахшего плесенью воздуха землянки мутило.
Приоткрыв дверь, и комнату заглянул Степан, тихо спросил:
– Не спишь. Игнатыч?
– Нет.
Леон встал, взял папиросу и, закурив, опять медленно заходил по комнате.
– Не горюй, Игнатыч! Не век же будет у тебя такое положение, – сочувственно проговорил Степан и, подойдя к жестяной лампе, выкрутил фитиль. – Оно с непривычки, известно, сумно одному, как бирюку, жить. Да что ж ты с ними сделаешь, с властями, как от них жизни нет.
– Скажи мне, Степан Артемыч, – неожиданно обратился к нему Леон, – как ты думаешь, правильно люди делают, что подымаются против такой жизни?
Степан сел на табурет, подумал. Трудно было ему ответить на этот вопрос.
– Как тебе сказать, Леон? – нерешительно начал он. – Я вот тоже забунтовал, а видишь, какая моя жизнь теперь получилась? Ни кола ни двора своего, и живу я, вроде приткнувшись к чужой жизни. А какая это жизнь? Так и у тебя получается, парень. Так что извиняй, а я тебе не сумею ответить. А ты что, назад надумал?
Леон даже слегка вздрогнул, услышав такой вопрос, и тотчас же, не задумываясь, ответил:
– Нет, Степан, назад я не поверну. Я… я просто хотел услышать от тебя: как ты считаешь, правильной ли дорогой я иду?
Степан пытливо посмотрел на Леона. Что это на него нашло сегодня? Проверяет он его, Степана, или сам колеблется, сомневается в своем деле?
– У меня, сам понимаешь, Игнатыч, – медленно, запинаясь, заговорил он, – семья, детишки, да и стар я для таких дел. А дорога твоя, что ж, дорога правильная. За народ, за святое дело идешь.
«За народ, за святое дело», – мысленно повторил Леон и сел на старую деревянную кровать, похудевший за эти дни, обросший черной щетиной, с заострившимся носом и запавшими глазами.
Лампа горела тускло и начинала мигать. Степан подошел к ней, встряхнул и, убедившись, что в ней нет керосина, сказал:
– Газу нет, так что придется ложиться спать. Ты как, спать будешь или посидишь? А то я могу каганец засветить, все ж таки при свете оно веселее думается.
– Сделай каганец, – попросил Леон, – буду читать.
Степан вышел в первую половину и скоро вернулся с блюдечком в руке, на котором лежала в постном масле тряпочка и горела неровным, слабым пламенем. Поставив блюдечко на стол, Степан спросил:
– Зять Илья Гаврилыч не думал приехать? Очень желательно мне поговорить с ним по душам.
Леон ожидал Чургина. Ольга вызвала его телеграммой. Но ему не хотелось говорить об этом Степану.
– Не знаю, вряд ли ему известно про наши дела, – вяло проговорил он.
Достав из-под подушки брошюру, он сел за стол и придвинул к себе блюдечко с огоньком.
Степан, выйдя и свою половину, пожал плечами: «Совсем затравили парня; не знает, за какое дело и приниматься. Какое оно чтение при таком свете? А делает же вид, будто на душе у него спокойно. Эх, судьба!».
Когда Степан вышел, Леон извлек из-под кровати чемодан Луки Матвеича и открыл его. В чемодане были стопки газет, брошюры, книги. Леон взял одну, прочитал: «К. Маркс. Капитал. Том первый», – и, перелистав ее, качнул головой. «Толстая очень, не одолею», – подумал и положил книгу на место. Потом вынул из пачки тоненькую, четко написанную кем-то от руки брошюру, взглянул на заголовок.
– «Кредо», – произнес он вслух и вспомнил разговоры на кружке об этом документе экономистов и ленинском «Протесте».
«А почитаю-ка я, что тут написано, в книжонке этой», – решил он и, присев к столу, взял карандаш и бумагу и стал читать.
«Существование цехового и мануфактурного периода на Западе наложило резкий след на всю последующую историю, в особенности на историю социал-демократии. Необходимость для буржуазии завоевать свободные формы, стремление освободиться от сковывающих производство цеховых регламентаций, сделали ее, буржуазию, революционным элементом…».
Леон остановился, подумал немного и почесал карандашом висок: «Мудреное что-то. „Мануфактурный период“, „свободные формы“, „регламентации“. Ничего не поймешь», – подумал он и стал читать дальше:
«Можно прямо сказать, что конституции 1848 г. были завоеваны буржуазией и мелким мещанством, артизанами…»
Леон досадливо заерзал на стуле, опять почесал карандашом висок, продолжая смотреть на черные строчки. Наконец он сказал вслух:
– Мещанством, артизанами завоеваны конституции. Гм… А народ, рабочий класс где? И какие это такие революционеры – артизаны? Чепуха какая-то!
Леону хотелось бросить брошюру обратно в чемодан, но он все же заставил себя читать.
Долго он просидел за столом, читая, думая, повторяя прочитанное, но перед ним мелькали чужие, непонятные слова: «артизаны», «регламентации», «амебовидный», «узко корпоративный», «примитивный», и он наконец швырнул брошюру на стол, так что каганец едва не погас.
– И как у них язык не поломается от такой чертовщины! Ну, как все одно мусор мелькает перед глазами, – сердито проговорил он и бросил брошюру в чемодан.
Взяв первую попавшуюся книгу, он снова сел к каганцу, взглянул на название. «Задачи русских социал-демократов. Женева, 1898», – прочел он и раскрыл книгу.
«Вторая половина 90-х годов характеризуется замечательным оживлением в постановке и разрешении русских революционных вопросов…».
– Вот это другое дело. Это я читал. Товарищ Ленин пишет, – обрадованно сказал он и, нетерпеливо поворочавшись на стуле, прочитал:
«Практическая деятельность социал-демократов ставит себе, как известно, задачей руководить классовой борьбой пролетариата и организовать эту борьбу в ее обоих проявлениях: социалистическом (борьба против класса капиталистов, стремящаяся к разрушению классового строя и организации социалистического производства) и демократическом (борьба против абсолютизма, стремящаяся к завоеванию в России политической свободы и демократизации политического и общественного строя России)».
Леон торопливо извлек «Кредо» из чемодана, положил перед собой рядом с книгой и стал искать глазами строки, которые, как ему показалось, противоречат Ленину. И вскоре он прочитал в «Кредо»:
«Невозможный политический гнет заставит много говорить о нем и именно на этом вопросе сосредоточивать внимание, но никогда не заставит он практически действовать…».
– Чепуху несете, – возразил авторам «Кредо» Леон. – Товарищ Ленин ясно говорит: социал-демократы должны как раз действовать и призывать рабочих на борьбу, чтобы завоевать политическую свободу.
Он опять склонился над столом и стал читать «Протест». Долго он читал и наконец нашел:
– Вот как раз это место: «…отсутствие свободы или стеснение политических прав пролетариата всегда ведет к необходимости выдвинуть политическую борьбу на первый план». На первый план – политическая борьба! Ясно и понятно, – убежденно заключил он.
Глаза его загорелись, а самочувствие было такое, как если бы в комнате сидели авторы «Кредо», а Ленин ходил бы рядом и отчитывал их.
Вскоре Леон увидел в «Кредо» подчеркнутые слова: «Отсутствие у каждого русского гражданина политического чувства и чутья не может, очевидно, быть искуплено разговорами о политике или воззваниями к несуществующей силе».
– Так. Это у меня, значит, нет политического чутья. А выселение из хутора? А плетки казачьи, а расчет с шахты какое чутье дают? – рассуждал Леон вслух. – И несуществующая сила это мы, пять тысяч рабочих? А кто завод остановил? На кого казаков пустили? На трубы и стены, что ли? Да-а, не знаете вы рабочих, господа писаки, и пошли вы к черту со своими наставлениями!
Леон хотел порвать брошюру, но остановил себя. Потом высыпал из чемодана все, что в нем было, обложился брошюрами, газетами, журналами и стал разбирать их, стоя возле стола.
Каганец мерцал тусклым красноватым пламенем, в комнате было сумеречно, и она наполнилась какими-то неясными тенями.
Леон поправил лежавшую в масле на блюдце тряпочку. Она вспыхнула ярким пламенем и отбросила на стену огромную прямую тень Леона.
3
На другой день Ткаченко опять пришел к Леону, на этот раз с Чургиным и незнакомым человеком в пенсне, которого Чургин назвал представителем губернского комитета Поляковым.
Поляков по профессии был юристом и сразу повел расспросы об обстоятельствах ареста Луки Матвеича, о том, кто знает его на заводе и где он находился во время стачки.
– Будем добиваться освобождения. Во всяком случае, есть смысл попытаться, – заключил он и стал расспрашивать о полицейском начальстве.
Ткаченко рассказал ему, что знал, и Поляков тотчас же ушел с ним, условившись с Чургиным о встрече на квартире у Кулагина, бухгалтера главной конторы завода.
Чургин остался ночевать у Степана, и Леон почувствовал себя, как дома.
– Как там Варя, сын? Батя к вам не приезжал? – начал расспрашивать он зятя.
– Варя ничего, бегает, и сын бегает. А бати не было. Да ему теперь некогда – план расширения хозяйства, наверно, составляет, – шутил Чургин. – Он тебя в помощники приглашал, мне Варя говорила…
– Приглашал. Мне везет на помощника, – усмехнулся Леон. – Батя приглашал, Яшка звал, недостает, чтобы тесть еще позвал в приймы. Алена уже говорила: не надо было, дескать, уезжать из хутора.
– Уже? Рановато. За тобой казаки приезжали. Алена здорово их отчитала.
– Опять были?
Чургин рассказал об обыске и заметил:
– Это хорошо, что Алена такая бойкая, а вот гордиться тем, кто ее брат, ей не следует. Впрочем, давай поговорим о делах. Рассказывай все по порядку, – предложил он и, закурив папиросу, положил портсигар перед Леоном.
В хате было тепло. Слышалось, как в другой половине Степан спрашивает у сына: «Ну, а почему бывает то день, то ночь?».
Чургин снял суконный пиджак, оправил черную сатиновую рубашку и, пригладив мягкие короткие волосы с пробором с левой стороны, сел на потемневший от времени плетеный из лозняка стул.
Леон говорил торопливо, словно боялся, что им помешают, но Чургин слушал и не переспрашивал. Скрестив руки на груди и пуская под потолок дым от папиросы, он смотрел в одну точку, и лицо его было спокойно. Казалось, ничто его не волновало и он сам знал все отлично и лишь проверял Леона: понимает ли он значение событий на заводе и научили ли они его чему-нибудь. Но Леон никаких заключений не делал, а только с возмущением перечислял то, что видел.
– Горячий ты, брат, все еще слишком горячий. А горячность иногда ведет к ошибкам. Ты стрелял в Галина? – неожиданно спросил Чургин.
– Я.
– Зря. Большая политическая ошибка! Ты убил одного негодяя, а они посадили в тюрьму двадцать рабочих. Это Овсянникову подстать, а не социал-демократам. Мы осуждаем индивидуальный террор. Разве убийством отдельных личностей можно изменить существующий порядок? Разве можно чего-нибудь добиться, когда один стреляет, а все ничего не делают? Нельзя! Надо подымать всех рабочих. И не только против галиных и сухановых, а против всего существующего строя. Настоящие революционеры должны спокойно продумывать все и уметь делать выводы.
Леон чувствовал, как горит лицо, уши, все тело. Стыд и досада на себя за такую оплошность охватили его.
А Чургин продолжал отчитывать его:
– Умнеть мы с тобой должны на этих стачках – шахтерской и вашей, заводской Причина нашего поражения в обоих случаях одна и та же: слабы не рабочие, а мы, социал-демократы. Партия наша слаба. Мало еще у нас марксистски образованных людей, да и те зачастую не умеют сочетать свои теоретические знания с революционной практической работой. Ты вот почитываешь нелегальную литературу, а этого, брат, еще мало. Надо, чтобы прочитанное, как свет во мраке, вело нас к намеченной цели, а мы чтобы вели за собой других. Не сразу все пойдут с нами, и не скоро еще мы научимся хорошо руководить массовыми выступлениями пролетариата. Да многие и не знают еще наших идей, многим затуманивают головы всякие рабочие «просветители» или такие люди, как Ряшин. Но мы тем упорнее должны пробуждать революционное сознание рабочих.
– С Ряшиным мы на заседании комитета чуть не подрались. Но он – учитель, был в ссылке и старый рабочий завода. Трудно мне с ним тягаться, – признался Леон.
– Трудно, не спорю, – согласился Чургин. – Чтобы успешно выступать против Ряшина, тебе надо серьезно подучиться и засесть за книги по-настоящему. Быть может, следует даже ради этого пожить пока в хуторе.
– В Кундрючевке? Слушать, как батя собирается богатеть?
– Батя пусть собирается богатеть, а ты будешь готовиться к другим делам. Именно там, в Кундрючевке, тебе никто не будет мешать. А здесь тебя могут засадить за решетку. Кстати, Лука Матвеич возлагает на тебя большие надежды…
Леону приятно было услышать такое мнение о себе Луки Матвеича, но в хутор ехать ему не хотелось. Ничто теперь уже не влекло его в Кундрючевку.
– Я в хутор не поеду, – хмуро проговорил он. – Лучше уж на другой завод.
– На другом заводе не было стачки и, быть может, нет и такой организации, а тут все есть. После такой стачки здесь будет самая благоприятная почва для работы. На руднике Шухова, после того как ты ушел, стало два кружка, да и на соседних шахтах появились.
– Здорово! – удивился Леон. – Но там все ты делаешь, а тут Ряшин всем управляет.
– А мы с Лукой хотим, чтобы здесь управлял всем ты со своими друзьями.
– Я? – удивленно переспросил Леон. – Ты шутишь.
– Нисколько, – ответил Чургин. – Будешь учиться, читать, приобретать необходимые знания – и все наживешь.
– Хорошо, еду в хутор, – согласился Леон.
– Да, так чем же ты здесь занимаешься? – спросил Чургин.
– Читаю. Тут Лука Матвеич новую газету оставил – «Искра», номер первый.
Чургин вскочил со стула, тряхнул Леона за плечи.
– Так что ж ты молчал? Давай скорее!
Несколько минут спустя Чургин уже держал в руках тоненький лист небольшого формата и читал:
– «Искра». «Из искры возгорится пламя». Понятно. Так отвечали Пушкину декабристы из Сибири. Знаешь послание Пушкина декабристам? – спросил он Леона и продекламировал:
Во глубине сибирских руд
Храните долгое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье…
Хорошо?
– Хорошо.
– То-то!
Леон никогда еще не видал Чургина таким возбужденным, юношески задорным и с изумлением смотрел на него.
Положив газету на стол, ближе к лампе, Чургин наклонился и стоя начал негромко читать. Читал с жадностью, быстро и наиболее интересные места отмечал карандашом. Леон наклонился над столом и читал про себя, медленно, задерживая взгляд на отдельных не совсем понятных фразах, на подчеркнутых Чургиным местах, и оба так увлеклись, что не заметили, как вошли Степан и Ткаченко с Ольгой, окружили их и стали слушать Чургина.
– Вот где ответ на твой вопрос о причине неудачи и нашей и вашей стачки, – сказал Чургин, указывая на отчеркнутые карандашом строки.
Леон прочитал вслух:
– «При крепкой организованной партии отдельная стачка может превратиться в политическую демонстрацию, в политическую победу над правительством».
И точно яркий солнечный луч осветил пережитые Леоном события на шахте и на заводе. «Правильно, значит, говорил Илья. Вот в чем беда: нет у нас этой самой „крепкой, организованной партии“», – подумал он, а Чургин, словно угадав его мысли, сказал:
– У нас будет такая партия!
На следующий день на заводе появилась написанная четким почерком Чургина листовка. Она начиналась словами из «Искры»:
«Русская социал-демократия не раз уже заявляла, что ближайшей политической задачей русской рабочей партии должно быть ниспровержение самодержавия, завоевание политической свободы».
Это была первая листовка югоринской социал-демократической организации.
А вечером, когда Чургин пришел на свидание с Поляковым на квартиру бухгалтера Кулагина, произошел горячий спор.
– Я решительно возражаю против резких, преждевременных публикаций таких необдуманных доктрин. Они могут только отпугнуть от социал-демократии отсталых, верящих в царя рабочих, – раздраженно говорил Кулагин.
– Кого, например?
– Ну, мастера Горбова, старика Струкова и сотни других им подобных.








