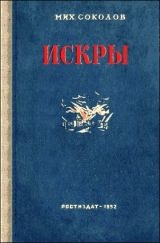
Текст книги "Искры"
Автор книги: Михаил Соколов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц)
– Ох, уж который раз я это слышу!
– И еще не раз услышите. Разрешите вашу руку? Предполагается дождик, и будет скользко.
Виталий Овсянников познакомился с Оксаной еще будучи семинаристом. Однажды он вот так же, как сейчас, шел по ее пятам, чтобы узнать, кто она и где живет, и едва не угодил в полицию, так как за ним шел полковник Суховеров. Потом он стал бывать в доме Задонсковых и сделал Оксане предложение. С некоторых пор Ульяна Владимировна принимала его как будущего зятя.
Нравился ли он Оксане? Она и сама не знала. Худощавый с бледным продолговатым лицом и прямым тонким носом, он был веселым и остроумным человеком, хорошо пел, не пил и не играл в карты. Красивым он не был, но и ничего неприятного в его внешности не было. Однако Оксана чувствовала: чего-то в нем все же недостает, а что-то есть в избытке, лишнее.
– Вы очень быстро идете, Ксани! Нельзя ли умерить эту скачку? – сказал Овсянников, еле поспевая за Оксаной.
– Дождь накрапывает. Видите?
– Гм, дождь и для меня опасен. Могу простудиться и потерять голос.
– А зачем вам голос? Вы же не протодьяконом собираетесь быть?
– А может, в оперные артисты уйду? Повторяю: все зависит от вас.
Оксана вспомнила Якова Загорулькина и промолчала.
Дома Леона все еще не было. Оксана, заглянув на кухню, пошла к себе наверх. Старый, облезлый сундучок Леона оставался на месте, но это не успокоило Оксану. Догадывалась она, что Леон отправился искать работу, и ей стало стыдно. Ведь она сама звала его в город, обещала помочь устроиться и все еще ничего не сделала. Что подумает Леон о ней, о ее воспитательнице? «Как это нехорошо получилось! И мама молчит. Нет, надо сегодня же решительно поговорить с ней. Есть же в городе должности!» – рассуждала Оксана, переодеваясь у себя в комнате.
Из гостиной донеслись звуки «Марсельезы» и раскатистый бас Овсянникова. Оксана, приоткрыв дверь, крикнула:
– Виталий, вы с ума сошли! Прекратите!
Овсянников резко поднялся со стула, сильно хлопнул крышкой пианино и, пересев на зеленый диван, закурил. Он видел, что Оксана не в духе. Говорить или не говорить все, что он хотел сказать ей сегодня? «Быть может, лучше подождать эту „классную даму“? – рассуждал он, имея в виду Ульяну Владимировну. – Надо сказать все. Надоела эта неопределенность. Или – или. Или она принимает мое предложение, или пусть все летит к черту!» – решил он и, встав с дивана, медленно прошелся по комнате.
Оксана вошла в гостиную. Взглянув в хмурое лицо Овсянникова, она недовольно спросила:
– Уже рассердился? Обидчивый же вы, Виталий. Бросьте курить.
– Я не обидчивый, Ксани, – низким приятным голосом заговорил Овсянников, продолжая ходить и дымить папиросой. – Наоборот, я очень терпеливый и могу сносить многое. Но вы так держите себя со мной, что я не могу не обижаться. Скажите мне прямо и честно: долго вы будете испытывать мое терпение? Я жду от вас ответа полгода.
Оксана подошла к нему, отобрала папиросу и погасила ее в розовой морской раковине. Потом взяла книгу и села на диван.
– Виталий, – помолчав, мягко начала она, перелистывая книгу, – если вы действительно любите меня, не мешайте мне закончить образование. Не настаивайте сейчас на ответе. Время покажет.
– Я вас понимаю, Ксани, – перебил Овсянников. – Но я живой человек. Скажите «да», и я буду ждать еще год, два, пять лет, если нужно.
Он остановился перед окном и, хмуря брови, смотрел на улицу, в серую пелену дождя. Оксана вздохнула и закрыла книгу. Решительно и твердо она сказала:
– Виталий, постригайтесь в священники. Вам нет смысла дожидаться, пока я получу высшее образование и…
В дверях показался Леон. Оксана оборвала речь и пошла, радостно улыбаясь, ему навстречу.
– Я не буду попом, Оксана! – резко произнес Овсянников. – А если вы откажетесь от меня, я прокляну бога и продам душу дьяволу!
Он хотел еще что-то сказать, но осекся, заметив стоявшего у двери Леона.
Оксана смотрела на него широко раскрытыми глазами и не понимала, шутит ли он или говорит серьезно. Год она была знакома с этим человеком и, оказывается, до сих пор не знала его.
– Виталий, да вы отдаете себя отчет в том, что вы болтаете? – хмуря брови, заговорила она. – Вас столько лет готовили к духовному сану…
– Именно потому, что меня готовили, а не я готовился, я и говорю так.
Оксана покачала головой и обратилась к брату:
– Знакомься, Лева. Это будущий священник и кандидат в тюрьму Виталий Овсянников. Слышал его речи?
– Насчет священника – это фантазия Ксани, а что касается тюрьмы – это верно, – подтвердил Овсянников, пожимая руку Леону, и спросил: – Вы не сидели в тюрьме?
Леон недоуменно переглянулся с Оксаной, точно спрашивая: «В своем уме этот парень?» И ответил:
– Не довелось.
– Ну, так доведется. У вас такое мужественное лицо, такие большие кулаки. Уверяю, посадят.
– Оставьте, глупости, Виталий, – вмешалась Оксана. – А ты, Лева, не обращай внимания. Он сегодня вздумал разыгрывать Демона, – сказала она и вышла.
Леон ничего не понял, и разговор оборвался. Овсянников был хмур и продолжал ходить по гостиной, а Леон не знал, о чем с ним говорить. Ему не понравилось, что этот угрюмый человек ни с того ни с сего пророчит ему тюрьму. «Сумасшедший какой-то», – заключил он, пренебрежительно взглянув на Овсянникова.
Вернулась Оксана с коробкой папирос, отдала их Леону.
– Где же это ты пропадал целый день? – спросила она. – Кури, для тебя купила.
– Надоело слоняться без дела, – ответил Леон. – Ну, решился сам поспрашивать. Да только нет тут у вас работы для нашего брата, придется ехать на шахту.
Оксана задумалась. Неужели во всем городе нет работы? Даже обыкновенной, черной работы? Но на черную работу ей не хотелось устраивать брата.
– Этого не может быть, Лева! Ты не торопись. Сейчас придет мама, мы поговорим обо всем после обеда, – сказала она и ушла на кухню распорядиться, чтобы горничная накрывала на стол.
Овсянников сел за пианино, открыл крышку и заиграл «Варшавянку».
Леон не знал, что это такое, но чувствовал: Овсянников играет что-то особенное и это, очевидно, соответствует его настроению. Леон хотел спросить, что это такое, но дверь распахнулась и в комнату вбежала испуганная Оксана.
– Виталий! Вы просто невозможный человек! – возмущенно воскликнула она и захлопнула крышку пианино. – С такой медвежьей силой бить по клавишам. Ведь на улице слышно! Ох, уж эти революционеры домашние! – вспомнила она слова Луки Матвеича.
Овсянников, не говоря ни слова, затянул сильным басом:
– Ве-ерую…
В гостиную неторопливо вошла Ульяна Владимировна. Посмотрев слегка сощуренными глазами на Леона, на Овсянникова, она не спеша сняла лайковые перчатки, повела носом и сделала недовольную гримасу – она не выносила табачного дыма.
– Виталий, что это вы вздумали церковные песнопения исполнять? – спросила она. – Надо же знать место и время.
– Ты бы послушала, мамочка, что он тут исполнял, – сказала Оксана.
– Гимн революции, конечно. Ах, Виталий, Виталий, и вам не стыдно? Ну, когда вы учились в семинарии, это еще понятно, там принято бравировать вольнодумством. Но вы не сегодня-завтра священник! Надо забывать семинарские шалости, дорогой мой. Кормить вас будет не вольнодумство, я полагаю.
Овсянников поцеловал руку хозяйке и отошел.
– Беда с нашей молодежью! – вздохнула Ульяна Владимировна.
Оксана подошла к ней, и она поцеловала ее в голову.
– Ну, как здоровье, успехи?
– Спасибо, мамочка. Ты ни с кем не говорила о Леве? Он уже сам начал искать работу.
– Напрасно. Надо пока развлекаться, молодой человек, – с улыбкой обратилась Ульяна Владимировна к Леону и протянула ему руку. – Вокруг так много для вас интересного. Ведь вы впервые в городе, все для вас ново.
Леон неловко пожал руку и не знал, что ответить. На уме у него было: «Барыня – барыня ты и есть, и не тебе понять нашу душу». Но он не мог так ответить, потому что Ульяна Владимировна воспитала его сестру.
5
Обед прошел скучно. Овсянников молча, сосредоточенно ел и о чем-то думал. Ульяна Владимировна попыталась было вести с ним обычный шутливый, непринужденный разговор и добилась только того, что он своими грубоватыми ответами начал раздражать ее.
Оксана внешне была весела и разговаривала с братом, но Леон тоже находился в мрачном настроении и отвечал ей неохотно.
Скоро за столом воцарилось тягостное молчание. Ульяна Владимировна видела, что между Оксаной и Овсянниковым что-то произошло, и бросала на свою воспитанницу укоризненные взгляды.
Наконец, отказавшись от сладкого, Овсянников вышел из-за стола и направился на веранду курить, пригласив с собой и Леона.
Некоторое время они стояли молча, курили. Леон не понимал, почему Овсянников обиделся на сестру и на Ульяну Владимировну, и осторожно сказал:
– Вы сердитый, видать. Или музыка была такая?
Овсянников сумрачно посмотрел на него, выпустил дым изо рта и спросил:
– Зачем вы приехали сюда, Леон? Вы из станицы?
– Из хутора. Приехал на работу устраиваться.
– Разочаруетесь быстро. Город для вашего брата – еще большая нищета. А может быть, гибель, тюрьма.
«Опять про тюрьму. Помешался он, что ли, на ней?» – подумал Леон.
– А вы сидели в ней, что другой раз так говорите?
– Готовлюсь к этому.
– За какие же это дела?
– Дел пока никаких у меня нет, а посадить могут. Например, за непочтительные по отношению к власти разговоры, за оскорбление величества. Вы царя почитаете?
– Признаться, не думал про него никогда. А он что – некрасивый? – спросил Леон как будто простовато.
– О, да вы не лыком шиты! – понял Овсянников. – Знаете что, Леон? Убегайте отсюда, пока не поздно. Тут одна гниль в мундирах. Вас загонят в ночлежку или сделают подлецом, лакеем.
Он бросил окурок и вернулся в гостиную, а Леон пожал плечами, подумал: «Несет такое, что и впрямь в Сибири очутится».
Были уже сумерки. Огромные тучи распались на облачка, и между ними проступили озерки чистого вечернего неба. На них, как светлячки, зажигались звезды.
Леон стоял на веранде, прислонясь к деревянной решетке, и смотрел, как далеко на горизонте догорал еще один день. Сколько раз в своей жизни он с грустью провожал такие же безрадостные, хмурые дни и с надеждой встречал новое утро! Но каждый новый день был не лучше прежнего.
С болью, с великой обидой думал Леон о своем будущем и видел: ничего ему не сулит и жизнь в городе. «Почему, – думал он, – купцы, приказчики, дворники и даже эта Ульяна Владимировна насмехаются надо мной и за человека не считают? Неужели бедному хуторскому парню только и места, что в шахте, под землей? Да земля наша такая просторная, и целины на ней, должно, половина лежит нетронутой, а я должен лезть под нее, под землю», – с горечью заключил Леон и, придавив окурок носком сапога, медленно пошел в дом.
В гостиной шел горячий спор. Ульяна Владимировна убеждала Овсянникова, что студенты резки бывают на слова, только когда учатся, а получив диплом, устраиваются на хорошую должность и превращаются в таких же верноподданных чиновников, как их отцы.
Овсянников не впервые спорил с Ульяной Владимировной на эту тему, и всегда каждый из них оставался при своем мнении. Но сегодня он был злой и решил поиздеваться над классной дамой.
– Неубедительно и, как бы это мягче сказать, слишком вульгарно то, что вы говорите, Ульяна Владимировна, – возражал он, шагая по комнате. – Почему вы ставите на одну доску все студенчество всех университетов, всех классов общества? А демократическая его часть, революционная в самом настоящем смысле слова?
– Например?
– Ну, я назову хотя бы Александра Ульянова.
Удар был нанесен метко. Классная дама на минуту оторопела, бледное лицо ее вспыхнуло румянцем, близорукие глаза сощурились, и от них к вискам протянулась паутина мелких морщинок.
– Ульянов покушался на жизнь государя и за это повешен, – еле сдерживаясь, проговорила она сдавленным голосом. – Быть может, вы еще скажете о Стеньке Разине, Пугачеве?
– Они не были студентами, а Ульянов был, – нашелся Овсянников. – И вы напрасно сердитесь, Ульяна Владимировна. Это признак того, что у вас иссякли доводы.
– Ну, конечно, конечно! Где уж мне угнаться за вами! Напрасно только вы забываете, до чего могут довести такие разговоры.
– До тюрьмы, вы хотите сказать? – подхватил Овсянников и подмигнул Леону. – Подлинно революционные люди, начиная с декабристов, шли на виселицу за свои идеи и… продолжали стрелять в царей.
Ульяна Владимировна сидела в кресле, как на иголках, и готова была встать и уйти к себе. Но надо было что-то ответить Овсянникову, и она сказала с ядовитой насмешкой:
– Вы, очевидно, причисляете себя к людям этих идей! Вы на них не похожи.
Овсянников рассмеялся.
– Переходить в теоретическом споре на личности – обычная манера у женщин. Впрочем, если хотите, я могу изложить некоторые свои взгляды на…
– Нет уж, увольте! И вообще, хватит с меня таких разговоров.
Оксана сидела на диване, читала книжку и не принимала участия в споре. Она знала, что Овсянников обычно больше резонерствует и спорит не потому, что защищает какие-то взгляды, а просто из желания блеснуть своим вольнодумством.
– Печально, Виталий. Я была о вас лучшего мнения, – после долгой паузы сказала Ульяна Владимировна.
– Простите, но ведь я пока никого не убил.
– Этого еще недоставало! – возмущенно сказала Ульяна Владимировна. – Вы и впрямь начинаете говорить такое, о чем в приличном обществе предпочитают молчать.
Овсянников взял со столика книжку, перелистал ее и положил на место. Обращаясь к Леону, он с искренним удивлением спросил:
– Скажите, Леон, я говорил что-нибудь неприличное? Вы слышали наш спор?
– Конец слышал.
– Ну, и что вы думаете?
Леон повел глазами в сторону Ульяны Владимировны, как бы говоря: «Да хватит вам, она и так рассердилась», и ответил:
– Думаю все о том же, Виталий… не знаю, как вас по батюшке. О том, куда итти, где на хлеб заработать.
– Если вам не терпится, Леон, вы завтра же можете пойти на работу, – заявила Ульяна Владимировна.
– И хорошая должность, мама? – радостно встрепенулась Оксана.
– Будет служить у богатых людей.
Овсянников взглянул на Леона и беззвучно захохотал:
– Ну я же вам говорил. Лакеем!
Леона точно ударили.
– Зря вы старались, Ульяна Владимировна, – возмущенно сказал он. – В лакеи я не пойду. Характером не гожусь.
– Я полагаю, вы оставили хутор не от хорошей жизни, – холодно возразила Ульяна Владимировна, заерзав в кресле-качалке. – Поймите, мой дорогой, сразу все не делается. Если вы подождете, я постараюсь…
Леон грубо прервал ее.
– Не старайтесь. Слышал я про холуев разных панских. Дед Муха у нас в хуторе есть, порассказывал достаточно. Нет для меня места на земле – под землю полезу. В шахту пойду работать, а холуем вашим барским не буду. Не желаю! – негодующе крикнул он и вышел в другую комнату, хлопнув дверью так, что зазвенели стоявшие в углу башенные часы.
– Правильно, Леон! – рассмеялся Овсянников. – Я не зря говорил, что вы наверняка угодите в тюрьму.
Оксана с ненавистью посмотрела на него, на Ульяну Владимировну и, ничего не сказав, быстро вышла следом за братом.
На другой день Леон уехал к Чургину в Александровск.
Глава вторая1
… И осень недолго длилась. Пришла она, неспокойная, ветреная, подмела пыль и мусор, затянула небо синими облаками, и полились на землю ленивые дожди, и от них блекла и стыла жизнь.
Не шелестели, не шептались больше на деревьях оранжево-яркие листья. Сорвал их ветер, развеял по садам, по дорогам, намочили их холодные дожди – и почернели они, поблекли, и лишь сладковатые запахи разносились по улицам, напоминая о недавнем буйном убранстве садов, о веселом шуме деревьев. Лишь на акациях еще шуршали скрюченные рожки, да по балкам рдели забытые детворой ягоды шиповника.
Коротки были хмурые осенние дни. Солнце лишь изредка выглядывало из-за туч на длинные шахтерские казармы и землянки, да не согревали неяркие, неприветливые лучи его, и от этого у людей становилось на душе еще сиротливей. Одна степь, зеленая, расписанная озимью, дышала и осенью неиссякаемыми запахами и силой, и от этого дыхания ее свежее становился воздух в шахтерских поселках и не так чувствовалась удушливая испарина горящей породы. Но шахтеры большую долю суток проводили глубоко под землей, в забоях, и к ним не доходили эти степные запахи.
Шахта Шухова была одной из крупнейших в районе. Окруженная служебными постройками и бунтами угля, отгородившись от людей штабелями леса и буграми породы, она стояла в кольце рабочих поселков, как погонщик в кругу рабов, черная, жестокая, всесильная, и на всем, что жило возле нее, видна была ее гнетущая печать. Шахтерские поселки, с сиротливыми домиками и помойными свалками посреди узких, неприглядных уличек, раскинулись прямо на выгоне и скорее походили на становища погорельцев, чем на жилье рабочих. Редко-редко какой домик старожила был обнесен каменной стенкой или заборчиком из старых досок. Большинство домиков стояло прямо в степи, без всякой изгороди, и лишь неглубокие канавы разделяли одно подворье от другого.
Люди здесь жили по ночам, при свете мерцающих ламп и коптилок. На улицах было тихо и безлюдно. Поселки точно вымерли, и лишь чумазая детвора, безодежная, безобувная, тоскливо выглядывала из окон, напоминая новому человеку, что здесь обитают люди. Только в дни получки и оживлялись поселки, да бесшабашно было это шахтерское оживление – разгульное, отчаянное.
А надо было жить…
Исходив всю шахту, Чургин к полудню поднялся на-гора и хотел переговорить со штейгером по поводу случившейся накануне задержки выдачи угля. Но едва он вошел в свою контору, как к нему явился стволовой Митрич.
– Я к тебе, Гаврилыч. Доброго здоровья! – обратился он к Чургину, снимая облезлый заячий капелюх и стряхивая с него капли дождя.
– Здорово, Митрич! Присаживайся, – указал Чургин на табурет.
Митрич был встревожен. Надев капелюх, он подвинул табурет ближе к столу, старчески устало сел на него и достал кожаную сумочку с табаком. С бороды его стекали капли воды, падали на табак, а он даже не замечал этого.
Он работал от конторы, считался опытным стволовым. Но вот произошла заминка с выдачей угля, в чем он был меньше всего повинен, и штейгер распорядился уволить его.
– Ну, что будем делать, Гаврилыч? – негромко спросил Митрич, медленно крутя козью ножку. – Иван Николаич все свалил на меня, велел расчет выписать.
Чургин, поставив одну ногу на табурет и склонившись над столом, рассматривал чертеж и красным карандашом делал на нем пометки. Не отрываясь от чертежа, он спросил:
– Дождь не унимается?
Митрич поднял голову, посмотрел, как по стеклу дорожками сбегали дождевые капли, и досадливо отвернулся.
– Идет.
Чургин отодвинул чертеж и, взяв у Митрича кожаную сумочку, отсыпал себе на бумажку щепоть табаку.
– Пачку папирос брал, и вот уже нет… Так, говоришь, рассчитывают?
– Рассчитали уж. Ты все одно как глухой нонче: я ему про расчет, а он про дождь, о табаке беспокоится, – недовольно заворчал Митрич, хмуря брови, и сразу повысил голос: – Жрать нечего будет завтра! Ты это понимаешь?
– А разве оттого, что ты кричишь, в рот булка упадет? – спокойно спросил Чургин, скосив глаза на Митрича и кончиком языка смачивая цыгарку.
Митричу стало неловко за свою горячность. Он положил руки на колени и низко наклонился, потом тихо, как бы сам с собой, заговорил:
– Оно не дурно цыган брехал: «Правды у бога немного, да у меня, говорит, трошки». Так и это. Знамо дело, криком не возьмешь. Но и молчать – душа не терпит. Ведь кабы у меня золотой был в кармане, оно, может, и обошлось бы все по-хорошему. Вот племянника моего рассчитали. Ну, пришлось собрать десятку и сунуть. А она шесть упряжек стоит… Я пришел к тебе вот зачем. Ребята сказывают: мол, ты… – Митрич запнулся, – ну, словом, свой человек. Войди в положение, Гаврилыч, больше надежи нет ни на кого. А на колени перед ними становится сил нету, мне уже шестой десяток кончается, сынок. – Он тяжело поднялся, туже натянул на голову капелюх, собираясь уходить, но остановился у двери, ожидая ответа.
– А ты на колени не становись и золотого не давай, – спокойно проговорил Чургин, пуская изо рта кольца дыма.
Митрич посмотрел на его строгое, бледное лицо, на колечки дыма и неопределенно промолвил:
– Так-то оно так, а завтра мне надо искать работу.
Чургин не спеша надел брезентовую куртку, рукавом вытер козырек фуражки и сказал, готовясь выходить:
– Пойдешь в ночную смену.
Митрич от радости не знал, что и говорить. Он снял капелюх, затем вновь надел его и, подойдя к Чургину, крепко пожал ему руку.
– Спасибо, Гаврилыч, родной. Внучата, старуха совсем было духом пали, – волнуясь, быстро говорил он. – А вот… Как же ты с ними? Они ж думают: мол, ты старший десятник, вроде правая рука ихняя!
Чургин улыбнулся, дружески похлопал его по плечу.
– Как-то, от нечего делать, я этими руками, – он протянул сухожильные свои руки, – поднял восемнадцать пудов на четверть от земли. Можно поверить этому?
Митрич оценивающим взглядом измерил его с ног до головы, худощавого, высокого, и сомнительно покачал головой:
– Нет. Никому и на ум не придет.
– Ну, так никому на ум не придет и то, – Чургин понизил голос, – что я шахтерский интерес соблюдаю. Я старший конторский десятник господина Шухова, и больше ты обо мне ничего не знаешь. Пошли!
Он взял трубочку чертежа и направился к двери.
2
Штейгер Петрухин недавно поступил на шахту по рекомендации одной влиятельной дамы. Молодой, с маленьким женственным лицом и небольшим острым носиком, с темными карими глазами и тщательно закрученными черными усиками, он был душою женского общества, и ни одна увеселительная вечеринка шахтной интеллигенции или городских чиновников не обходилась без его участия. Были слухи, что он замешан в каких-то семейных историях, но его никто не корил за это.
С первых же дней своей работы Петрухин взялся за дело весьма рьяно. Будучи фактическим заместителем управляющего, инженера Стародуба, и пользуясь тем, что управляющий по неделям не бывал на шахте, он скоро разобрался в обстановке, сдружился с подрядчиками, в чьих руках находилась эксплуатация шахты, и начал. Конторского десятника уволил и заменил своим шурином; но десятник успел во-время дать ему четвертную, и шурина пришлось устроить десятником на поверхности; сменил машиниста подъемной машины, за скромную мзду приняв на эту работу другого, к хотел было рассчитать старшего конторской бригады крепильщиков старика Ванюшина, да вмешался Чургин и доложил управляющему. Старый крепильщик остался на работе, а Стародуб вызвал Петрухина к себе.
– Если вы хотите получать сто рублей, господин Петрухин, – сурово заговорил Стародуб, – вы должны отрешиться от неправильной мысли, что шахта – это тотализатор, где можно без труда зарабатывать удачными комбинациями. Прошу это принять к сведению и… можете итти! – отрезал он.
Этот короткий разговор с управляющим заставил Петрухина задуматься и действовать более осторожно. Зато он твердо решил показать себя перед самим хозяином и начал внимательней присматриваться к Стародубу, надеясь со временем – чем черт не шутит? – кое-чему подучившись, пересесть за роскошный дубовый стол управляющего и взять управление шахтой в свои руки.
Сейчас он обдумывал один из способов возвеличения своей особы – проект многосаженных уступов подготовляемого второго горизонта.
Работал он над проектом скрытно, литературы не имел, достаточной практики тоже и надеялся лишь на осторожные рассказы одного немецкого инженера с Рура, оброненные за бутылкой вина. Но немец так мало говорил, а вино так слабо на него действовало, что Петрухин стал опасаться: а не оскандалится ли он на весь район?
Чургин грузно вошел к нему в кабинет, откинул ворот тужурки и достал из-под полы сверток. Петрухин сидел за небольшим письменным столом, глубоко сосредоточившись. Перед ним лежал развернутый план нового горизонта, две книги по горному делу, чертежи. Завидев Чургина, он стал что-то деловито писать.
Чургин сел на венский стул, снял картуз и положил его на угол стола.
– Здравствуйте, Иван Николаич! – негромко сказал он, доставая из кармана записную книжку. – Мне надо переговорить с вами.
Петрухин, не отвечая, занимался своим делом.
– Вчера вы уволили стволового, – продолжал Чургин. – Сегодня я расследовал обстоятельства задержки выдачи угля и нашел истинных виновников.
– Кто же эти истинные виновники? – не поднимая глаз спросил Петрухин, сличая свои записи с цифрами в толстой пожелтевшей книге.
– Подрядчик Кандыбин и вы.
Петрухин поднял удивленные глаза и нетерпеливо стал искать на столе коробку с папиросами.
– Вы, кажется, забываете, господин Чургин, с кем разговариваете. Кто дал вам право контролировать меня? – повысив голос, спросил он. – Вы всего лишь десятник, пусть и старший, а имеете честь разговаривать со штейгером.
– Владелец шахты Василий Васильевич Шухов дал мне это право, – спокойно ответил Чургин.
Лицо Петрухина нервно передернулось. Стараясь овладеть собою, он язвительно спросил, щуря глаза:
– Жалованьице прибавить обещали? Или дать золотые молоточки? Что ж! Рад поздравить. Так сказать, новый талант из народа.
Чургин листал книжку и не отвечал. Да и что отвечать этому штейгеришке? Сказать, что он дурак, нельзя, не затем пришел. И смолчать было обидно. Но Чургин умел молчать. Научили. Когда-то он кричал на штейгеров и управляющих, и всякий раз после этого ему приходилось искать новую работу. Не так это легко было – сносить обиды, но с той поры, когда его обижали, прошли годы. За это время он успел в совершенстве изучить шахтное дело и научился терпеливо отстаивать интересы рабочих. Первое качество знали все, кому положено, и за это его ценили, а о втором он помалкивал, и это позволяло ему потихоньку делать свое дело. Сейчас он пришел, чтобы добиться кое-чего в этом деле, и ему не было расчета кричать об этом.
Перелистав книжку и выждав, пока штейгер наговорится, он поднял глаза на Петрухина.
– Я не собираюсь садиться на ваше место, Иван Николаич. Мое место в шахте, там я провожу шестнадцать часов в сутки.
– На то вы и старший конторский десятник.
– Согласен. Так вот, разрешите доложить: во-первых, я написал рапорт управляющему, получил его согласие и завтра отбираю лаву у подрядчика Кандыбина.
– А штейгера просто ставите об этом в известность?
– Во-вторых, я допустил к работе неправильно уволенного стволового, – продолжал Чургин. – Надеюсь, вы не станете возражать против этих мероприятий, потому что вас ввели в заблуждение. Ну, и принес вам вот эту схему механической вентиляции шахты. Быть может, она пригодится при нарезке второго горизонта. – Он положил чертеж перед штейгером. – На авторство я не претендую.
Петрухин небрежно взял чертеж, бегло взглянул на него, и, к своему неудовольствию, заметил, что ему не к чему было придраться. Однако почему Чургин отдает свой проект так просто, как если бы это были сведения о продвижении уступов или прошение какого-либо конторщика? Ведь предложение о механической вентиляции технически ново и из него можно извлечь… Да мало ли что может извлечь из него деловой человек! «А не подвох ли это какой?» – с тревогой подумал Петрухин и решил проверить.
– Вы о своем предложении докладывали управляющему или Василию Васильевичу Шухову?
– Нет.
– Гм… В таком случае могу заверить, что ваш проект неосуществим, его управляющий не примет, – сказал он, а в это же время мысль его работала совсем в другом направлении: «А что, если самому разработать это и доложить хозяину? Механическая вентиляция, длинносаженные уступы. И все это – штейгера Петрухина. Ведь тут же перспектива, черт побери!»
Чургин поднялся, взял чертеж и свернул его в трубочку.
– Хорошо. Я сам доложу Николаю Емельянычу. Только я не допускаю, чтобы можно было расширять шахту и увеличивать добычу почти вдвое, забыв о том, что в шахте никто не захочет работать.
– Позвольте, как это «никто не захочет работать»? – исподлобья глянув на Чургина, раздраженно спросил Петрухин. – Взбунтуются шахтеры?
– Воздух взбунтуется. В генеральном проекте о нем забыли. А сам он не захочет пойти по бесчисленным лабиринтам двух этажей шахты. Его придется гнать вентиляторами.
Петрухин знал, что проект расширения шахты действительно составлен в расчете на естественную вентиляцию, с помощью двух воздушных шахт, и последние слова Чургина насторожили его: «А не грубая ли это техническая ошибка управляющего Стародуба – автора проекта?» И он забыл обиду на Чургина, втайне надеясь, что это именно так и окажется. Он поспешно взял у него чертеж и заговорил в более мягком тоне.
– Ну, хорошо, оставьте. Я проверю, только… – он подумал немного и не сказал того, что хотел. – Вы, конечно, доверяете мне, Илья Гаврилович? А, впрочем, не лучше ли доложить об этом хозяину? – сказал он, как бы рассуждая вслух.
– Можно доложить и хозяину, когда он приедет, – тотчас же согласился Чургин и, поднявшись с кресла, протянул руку к чертежу. – В таком случае я сам доложу.
Петрухин прихлопнул чертеж рукой и, окончательно сбросив с себя напускное равнодушие, воскликнул:
– Слушайте, Чургин, ну вас к черту с вашими маневрами! Садитесь и толком скажите мне: чего вы хотите? Это расследование задержки выдачи угля, наконец, этот ваш стволовой проект. Что все это значит?
Чургин пожал плечами:
– Это ничего не значит. Просто вы затрудняете мою работу, Иван Николаич, а я этого не хотел бы.
– Какую работу?
– Весьма полезную, конечно. Работу старшего конторского десятника.
Петрухин с хитрецой посмотрел в его спокойные большие глаза, задумчиво покрутил кончик черного нафабренного уса.
– Выживать подрядчиков? Я угадал?
– Угадали.
3
На улице шел мелкий дождь. Кругом была непролазная грязь, стояли лужи воды. Чургин постоял немного у парадного главной конторы и, подняв воротник брезентовой куртки, направился на шахту.
Дождевые капли дробно сыпались ему на картуз, на плечи, как пшено, отскакивали от брезента, и от мерного, однообразного шума их как-то спокойней становилось на душе.
«Он „угадал“, – смеялся Чургин. – Если бы вы все такими дураками были! Да-а, значит, Митрича отстоял. Это хорошо. И подрядчика выжил. Тоже хорошо. Но вот артель создать труднее будет, новички не поймут, в чем дело. Кстати, надо написать письмо Леону или поехать еще раз и привезти его. И к Луке Матвеичу не мешало бы съездить. А Оксану придется так и оставить в роли связного с Лукой. Лучшего не придумаешь, ей-богу. Племянница помощника наказного атамана – замечательный передатчик нелегальной почты», – размышлял он, громко шлепая по лужам тяжелыми сапогами.
Навстречу ему шла девушка-шахтерка. Чургин узнал в ней откатчицу Ольгу Колосову.
– Здравствуйте, Илья Гаврилыч! – бойко крикнула Ольга.








