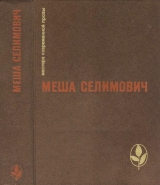
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Меша Селимович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 49 страниц)
Я оторопело слушал.
– О несчастный дервиш! Может ли когда-нибудь случиться, что вы перестанете думать по-дервишски? Работа по принуждению, предназначение согласно божьей воле, спасение справедливости и мира! Как вы не подавитесь этими громкими словами! Неужели нельзя сделать то, что нужно человеку, не спасая при этом мир? Оставьте мир в покое, ради господа бога, он будет счастливее и без этой вашей заботы. Сделай что-нибудь для человека, имя которого ты знаешь, который случайно приходится тебе братом, сделай, чтоб он не погиб, ни сном ни духом не виновный перед той справедливостью, за которую ты ратуешь. Если б от смерти твоего брата зависел рай для всех обездоленных, ладно, пускай умирает, он искупил бы многие беды. Так нет же, все останется по-старому.
– Значит, так хочет бог.
– У тебя нет другого слова, более человечного?
– Нет. И мне не нужно.
Он подошел к окну, окинув взором небо над городком и окружавшими его горами, словно ища ответа или успокоения в этом безграничном просторе, а потом вдруг окликнул кого-то во дворе, узнал, подкованы ли лошади, и попросил поскорее привести музыкантов.
Тщетно, с трудом познаю я его. Только разгляжу с одной стороны, тут же открывается другая, мне неведомая, и я не знаю, где он настоящий.
Хасан был совсем спокоен, когда снова повернулся ко мне, и лишь улыбка его не казалась столь бодрой, как прежде.
– Прости,– сказал он, пытаясь выглядеть веселым,– я был груб и не прав. У меня повадки скотовода. Хорошо, хоть ругаться не начал.
– Все равно. Сейчас это не важно.
– А может быть, я не прав. Может быть, твое поведение разумнее. Наверное, лучше жить по небесным меркам, нежели по обыкновенным, земным. Неудачи тебя не тревожат, ты всегда располагаешь неограниченным временем и оправдываешь причины, лежащие вне тебя. Оттого личная потеря для тебя менее важна. И боль тоже. И человек. И сегодняшний день. Все продлевается во имя продления, оно безликое и огромное, сонно-вялое и торжественно-равнодушное. Как море: невозможно оплакивать бесчисленные жертвы, которых оно непрестанно требует.
Я молчал. Что мне было сказать? Его резкие слова открывали мне всю неуверенность и недоуменность, которым несть конца. Что оспаривать, с чем соглашаться, когда он сам не знает, где он? Он полон сомнений. У меня их нет. Я действительно думаю, что божья воля – высший закон, что вечность – мера наших действий и вера – важнее человека. Да, море существует испокон века и во веки веков, и не стоит его взбаламучивать из-за одной нелепой смерти. Он говорил об этом с горечью, вкладывая в слова иной смысл, без веры. А я хотел бы возвыситься, даже если речь идет о моем личном счастье.
Я не видел смысла пускаться в объяснения, он все равно не поймет, потому что думает иначе, не так, как я, я не могу согласиться на освобождение брата путем бегства или подкупа, ибо еще верю в справедливость. Если же я смогу убедиться, что нет справедливости в этом моем мире, мне остается покончить с собой или восстать против этого мира, который больше не будет моим. Хасан определенно сказал бы, что я мыслю по-дервишски, он сказал бы, что это слепая погруженность в предначертанное, поэтому лучше ничего не говорить, только я не знаю, как иначе жить человеку.
Неужели можно?
Взгляд мой был прикован к ветке с набухшими почками перед распахнутым окном. Пора уходить.
– Весна,– сказал я.
Как будто он не знает. Конечно, не так, как знаю я. Мне и в голову не пришло, что ему могло показаться странным это мое слово. Я им как бы завершал беседу и мысль и в то же время продолжал их.
Вспомнилось, как сегодня утром, когда море розовато-белых цветов сливалось с бесконечностью, когда светлые тени прятались под деревьями и пахло пробудившейся землей, я думал о том, как хорошо было бы отправиться по свету с миской дервиша в руках, ведомому солнцем, к любой реке, по любой тропе, без какого бы то ни было другого желания, кроме как нигде не быть, ни к чему не быть привязанным, видеть иное каждым новым утром и каждой новой ночью ложиться на другое ложе, отбросив сожаление и память, выпустить на волю ненависть, если ты ушел, значит, и она бессмысленна, отодвинуть от себя мир, обойти его. Но нет, не об этом я думал, просто я последовал желанию, недавно высказанному Хасаном, оно показалось мне таким прекрасным, таким освобождающим, что я осознал его как свое и целое мгновение мысленно определял его словами. Оно отвечало моей утренней сумятице, и я постиг его в конце, считая, что оно существовало. А его не было, это я точно знаю.
Я рассказал Хасану о встрече с мальчиком после унизительного отказа муселима принять меня.
– Зачем ты его окликнул? – смеясь, спросил Хасан.
– Он казался смышленым.
– Тебе было тяжело, ты спасался от муки, ты хотел позабыть о том, как стражники прогнали тебя, и тогда, в минуту большой личной невзгоды, ты обращаешь внимание на смышленых мальчишек и думаешь о будущих ревнителях веры. Не так ли?
– Если мне трудно, значит ли это, что я перестал быть тем, кто есть?
Он покачал головой, и я не понял, смеется ли он надо мной или жалеет.
– Скажи, что нет, прошу тебя, скажи, что брат для тебя важнее всего, скажи, что ты все пошлешь к черту, чтоб спасти его, ты знаешь, что он невиновен!
– Я сделаю все, что смогу.
– Этого недостаточно. Давай сделаем больше!
– Давай не будем больше об этом говорить.
– Ладно. Как хочешь. Только бы тебе не пришлось раскаяться.
Он был упрям. Не знаю почему, но он хотел пуститься в опасное и ненадежное предприятие по спасению человека, которого почти не знал, я был удивлен еще и тем, что это противоречило всему, что я о нем слышал. Однако он не лгал, он не только уговаривал меня, видя мое решительное несогласие, но, ни секунды не медля, готов был приступить к делу.
Можно предположить, что меня растрогала его готовность прийти мне на помощь, что эту жертву я принимаю со слезами на глазах. Но нет. Нисколько. Сперва мне хотелось, чтоб его предложение оказалось выдумкой, пустыми словами, ни к чему не обязывающими. Но свести к этому не удавалось, и, поскольку его искренность была несомненной, я ощутил на себе, как он зол и обижен. Мне казалось неприличным столь живое его участие, неприличным и навязчивым, скажу больше – противоестественным. Его рвение превосходило мое, он подчеркивал недостаточность моих усилий, жертвовал собой, чтоб показать, как мала моя любовь, он укорял и наказывал меня. Этот разговор был мучителен, мне хотелось, чтоб он поскорее кончился, мы не могли понять друг друга. А его вывод на основании моего рассказа о встрече с мальчуганом смутил меня, он как будто обнажил то, о чем я вовсе не думал, но что наверняка было правдой, и смысл всех его слов свел к мятежу. Уразумев это, я замкнулся в себе, превратился в осажденную крепость, в стены которой напрасно летят стрелы. Нет, он мне не друг, или же очень странный друг, зачем он обрубает мои корни, подрывает основу. Дружба между людьми, которые по-разному думают, невозможна.
Это горькое осознание (а оно было необходимо как воздух, как лекарство) помогло мне отразить его натиск и приступить к тяжелому разговору, который я все время откладывал, ни на минуту не переставая думать о нем.
Я мог по-дружески попросить его, я имел право на это, но моя мысль шла по иному пути, делая это невозможным; я мог сказать ему, что передаю чье-то поручение, которое меня вовсе не касается, но тогда мне будет трудно выразить свою просьбу, и все получится скверно. Лучше всего так: он мне не друг, это точно, и я передаю чужую просьбу, от которой мне тоже будет польза. Может быть, поэтому я не показал, что сержусь, ведь тогда я настроил бы его против себя и уменьшил шансы на успех.
Собираясь уходить, я словно невзначай вспомнил об этом и сказал, что был у его сестры, она пригласила меня (я знаю, заметил он, предупреждая тем самым, что придется сказать больше, чем может быть полезно) и попросила передать ему, Хасану, что отец лишит его наследства (знаю и это, улыбнулся Хасан) и что для него лучше всего было бы отказаться самому, ради окружающих, перед судьей, чтоб было поменьше срама.
– Поменьше срама для кого?
– Не знаю.
– Я не откажусь. Пусть делают, как считают нужным.
– Возможно, так лучше всего.
Не буду скрывать, я рассчитывал, что посредничество в этом неблаговидном деле поможет мне и моему брату. Однако, когда Хасан не согласился, я подумал, какой он грубый и упрямый, и лишь ценой большого усилия заставил себя держать его сторону. Мне было тяжко, ядовитые слова подступали к горлу, но иначе я не мог: вовеки не прощу себе, если он заметит мою игру. Не так я начал, все запутал, надо было сказать ему просто, по-человечески, ничего бы не случилось, если б он отказал мне, а теперь все пропало. Возможность, которой я так долго ждал, уходила безвозвратно, а у меня больше не хватало сил.
Я терял всякую надежду и понимал, что мой приход лишен всякого смысла, но Хасан неожиданно догадался сам:
– Если я откажусь от наследства, мой зять, судья, поможет твоему брату?
– Не знаю, я об этом не думал.
– Давай сделаем так! Пусть он поможет тебе, и тогда я откажусь от всего. Если понадобится, оповещу об этом с минарета. Мне ведь безразлично, и так и эдак они оставят меня безо всего.
– Ты можешь подать иск. Ты законный наследник и не причинил никакого вреда семье, твой отец болен, нетрудно доказать, что они оказывают на него давление.
– Знаю.
Мне стоило огромных усилий сказать это, я с трудом уже второй раз заставлял себя быть честным. Я хотел быть равным ему, я хотел, чтобы позже, когда я буду вспоминать о его великодушии, я смог бы оправдаться перед самим собой: да, я сделал все, что должен был сделать, даже во вред себе, я не обманул его, пусть решение принадлежит ему.
– Знаю,– сказал он,– сделаем тогда так. Мой зять тоже боится сутяжничества, он неглуп, хотя и лишен чувства чести. И к счастью, он жаден. Может быть, он нам и поможет, ведь для него важнее богатство, а не судьба маленького, никому не ведомого писаря. Давай используем человеческие пороки, если у нас нет иного выхода.
– Ты слишком щедро одариваешь. Мне нечем будет тебя отблагодарить.
Он улыбнулся и тут же уменьшил свой дар:
– Я немного дарю, все равно к ним отойдет. Кому охота по судам таскаться!
Теперь я мог вволю отговаривать его и не уговорил бы. Но я не стал больше искушать судьбу.
Поблагодарив Хасана, я начал прощаться. Хорошее настроение и надежда вернулись ко мне, он победил меня своим нерасчетливым великодушием. Как хорошо, он сам от всего отказался, и теперь я не буду сгибаться под тяжестью принесенной им жертвы, не обременил он меня благодарностью и не перестал быть мне другом. (Он мог стать всем в те первые дни, он еще не был ничем определенным, мне приходилось решать в каждый данный миг, словно при первой робкой любви, которая легко оборачивается ненавистью.)
– Жаль, что ты дервиш! – вдруг воскликнул он, громко рассмеявшись.– Пригласил бы я тебя поразвлечься с моими друзьями.– И добавил с лукавой откровенностью: – Не скрываю, потому что завтра ты сам узнаешь.
– Ты не любишь порядок?
– Да, я не люблю порядок. Я знаю, ты осудишь меня, но «вам – ваше, мне – мое». Неважно, что мы поступаем нехорошо, важно, что мы не делаем зла. А в этом зла нет.
Он подшучивал над Кораном, но без злобы и без насмешки. Он не любил порядка, не любил святыни, был равнодушен к ним.
Вдруг его оживление как рукой сняло. Открытые в улыбке губы стянулись в судорожную гримасу, загоревшее от ветра лицо чуть побледнело. Я посмотрел в окно, следуя за его взглядом: во двор входила статная дубровчанка с мужем.
– Они тоже пришли поразвлечься?
– Что? Нет.
На какую-то долю секунды он потерял власть над собой, волнение победило его. Зрачки остановились в широко раскрытых глазах, руки лишились прежней уверенности. Еще доля секунды – и все прошло, словно и не было. Улыбка вновь заиграла на лице, и снова я видел перед собой уверенного в себе человека, он был невозмутимо бодрый, спокойно радовался приходу друзей. Однако волнение пряталось внутри его, а внешне он был спокоен. Только почему-то он перестал видеть меня, будто я перестал для него существовать. Хотя и держался по-прежнему любезно, взор его не скользил мимо меня, он приглашал меня заходить, попросил зайти и к его сестре, вроде все оставалось по-старому, но мыслью он расстался со мною: весь был внизу, во дворе, рядом с женщиной, что пришла к нему с визитом. Мы пошли им навстречу, встретили их у входа, здороваясь, я украдкой, торопливо взглянул на нее, вблизи лицо ее не показалось мне красивым, у нее были впалые, бледные щеки, лихорадочно блестели глаза – от болезни или от печали, но во всем ее облике было что-то такое, что оставалось в памяти, я прошел сквозь облако легких духов, потрясенный неразрешимостью отношений этих людей. Вот почему он с такой заинтересованностью рассказывал о своей служанке и о двух конюхах! Не его ли это страдание, не его ли безысходность? Не будь он влюблен, все казалось бы легче и проще, но ведь внезапная бледность вряд ли может кого обмануть. Знает ли она? Знает ли ее муж, добродушный латинянин, низко поклонившийся мне с приятной улыбкой доброго, безразличного ко всему человека. Наверняка он ничего не ведает, страсть не терзает его. Если б и ведал, вряд ли бы убил. Женщина понимает, женщины всегда все понимают, хотя между ними ничего не было сказано, тем не менее она скорее предпочтет «да», чем «нет». Что происходит между ними, невысказанное, но столь очевидное, и мужем, который разделяет их своим присутствием, но отсутствием подозрений толкает друг к другу и всегда готов заполнить опасные паузы оживленной болтовней ни о чем? Как велико безумство этих молодых людей, отведавших, но не утоливших свои желания, какова зачарованность, пока она питается лишь мыслями, но может превратиться в опасную страсть? Неужели только ее тонкий, как тростинка, стан и тихая радость в блестящих глазах, отмеченных болезнью, сразили Хасана? Неужели лишь ради этого он порвал с прошлым, чтоб вот так безоглядно погрузиться в пламя страсти, которая не угасает и не может исчезнуть? Он думает о ней, не видя ее месяцами, а вернувшись, встречает ее, еще более прекрасную, столь желанную в мечтаниях дальних странствий, жадным взором впивается в нее, чтоб, запомнив, увезти ее образ с собою в новые странствия. Где замкнется круг, в котором, не сгорая, пылает страсть?
Сейчас он позабыл обо мне, если вообще когда-либо помнил, она давно вытеснила меня – и меня, и все остальное, что не является ею; и если в ту минуту я ненавидел ее, то лишь потому, что ее длинное атласное платье, по-девичьи полные губы и нежный голос зрелой женщины оказались важнее меня и моих страданий. Она вытеснила меня до полного исчезновения моего существа, уничтожила опору, которой у меня не было, однако мне бы хотелось, чтобы ничего не стало известно.
Опять я один.
Может быть, так лучше, ниоткуда не ждешь помощи и не боишься измены. Один. Я сделаю все, что смогу, зачем надеяться на несуществующую поддержку, и тогда все, чего я добьюсь, будет принадлежать мне – и зло и добро.
Я миновал мечеть на углу улицы, где жил Хасан, миновал медресе, ее не было видно за стеной, миновал улицу, где жили мастера, делавшие сандалии, дошел до кожевенников, запах латинянки выветрился, поблекла мысль о Хасане, я шагал мимо мастерских ремесленников, спокойно погруженных в свой труд, приближалась граница моих собственных забот и дороги в неведомое. Но почему в неведомое? Я не сомневался в успехе, не смел сомневаться, у меня не хватило бы тогда сил сделать следующий шаг. А я должен был его сделать, это был вопрос всей моей жизни или чего-то еще более важного. В тот момент я искал покоя, шагал мимо лавок, опустив голову, подавленный, усталый, я вдыхал запах кож и дубильных экстрактов, усталый, я смотрел на круглый булыжник мостовой и ноги прохожих, усталый, без капли сил, я жаждал добраться до своей комнаты и заснуть беспробудным сном, как покойник, заперев дверь, закрыв окна, как больной. Однако ни слабость, ни страх перед неведомыми трудностями, ни желание лечь и умереть, отказавшись от всего и смирившись с судьбой, не должны сейчас остановить меня. Никакая усталость или подавленность не должны воспрепятствовать мне выполнить мой долг. Все мое крестьянское упрямство и безжалостно отчетливая мысль о необходимости защищаться подгоняли меня. Должен. Иди вперед, умирать будешь потом.
Откуда берется этот страх и предчувствие грядущих бед, неужели мой опыт не мог меня предостеречь?
Услыхав цокот копыт по мостовой, я поднял глаза и увидел двух вооруженных стражников на конях, они ехали вплотную друг к другу и никого вокруг не замечали. Прохожие прижимались к стенам домов на узкой улочке, чтоб кони не отшвырнули их в сторону, чтоб не зацепили острые стремена. Стражники ехали медленно, и люди успевали уклониться в сторону, молча пережидая, пока они проедут. Намеренно они не хотели никого задевать, но и дорогу не уступали. Ехали, как бы никого не замечая.
Войти в любую лавчонку, думал я, и пропустить их или вжаться в стену, как остальные? Сделаю, как все. Позволю им унизить меня, проезд узкий, они целиком займут его, зацепят меня стременами, порвут джюбе, я даже не повернусь, пусть творят, что хотят, я останусь здесь с людьми, которые молча смотрят, которые ждут; чего ждали эти люди, пока стражники ехали прямо на меня? Хотели увидеть, как меня оскорбят, или услышать, как я прикрикну на них, звание и одежда дают мне на это право. Я хотел тогда и того и другого, мне вдруг показалось, что очень важно, решающе важно, как я поступлю, меня смутило, что все кругом смотрели в ожидании, на моей ли они стороне, против меня ли, равнодушны ли? И этого я не знал. Прикрикнуть я не смею, солдаты выругают меня, я окажусь смешным, а эти люди не выкажут сочувствия поверженному. Нет, пусть мне нанесут оскорбление, все увидят, что я пытался отойти в сторону, что я такой же, как они, бессильный, я даже захотел, чтобы меня унизили как можно больше, тяжелее в сравнении с остальными. Прижавшись к стене, всей кожей чувствуя ее неровности, опустив взгляд, даже не взволнованный предстоящим унижением, я обдуманно выбрал самое узкое место, с каким-то болезненным наслаждением ожидая того, что случится, люди услышат, выразят мне сочувствие, я стану жертвой.
Однако произошло непредвиденное: один из всадников опередил другого и они гуськом проехали мимо. И даже приветствовали меня. Я был ошеломлен, их поступок застал меня врасплох, все мои усилия оказались ненужными, и все получилось как-то смехотворно: и мой немощный героизм, и излишнее вжимание в стену, и готовность принять обиду. Я пошел дальше, не поднимая глаз, мимо стоявших людей, которые молча провожали меня взглядами, обманутый и пристыженный. Так немного осталось, чтоб слиться с ними, но стражники выделили меня.
Однако когда я прошел сквозь воображаемые плети взглядов, не осмеливаясь встретиться с ними, когда я свернул на другую улицу, где не было больше свидетелей моей напрасной жертвы, напряжение спало и я почувствовал себя избавленным от тяжести, я снова поднял глаза и смотрел на людей, стал отвечать на приветствия, смиренный и тихий, мне становилось все очевиднее, как хорошо, что именно так все закончилось. Они признали меня, проявили свое уважение, отказались от насилия надо мной, а мне этого и было нужно, я даже загадывал про себя, прижимаясь к стене: если проедут гуськом, все будет хорошо, удастся то, что я намереваюсь сделать. Нет, я только подумал об этом, потому что суеверно боялся связывать желанный успех с невозможным условием, с чудом. Как бы там ни было, произошло чудо или нет, но было предвестие и доказательство. Как же я, маловер, мог даже представить себя отвергнутым и бесправным? Откуда это? Кому принесет пользу? Я оставался тем, кем был: дервишем известного ордена, шейхом текии, признанным ревнителем веры. Как я могу быть отвергнут и почему? Я не желаю, не хочу, не могу быть никем иным, и все это знают, зачем же мне препятствовать? Я все сам выдумал, без нужды все запутал в себе, не знаю, как родилась эта трусость, я сотни раз стоял под знаком смерти и не боялся, а сейчас сердце, словно камень, мертвое и холодное. Что же произошло? Во что превратился наш героизм? В постыдный трепет от уханья филина, от громкого окрика, от несуществующей вины. Так жить не стоит. Зубами я стискивал саблю, переплывая реку, полз на брюхе по плавням, жадно вслушиваясь в дыхание врага, никогда не кланялся пулям, а сейчас боюсь вшивого стражника. Увы, горе горькое, что-то стряслось с нами, что-то страшное стряслось с нами, мы уменьшились и даже сами этого не заметили. Когда мы это утратили, когда мы это допустили?
Вяло тянется день, тени уже покусывают его, пусть он тянется, чтоб мне не войти в ночь со стыдом и мучениями. Я знал, куда иду, еще не решив даже, что пойду к нему. Бессознательно я думал о нем, надеясь, что жена рассказала ему о нашем разговоре, оба мы будем делать вид, будто ничего не знаем, будем беречь якобы какую-то тайну, не станем упоминать Хасана, но мой ясный взгляд все откроет. А если и не сказала, мне нечего бояться. Может быть, лучше было бы сперва зайти к ней, принести, как подарок, весть о согласии Хасана. Тогда легче толковать с ее мужем.
Напрасно, трусость нас обуяла, она нас ведет. Она говорит вместо нас, будь она проклята, даже тогда, когда мы стыдимся ее.
Я воспользовался минутой досады и сделал все сразу, чтоб не откладывать на никогда.
К моему удивлению, Айни-эфенди принял меня тут же, словно давно ожидал, ни челядинцы, ни доклады не обгоняли меня, хотя в коридорах ощущалось скрытое присутствие многих людей и глаз.
Он встретил меня любезно, приветствием, которое не было ни шумным, ни равнодушным, не лицемеря, будто обрадован или удивлен моим приходом, во всем соблюдая меру, с неопределенной улыбкой, не пытаясь ни испугать, ни ободрить. Это честно, подумал я, но чувствовал себя неуютно.
Откуда-то вылезла кошка, посмотрела на меня злыми желтоватыми глазами и, вытянув мордочку, подошла к нему. Не отводя взгляда от меня, взгляда учтиво-рассеянного, он поглаживал избалованное животное, которое сладострастно изгибалось под его ладонью, терлось боком и шеей о его ногу, а потом и вовсе забралось к нему на колени, свернулось клубком и замурлыкало, зловеще щурясь. Теперь за мной следили две пары глаз, обе желтоватые и настороженно-холодные.
Думать о его жене не хотелось, но ее образ всплывал из тьмы, из дали, ради него, оцепенелого, насторожившегося, со спрятанными в длинные рукава ладонями, наверняка душившими там друг друга, с прозрачным лицом, тонкими губами, узкими плечами, начисто вымытого, хрупкого, у которого в жилах течет вода, как же проходят ночи в этом огромном глухом доме?
Он сидел, непостижимо спокойный, не испытывая потребности двигаться (как окоченевший покойник или оцепенелый факир), с тем же выражением на лице, какое у него было, когда я вошел, с ничего не значащей улыбкой, обманчиво натянутой на безгубый рот. Меня эта улыбка утомляла больше, чем его.
И только иногда – для меня это всякий раз оказывалось неожиданностью – вдруг оживала его рука, выползала змеей из рукава (у его жены руки как птицы), и глаза его устремлялись к точно таким же, кошачьим, на секунду смягчаясь.
Не знаю, как долго я сидел, были сумерки, потом стемнело, у него на коленях сверкали фосфорные глаза, к моему удивлению, или же мне почудилось, у него оказалось четыре мерцающих глаза, потом внесли свечи (как в тот вечер, но у меня больше не было сил думать о ней), мне стало совсем худо, не давала покоя мертвая улыбка, пугал мертвый взгляд, пугала тьма за его спиной и тень на стене, меня тревожило и тихое шуршание, словно вокруг нас бегали крысы. Однако самым жутким, наверное, было то, что он ни разу не повысил голоса, не изменил манеры речи, не взволновался, не рассердился, не улыбнулся. Медленно вываливались из него слова, желтые, восковые, чужие, и всякий раз я снова удивлялся, как ловко он их укладывает и находит для них нужное место, потому что сперва казалось, будто они рассыплются у него, собравшись где-то в яме рта, и потекут в беспорядке. Он говорил упрямо, терпеливо, уверенно, ни разу ни в чем не усомнился, не допускал никакой иной возможности, и, если я изредка противоречил ему, искренне удивлялся, словно его обманул слух, словно он говорил с безумцем, и продолжал снова нанизывать фразы из книг, разбавляя ветхость их возраста гнилью своей мертвечины. Что он говорит, обеспокоенно спрашивал я. Неужели он думает, будто я не знаю этих избитых фраз или позабыл их? Возможно, так рассуждает его высокое кресло или возложенные на него высокие обязанности? Неужели он говорит лишь по привычке или для того, чтоб ничего не сказать, быть может, чтоб посмеяться, разве у него нет иных слов, кроме этих вызубренных? Видимо, он терзает меня, чтоб довести до безумия, а кошка для того и сидит, чтоб в конце концов вцепиться мне в глаза?
Потом я подумал, что он в самом деле позабыл все обыкновенные слова, и это показалось мне ужасным: не знать ни одного своего слова, ни одной собственной мысли, онеметь по отношению ко всему человеческому и говорить без нужды, без смысла, говорить передо мной так, будто меня здесь нет, быть вынужденным говорить, но ведь его разговор – это только память. И я приговорен слушать то, что мне давно знакомо.
Он сошел с ума? Или он покойник? Призрак? Самый страшный палач?
Вначале я не верил сам себе, казалось невозможным, что живой человек, стоящий перед ним, и живой узник в каземате не вынудят его произнести хоть одно живое слово. Я пытался приблизить его к человеческому диалогу, чтоб он хоть что-нибудь сказал о себе, обо мне, о моем брате, все было напрасно, он изрекал то, что было в Коране. Увы, тем не менее он говорил и о себе, и обо мне, и о моем брате.
Тогда я тоже погрузился в Коран, зная, что он принадлежит и мне, не только ему, я знал Коран так же, как он, и начался турнир слов, которым тысяча лет, которые заменили собой все наши будничные слова, теперь они извлекались ради моего арестованного брата. Мы чем-то напоминали два заброшенных источника со стоялой водой.
Когда я сообщил ему, зачем я пришел, он ответил фразой из Корана:
– Кто верит в бога и в день Страшного суда, тот не водит дружбы с врагами аллаха и посланниками их, хотя бы это были отцы их, или братья их, или родственники их.
– Что он сделал? – возопил я.– Скажет ли мне кто-нибудь, что он сделал?
– О правоверные, не спрашивайте о вещах, которые могут ввергнуть вас в печаль и заботу, если вам открыто сказать о них.
– Я буду твоим должником до гроба. Я пришел затем, чтоб мне прямо сказали. Я и так целиком погружен в печаль и заботы.
– Возгордившиеся блуждали по земле и распространяли нечестие.
– О ком ты говоришь? Не могу поверить, что о моем брате. Всевышний говорит это о неверных, а мой брат правоверный.
– Горе тем, кто не верует.
– Я слыхал, будто он арестован за какие-то слова.
– Не может быть тайного разговора и шептаний между тремя, чтобы господь не стал четвертым между ними. Тайные встречи – дело рук дьявола, ибо он хочет причинить вред правоверным.
– Я хорошо знаю своего брата, он не мог учинить худое!
– Не будь пособником и опорой неверным!
– Господи, он брат мне!
– Если вам отцы ваши, сыновья ваши, братья ваши, жены ваши, семьи ваши милее всевышнего, его посланника и его борьбы, не ждите милости божьей.
– О правоверные, избегайте хулы и клеветы, ибо хула и клевета суть грех.
Это сказал я.
Я отмерил ему той же мерой, из Корана, у меня не было больше сил пользоваться обычными словами, ибо он был сильнее меня. У него божьи основания, у меня – человеческие. Мы не были равноправны. Он возвышался над вещами и говорил словами создателя, я пытался положить свою мелкую беду на весы обыкновенной людской справедливости. Он заставил меня подвести мой случай под вечные мерки, чтоб лишить его значения. Я не уловил тогда, что в этих пределах Вечности потерял брата.
Он тогда защищал свои принципы, я – себя; он – спокойный и уверенный, я – взволнованный, почти взбешенный. Мы говорили одно и то же, но каждый по-своему.
Он сказал: Грешников не будут оплакивать ни небо, ни земля. А я думал: Горе человеку, если измерять его величиной неба и земли. Он сказал: Воистину несчастен будет тот, кто душу свою запятнает. И дальше: О Зулькарнайн, Яджудж и Маджудж распространяют нечестие по земле.
А я сказал: О Зулькарнайн, Яджудж и Маджудж распространяют нечестие по земле. И: Воистину несчастен будет тот, кто душу свою запятнает. И: Рядом с Истиной стоит заблуждение. И: Да простится людям и будет им оказана милость, разве вы не хотите, чтобы аллах простил вам? И еще: Воистину человек – великий насильник, а насильники – далее всех от Истины.
Он умолк на мгновение и спокойно, по-прежнему улыбаясь, сказал:
– Горе тебе, горе тебе и опять горе тебе!
– Аллах – прибежище для каждого,– сбитый с толку, ответил я.
Потом мы смотрели друг на друга: я – истерзанный всем, что было сказано, думая о том, что позабыл о брате, а себя только подвел; он – спокойный, поглаживая задранный хвост отвратительной кошки, изгибавшейся у него за спиной. Мне следовало уйти, лучше б вовсе не приходить, я ничего не узнал, ничему не помог, а сказал то, что не следовало. Ибо Коран тоже опасен, если слово божье о грешниках связываешь с тем, кто определяет грешников. Тысячу раз раскаешься в сказанном, но редко в том, о чем умолчишь, я знал эту мудрость, когда она не касалась меня. Лучше всего слушать, а говорить лишь самое главное, я упустил это, а был уверен, что это важно. Вчера вечером это случилось, это касается нас обоих, женщина не сказала ему, будто таила от него. Вспомнил я: друга я предал ради этого.
И я рассказал ему коротко, пытаясь побороть охвативший меня стыд, о том, как уговорил Хасана отказаться от наследства. Ничего более, только об этом. Ни в какую связь не поставил я ни себя, ни теперешний свой приход, ни брата. Но он свяжет, должен связать и не сможет ответить мне словами Корана. Этой быстрой переменой разговора я пытался зло напакостить ему, насладиться тем, что измараю его его же собственной алчностью.
И снова я обманулся. Он ничем не показал, будто понял меня, не удивился, не уловил я в нем ни злобы, ни радости, а в священной книге он подыскал ответ и на этот случай:
– Греховен тот, кто просит, но греховно и то, что у него просят.
Слова его могли содержать все или ничего. Намек на окончание беседы, скрытую злобу, насмешку.








