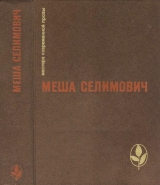
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Меша Селимович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 49 страниц)
– И не сказал мне. Он тоже промолчал.
– Если б я получил что, сказал бы. А ему нечем похвастаться.
– А если дал, что тогда скажешь?
– Дал?
– Дал.
– Ну, я так и знал. Бог свидетель, я так и знал. Как он может тебе не дать? И ты его выручал.
– Выходит, не такая уж мелкая у него душонка.
– Когда мелкая, когда широкая. Как у всех.
На сей раз душа у него была даже очень широкая! Пятьдесят грошей отвалил. Я отделил Махмуду половину, он взял деньги равнодушно, не сказав, много это или мало. Только окинул их на ладони взглядом.
– Будь этого дерьма чуть больше, можно было бы спать спокойно.
– Ну нет, спать спокойнее без них: не надо бояться, что ограбят.
– Пожалуй, ты прав, я уж и дверей не запираю. Ни к чему.
Он потряс деньгами, зажатыми в кулаке, и сунул их в карман.
Я спросил его:
– Ты никогда не терял надежды разбогатеть?
– Кто ж на это не надеется?
– А сейчас?
Он махнул рукой, загадочно улыбнулся и ушел.
Вот вам готовая притча о человеке, который всю жизнь провел в нищете, мечтая о богатстве и страдая больше от своей мечты, чем от нищеты. Сейчас наступило время, когда он должен отказаться от мечты. Если сможет отказаться. Потому что и раньше у него не было особых оснований верить в чудо. А сейчас, в старости, ему даже нужнее этот самообман.
Очень скоро он вернулся с ягнячьей печенкой, завернутой в чистую бумагу.
– Как проснется, пожаришь. Заранее не жарь, будет жесткая. Сумеешь?
– Что, и здесь нужно умение?
– Да нет.
Первую печенку я выкинул, вторая, которую я купил позже, пригорела, и мне пришлось съесть ее самому, третью съела Тияна, но, кажется, только для того, чтоб меня не расстраивать, а не потому, что ей понравилась моя стряпня.
Через несколько дней она поднялась и потихоньку занялась домашними делами.
О моих хозяйственных промашках осталось лишь забавное воспоминание, и Тияна вовсю потешалась над моей неумелостью.
– А ты что, хотела бы, чтоб твой муж в женских делах разбирался?
– Боже упаси!
– Чего ж тогда смеешься?
Но я сразу прикусил язык, сообразив, что она вправе спросить: а в чем ты разбираешься? Я с благодарностью отметил ее великодушие, ведь такой вопрос напрашивался сам собой, а ей и в голову не пришло его задать. Скажи она правду, мне было бы больно.
В самом деле, в чем я разбираюсь? Похоже, ни в чем. Я настолько нерасторопен, что даже службу не могу себе найти. А это равносильно тому, как если бы я ничего не знал и не умел. Но, черт возьми, это же не моя вина, и разве справедливо меня в этом упрекать?
Вот и такие пустяки способны вывести меня из равновесия.
Укор огорчил бы меня, но то, что никто ни в чем меня не винит, тоже плохо: мне было бы легче, если бы пришлось доказывать свою невиновность. Иначе все оседает во мне – и воображаемый упрек, и воображаемое оправдание, все внутри, точно камни, летящие в пропасть. В споре я нашел бы какие-то оправдания, а так тяжкие сомнения остаются в душе. То ли что-то со мной неладно, то ли с миром, или и я, и мир в порядке и просто мы не можем найти путей друг к другу? Как их находят, эти пути? Или люди врут и только изображают, что разлада нет, или им безразлично и они просто сохраняют видимость связи друг с другом? Возможна ли между человеком и миром иная связь, кроме предопределенной? У меня нет свободы выбора. По сути, я ничего не выбираю: ни факта своего рождения, ни семьи, ни имени, ни города, ни края, ни народа – все это мне дается. Еще удивительнее, что все это неизбежное и предопределенное я люблю. Ведь что-то должно быть моим в этом чужом мире, и я присваиваю себе улицу, город, край, небо, которое я вижу над собой с детства. Из страха пустоты, мира без себя. Я краду их, навязываю им себя; моей улице это безразлично, и небу надо мной безразлично, но я не хочу этого знать, я отдаю им свои чувства, я вдыхаю в них свою любовь, чтоб они мне ответили тем же.
Людям я не могу вдохнуть свою любовь, и они не могут мне ответить любовью. Они смотрят на меня холодно, подозрительно взвешивая ту опасность, которую я для них представляю; и без того замкнутые, они замыкаются еще больше при первом неожиданном слове, при первом непривычном движении или сразу нападают, обороняясь, потому что предпочитают убивать, чем дрожать от страха. В сущности, жестокость людей – от трусости. Нападение – оборона, продиктованная чувством самосохранения и, стало быть, от жестокости так же нет спасения, как нет спасения от извечной неуверенности людей в своей безопасности.
Но что происходит со мной? Я не способен нападать, но не способен и защищаться. Я – барабан, но какой-то немой барабан, по нему бьют, а он и сам молчит, и никого не сзывает.
8. Герой, который боится одиночества
Когда я уставал бессмысленно ждать, что произойдет чудо и стена вокруг меня рухнет, когда надоедало бесцельно бродить по городу и наскучивали разговоры с людьми, в делах которых я ничего не смыслил, или становилось муторно на душе от страха, что и я стану такой же развалиной, как большинство тех, с кем я встречался, я шел в старую библиотеку, насквозь пропахшую бумагой, пылью и чернилами, и часами сидел там с книгами и библиотекарем Сеидом Мехмедом.
Чаще всего мы были одни. Иногда забредал кто-нибудь из старших учеников медресе или редкий любитель чтения, и снова все стихало – древние фолианты на полках молчали, как и прежде, невозмутимые, мудрые, веками сохраняющие свою молодость.
Здесь я – тише воды, ниже травы. Здесь ощущался не только бег времени, но и его присутствие. Вот след чьей-то руки, которая давным-давно записывала эти неровные строчки, спорит со смертью, слова и смысл их продолжают жить, как неиссякаемый родник, как негасимый свет.
Все-таки дела людские не умирают.
К Сеиду Мехмеду я так привык, что мог часами молчать, сидя рядом с ним. А он всегда молчал. Вначале мне было не по себе сидеть вдвоем в пустом помещении библиотеки и не перемолвиться хоть словом и я пытался завести разговор о том о сем, нащупать, найти то, что его волнует. И пришел к выводу, что его ровно ничего не волнует – ни люди, ни бог, ни жизнь, ни смерть, однако знал он очень много и о многом.
Порой, обронив невзначай какую-нибудь мудрую сентенцию, которую можно было услышать только от него, он приводил меня в трепет своим знанием жизни, философии, литературы. Но, увы, речь его отличалась необыкновенной лаконичностью, точно молния блеснет в долгой ночи и погаснет. А большую часть времени Сеид Мехмед пребывал где-то очень далеко, в каком-то своем мире, не имеющем с нашим никакой связи, никаких мостов.
Пока я его не узнал, я хотел как-то расшевелить его, оживить. Потом отступился.
Он сидел неподвижно, уставясь в стену, в пол, в солнечный луч, и, ничего не замечая, плыл по бесшумному течению непостижимых грез; мои слова были бессильны вернуть его в этот мир.
Когда его отсутствующая, но благостно-счастливая улыбка начинала тускнеть, а лицо твердело и заострялось в беспокойстве и страхе, он с трудом поднимался и неверными шагами шел в соседнюю комнату. Был он там недолго – столько, сколько требуется для того, чтобы принять опиум, возвращался оживший и скоро снова уплывал в свои грезы.
Самый образованный человек в городе был самым несчастным. Огромное богатство лежало в нем бесценными, неиспользуемыми пластами, и это было хуже, чем если бы он ничего не знал. Но, возможно, он был и самым счастливым, потому что ему было ничего не нужно, ничто его не трогало и ему было совершенно безразлично, знает он что-нибудь или нет. Хотя, пожалуй, грезы его были бы более красочными, знай он меньше. Или обширные познания придавали им особую тонкость и возвышенность? Но задаюсь этими вопросами я так, между прочим; ответ, даже если бы я отыскал его, не имеет смысла. Вряд ли найдется на свете человек, который приобретал бы знания с целью обогатить свои видения, порожденные опиумом.
Все в нем тайна. Он замурован в себе, точно в могиле. На нем ничего не написано, от него ничего не услышишь.
Однажды, когда я еще не открыл истоков его благостной нирваны, случилось так, что я прочел ему свое стихотворение, почему-то уверенный, что он поймет его. Решился я вдруг, в ту минуту он показался мне на редкость мягким и расположенным к общению со мной.
Я исповедался ему стихотворением о своем смятении после войны:
В страданьях, в рыданьях
сердце вянет
и сохнет снова,
и тень не отстает
меня былого
в рыданьях, в страданьях.
Потерян в исканьях
я был,
есмь и ныне,
я не был,
нет меня ныне,
потерян в исканьях.
В скитаньях и грезах
терзают ночи,
а дни воскрешают,
но день убывает,
и жизнь все короче
в грезах, в мечтаньях.
Он внимательно дослушал стихи до конца, у меня было такое чувство, что он удивлен, причем удивлен неприятно, и я понял, что стихи ему не понравились, да и мне они показались из рук вон плохими. А потом на его худом бледном лице появилась улыбка.
– Так! Поэт, значит! Заблудший и грешный.
– Почему «заблудший и грешный»? Ты так относишься к поэтам?
– Не я, Коран.
– Не помню.
– Сейчас напомню. Как аллах говорит о Мухаммеде? «Мы Посланника стихотворству не учили. Ему стихотворство не пристало». А помнишь суру о поэтах: «Поэты ходят следом, заблудшие и грешные», «Не видишь разве, как поэты бродят по долинам и говорят несуразности», «Цель их – насмехаться и развращать. Придет к ним наказание и уничтожит их и унизит». С каких пор ты бродишь по долинам и говоришь несуразности?
– Как с войны вернулся.
– Ну да, «тень не отстает меня былого», тень войны, конечно. Вот что, приятель, вижу, ты давно в руки Коран не брал. Иначе бы понял, что грех творишь.
Я засмеялся:
– Согласен, грешен. Ну ладно, раз ты меня уже осудил, можешь ты мне объяснить, почему это грех? Кому мешает слово поэта?
– Это не я тебя осудил. Коран говорит: «В защите веры наступайте рядами! Аллах любит тех, кто борется в тесном строю, прочном как стена». А тебя аллах не любит, ты наступаешь сам по себе, разбиваешь строй, подрываешь прочность стены. И не только не защищаешь веру – ты против веры.
– И это еще!
– «Вера – это закон, который вносит порядок в жизнь». Поэзия вне этого закона, она не признает его, требует свободы для слова и для мысли и отвергает совершенство мира, созданного промыслом божиим. Жить мечтами, надеждами, ожиданием – значит не принимать то, что есть. Это бунт.
– Сохрани бог от такого обвинителя! Что же тогда не бунт?
– Чтение молитв.
– А ты читаешь молитвы? Ты защитник веры в строю, прочном как стена?
Он улыбнулся печально или чуть насмешливо и ничего не ответил.
Наступило время молчания, и он ушел в свои грезы. Взгляд его погас, обратившись внутрь, в себя, к чему-то более важному и приятному, чем туманные стихи какого-то Ахмеда Шабо.
Он явно издевался. Только над кем? Надо мной, над собой? Или над всеми? Говорил он как будто в здравом рассудке, но и находясь в своем искусственном забытьи, и выходя из него, он был одинаково далек от нашего мира, от людей, и его нисколько не касалось, как мы там устраиваемся между собой. Он отрекся от всего, кроме круговращения своих призрачных видений, которым никакой людской порядок не в силах помешать.
Я смотрел на него в полном смятении, почти с ужасом, как на мертвого.
Меня-то как раз волновало то, что его совершенно не волновало.
Вдруг я услышал за собой какое-то движение.
Оглянулся: в дверях стоял молодой человек с худым лицом и горящими глазами. Я сразу узнал его: студент Рамиз!
Я долго избегал встречи с ним и вот не избежал.
Уже месяц, как он по вечерам читает проповеди в мечети Али-паши беднякам с Черного Верха, Беркуши, Белав и Кошева и говорит им то, что умный человек вслух никогда не скажет. Один раз я тоже пошел в эту мечеть, потому что услышал, как люди шепотом пересказывают его слова, едва отыскал место у дверей и выскочил, не дождавшись конца. Испугался!
Я помню, что он говорил темной ночью в хотинских лесах; на свою беду, я повторил его слова и понял: он может говорить что угодно, только не это и не так.
Никогда и ни от кого я не слышал столь резких слов, не встречал такого презрения к властям предержащим, такого безрассудного вольномыслия, как в тот вечер, слушая пламенного аль-азхарского студента, который или не знал, что такое страх, или не знал, что такое власть. Он говорил – меня и сейчас пробирает озноб,– что в мире существуют три великие страсти: алкоголь, игра и власть. От двух первых люди еще как-то могут излечиться, от третьей – никогда. Власть – самый страшный порок. Из-за нее убивают, из-за нее погибают, из-за нее теряют человеческий облик. Она неодолима, как заколдованный камень, ибо прикосновение к ней увеличивает мощь. Она – дух из Лампы Аладдина, который служит любому болвану, держащему лампу в руках. Сами по себе люди власти ничего собой не представляют, вместе – они вершат судьбами мира. Честной и мудрой власти не бывает, ибо жажда могущества неутолима. Человека, находящегося у власти, вдохновляют трусы, не знающие устали льстецы, поддерживают пройдохи, поэтому его мнение о себе всегда выше действительной его цены. Людей он считает глупцами, ибо те таят от него свои подлинные мысли, а себе присваивает право все знать, и люди не возражают. У кормила власти не бывает умных, потому что даже умный быстро теряет разум, и не бывает терпимых, потому что больше всего власти не любят перемен. Они немедленно вводят вечные законы, вечные установления, вечный порядок и, ведя свою власть от бога, укрепляют свое могущество. Они были бы несломимы, если бы время от времени не вставали поперек горла другим сильным мира сего. Скидывают их всегда одним и тем же манером, действуя от лица угнетенного народа – а угнетают-то все одинаково! – и предъявляя обвинение в измене, хотя никто из них и в мыслях не держит такого. И никого еще это не образумило, все рвутся к власти, как ночные мотыльки на пламя свечи. Уж кажется, все боснийские валии в тюрьмах, изгнаны или перебиты вместе со своими свитами, но приходят новые, и приводят за собой новую свиту, и повторяют глупости своих предшественников, потому что иначе не могут. Так и идет по кругу, безостановочно. Без хлеба народ может остаться, без власти – нет. Она как болезнь, как нарост на теле народа. Один отвалится – вырастает другой, да еще похуже прежнего. Без нас вы не проживете, говорят нам, разбойников разведется тьма, враги нападут, страны не станет. А на ком страна держится, кто кормит ее, кто защищает? Народ. Они же нас грабят, карают, сажают в тюрьмы, убивают. Да еще заставляют делать это руками наших же сыновей! Они без нас не могут, мы без них можем. Их мало, нас много. Стоит нам пальцем двинуть, всем, сколько нас есть, и эта нечисть сгинет. И мы сделаем это, братья мои угнетенные, как только вырастут настоящие люди, которые не допустят, чтоб на их спинах сидели кровососы.
Тут я и выскочил из мечети, в смятении наступая на ноги разинувшим рты горожанам в драных портах, которые затаив дыхание слушали эти пламенные речи бунта.
Откуда в нем такая смелость?
Домой я шел, шатаясь как пьяный, едва веря своим ушам. Как решился он говорить такое и как люди решились его слушать?
В изумлении и растерянности я рассказал все Тияне. «Вот смельчак!» – сказала она восхищенно, однако попросила больше не ходить в мечеть. Может, испугалась, что мне станет омерзительным собственное молчание?
И вот человек, о котором я много думал наяву и который не раз виделся мне во сне, стоял передо мной с книгой в руках и внимательно на меня смотрел.
– Мы знакомы? Встречались где-нибудь?
– Слушал тебя один раз в мечети.
– А раньше?
– Как будто нет.
Испугавшись сам не знаю чего, я отрекся от первой случайной хотинской встречи.
– Стихи пишешь? – спросил он, переменив тему разговора.– Для кого? И зачем?
– Для себя. Так просто.
– Как соловей?
– А надо по-другому?
– Ты ведь человек.
Обычные отговорки в разговоре с ним не годились, все его помыслы устремлены к бунту, и все должно служить ему. Я прекрасно помнил его проповедь и охотнее всего завел бы разговор о ней. Его самозабвение и отчаянная смелость произвели на меня более сильное впечатление, чем сами слова. Мне хотелось спросить его: можно ли добиться свободы насилием? Разве против зла надо сражаться тоже оружием зла? И кто искоренит это другое зло? И как его забыть?
Но на это он ответит мне лишь неприязнью и презрением.
Лучше держаться поэзии. Однако что же ему сказать?
И тут я один, и тут ощущаю свою вину, и тут нарушаю тесный строй, прочный как стена.
Идя навстречу ему и одновременно отмежевываясь от него, я начал говорить о том, что люди чувствуют себя связанными по рукам и ногам, даже не будучи бунтовщиками. Позволено лишь думать. Но у человека не меньшая потребность высказаться, и, пожалуй, более сильная, чем потребность думать. Выговариваясь, ты освобождаешься от внутреннего напряжения. Слова поглощают избыток крови, облегчают страдания, дают видимость свободы. Властям бы надо развивать и поощрять разговоры, а не подавлять их, устраивать праздники речей и еще лучше – сквернословия, подобно тому как собирают людей на хоровое пение, молитвы, омовения. У некоторых племен Африки так и поступают, в этом смысле они гораздо разумнее нас, да и не только в этом. За ругань надо бы давать награды и ордена. И за поэзию, потому что это то же самое. И заставлять людей как можно больше принимать в этом участие и слушать. Потом им было бы легче тащить свое неизбежное ярмо.
– Так ли уж оно неизбежно?
Мне хотелось развить эту забавную картину, посмеяться над собственной выдумкой, представив, что могло бы выйти из этого дивного праздника сквернословия, ора, брани, сопровождаемых игрой на гуслях, домрах, барабанах,– люди ходят, сидят, взывают к небу, от проклятий сотрясается земля, однако Рамиз прервал сладостный поток моей непомерной фантазии, к которой я прибег оттого, что не мог согласиться с ним, а что-то надо было говорить.
– Так ли уж оно неизбежно?
– Боюсь, что да.
– Нет, ошибаешься. Люди сбросят навязанное им ярмо, а не станут облегчать его самообманом. И чем тяжелее ярмо и меньше слов утешения, тем ближе этот день.
– Кто это сделает?
– Народ.
– Народ – это пустой звук, колосс на глиняных ногах. У него нет ничего общего, его ничто не объединяет, кроме непосредственной выгоды и страха. Полная разобщенность – кто в лес, кто по дрова. В случае опасности одно село не поможет другому. Каждый надеется: авось его минует.
Он качал головой, не соглашаясь со мной.
– Народ – колосс на глиняных ногах только тогда, когда у него нет общей цели, когда он не видит постоянной и долговечной для себя выгоды. Если он осознает ее, уверует в нее, он сможет все. Но прежде надо прогнать нынешних правителей.
– Допустим, это возможно. Но ведь чтобы добиться победы, кто-то должен возглавить народ, освободить его от страха, приучить к мысли о необходимости жертв.
– А разве это невозможно?
– Значит, предводители, у которых были бы заслуги, пользовались бы особым почетом. И что получилось бы? Вожди начали бы пользоваться своими заслугами, забирали бы все большую силу, и почет обернулся бы могуществом. И стало быть, вместо старой власти мы получили бы новую, может и похуже старой. Такова история власти с незапамятных времен. Так все и идет: от чистого одушевления к насилию, от благородства к тирании – всегда и во всем.
Он засмеялся, как мне показалось, с некоторой укоризной.
С моими малодушными пророчествами он не согласен, он верит в способность народа устроить свою жизнь так, как народ считает для себя лучшим, и разорвать заколдованный круг, по законам которого герои превращаются в тиранов. Без героев не обойтись. Они тот камень, который увлекает за собой лавину. Только нельзя позволять им пятнать свою славу. Древние римляне отправляли своих героев в изгнание и тем обеспечивали им бессмертие. Если это слишком жестоко, можно было бы возвращать наших героев к тем занятиям, с которых они начинали.
Отверг он и мою мысль о том, что слово должно быть утешением и разрядкой, считая ее полной капитуляцией. Слово призвано будоражить людей, звать их на борьбу со злом, пока оно есть в мире. Иначе оно ложь, опиум, и люди, как несчастный Сеид Мехмед, будут баюкать себя розовыми снами, и пропади, мол, все пропадом.
Откуда в нем такая уверенность, о которую разбиваются все возражения? Сколько людей надеялись и ничего не дождались! Но приходят новые и снова верят. Надежда в человеке сильнее опыта поколений, ее не может поколебать неудача других.
Или он готов ко всему, что его ожидает, даже и к смерти? Но разве можно быть готовым к смерти? Или в своем одушевлении он рассматривает ее как непременную часть своего дела, или вовсе не думает о ней? Он способен и на это, он может делать с собой все.
Думает ли он о чем-нибудь другом? Есть ли у него семья, о которой он временами тоскует, друзья, с которыми он говорит про обыденные вещи, девушка, которой он нашептывает слова любви? Или это постоянно пылающий костер, который горит и прогорает, забывая о другом тепле, более доступном?
Я спросил его об этом, чтоб кончить разговор о предмете, в котором я при всем своем к нему уважении не разбираюсь.
Он взял меня под руку и повел в соседнюю пустую комнату. В мечети он не боялся громко говорить о том, о чем другие и думать не решаются, о себе же он мог говорить лишь шепотом, с глазу на глаз, опасаясь, что заснувший Сеид Мехмед вдруг проснется и услышит.
Товарищи у него есть, сказал он тихо, и не один, он с радостью с ними встречается и с горечью расстается, никого и никогда не забывает, с ними он сильнее. И мы с ним могли бы быть друзьями, но ему хотелось бы видеть меня немного иным, я должен стать человеком, я и сейчас человек, только мне не хватает мужества проявить это. Он может полюбить меня и такого, доброго и беспомощного, только вот уважать не сможет. А это полудружба.
Есть у него и любимая девушка, тяжко ему быть с ней в разлуке, любовь их превратилась в вечное ожидание. Но иначе он был бы не он. Брось он все и вернись в свой город учительствовать, сажать розы в палисаднике или картошку в огороде, он не способен был бы и любить по-настоящему и, пожалуй, еще ее винил бы за то, что отрекся от своей мечты. Он все ей сказал и предоставил самой выбирать. Она решила ждать. Тяжкий удел, но прекрасный.
По вечерам, вернувшись из мечети в свою убогую каморку, он закрывает глаза, вызывает ее образ и рассказывает ей, о чем он говорил людям и как жадно они его слушали. (И хотя меня тронуло его юношеское простодушие, в голову мне пришла гадкая мысль, что, быть может, эта далекая девушка, устав ждать, с каким-нибудь более близким и простым парнем шепчется в этот же вечер о более простых и близких ей вещах, чем безнадежная борьба за счастье бедняков.)
Есть у него и родные – мать, вдова, замужняя сестра и брат-кузнец, брат живет с матерью. Отец погиб на дубицкой войне, а он в Аль-Азхаре давал уроки глупым сынкам богачей и жил на это. Хлебнул он тогда горя немало, натерпелся унижений, насмотрелся на измывательства богатеев и муки бедняков, увидел, как плохо устроен мир.
Конечно, понимал он это и раньше – не так уж много ума для этого нужно, но свое предназначение осознал внезапно, словно молния его озарила. До конца открыл ему глаза один дервиш Хамзевийского ордена. Ни правители не нужны, говорил он, ни властелины, ни государство – все это насилие. Нужны люди, которые обо всем договорились бы между собой, простые люди, которые занимались бы каждый своим делом, не стремясь властвовать над другими и не позволяя другим властвовать над собой, и нужна божья милость им в помощь. Дервиша убили, но его слова живут в нем. Все, кроме слов о божьей милости: в ней люди не нуждаются, они и сами со всем справятся.
Жизнью своей он доволен, потому что иначе жить не может. Бывает нелегко, однако к трудностям он привык, брань его не задевает, тюрьма – обычное лишение, побои неприятны, но он молод, выдержит. Тяжелее, когда он вспоминает о матери, брате, любимой, о тепле домашнего очага, о будничных разговорах, которых не ведет годами. Он гонит от себя эти мысли как недопустимую слабость.
Ему хотелось бы и здесь обзавестись другом. Не сторонником и последователем – они у него есть, а настоящим другом, с которым и говоришь иначе, и молчишь иначе, чем с прочими людьми, как бы дороги они тебе ни были. Но дружба не создается, она приходит сама, как и любовь. Он будет рад, если мы станем друзьями.
Я протянул ему руку, меня взволновал его страх одиночества, потребность сблизиться с другим человеком. Своим мыслям он не изменит, но и с ними иной раз бывает пусто и холодно. Не так уж много даст ему моя дружба, однако она могла бы послужить ему внутренней опорой.
Мы вышли на улицу.
Я пригласил его к себе. Мы с женой люди простые, сказал я, и в меру наших сил постараемся, чтоб ему было приятно. Я умолчал, что решил позвать его как-нибудь пообедать, это ему необходимо, похоже, он не часто ест.
Постепенно за разговором я совсем забыл про настороженность, с которой его встретил.
Удивительный юноша! Из него выйдет прекрасный человек, если он не добьется своего, ужасный – если добьется. Он будет гордиться чистотой своих помыслов и тогда, когда они давно уже будут запятнаны. Сейчас он против насилия – во имя свободы он прибегнет к нему. Сейчас он за свободу – во имя власти он задушит ее. Он будет яростно бороться за свои убеждения, считая их верхом благородства, не чувствуя, что они уже стали бесчеловечными. Он станет злейшим врагом для себя самого, каким он был прежде, но тем не менее как дорогую реликвию будет хранить потускневший образ своего былого одушевления. А если его постигнет неудача, как и многих других до него, если теперешние его приверженцы станут ему поперек дороги, страдание возвысит его в глазах людей еще больше, чем победа. В памяти сохранятся волнующие воспоминания о великой жертве и невоплотившейся мечте. И как ни странно, это лучшее, что может сделать человек: пойти на приступ и не одолеть.
Ведь тогда остается мечта и вера, что желанный рай когда-нибудь наступит, а с такой мечтой легче жить. Если люди разочаровываются в пророках, их мечты тускнеют. Пророки должны умирать раньше осуществления своих пророчеств. Хватит того, что они еще раз воспламенили старую надежду. Зачем же гасить ее разочарованием? Видно, надо пройти векам, чтоб в душах людей накопилось побольше этой незапятнанной красоты, и тогда, очистившись, они осуществят свою извечную мечту.
Отрезвил меня хлынувший дождь, он выбил из моей головы путаные мысли, которыми я оборонялся от чужого одушевления.
Я побежал домой, решив не пережидать дождя. Но тут же пожалел, так как вдруг увидел под стрехой сердара Авдагу. Я собрался было вернуться, ни к чему мне встречаться с ним, и плевать мне, если он подумает, что я его избегаю.
Я остановился, потом пошел дальше, глядя на него, как кролик на удава.
Он встретил меня ласково:
– Зачастил ты в библиотеку.
– Мерхаба, Авдага!
– Каждый день тебя там вижу.
– Времени свободного много. Да и у тебя, видно, тоже.
– Я не знал, что ты дружишь с Рамизом.
– Сегодня первый раз встретились,– солгал я.
– Первый раз? О чем говорили?
Я рассказал ему о семье Рамиза, о его девушке, о его желании иметь настоящих друзей – словом, о том, что в глазах Авдаги несусветная чушь.
– И больше ни о чем?
– А о чем мы еще должны разговаривать?
– О чем он в мечети говорит, не поминал?
– Я не знаю, о чем он говорит в мечети. А что?
– Да так.
Струйки дождя стекают по его носу. По моему, конечно, тоже. На душе полегчало, страх прошел, уж слишком вид у него потешный.
– Авдага, какая нелегкая заставляет тебя мокнуть под дождем? От брата тебе перешло большое наследство, я думал, ты бросишь службу. Неужто тебе нравится твое занятие?
– Нравится.
– А не тяжело?
– Я сильный.
– И не противно?
– Противно? Почему противно?
– Ну ладно, скажем, странно. Не все ли тебе равно, что люди делают?
– Не все равно. Мошенников много.
– Что ж, мошенников больше, чем порядочных людей?
Он смотрел на меня, не понимая, как можно об этом спрашивать. Удивление его было так велико, что я без слов читал его мысли. Конечно, мошенников больше, и, кабы не он, они завладели бы всем миром. Он обязан знать, что люди делают, что говорят, о чем думают, с кем встречаются, а по нему, всего лучше, если бы они не говорили, не думали, не встречались, если бы все это было запрещено. Чего людям не сидится на одном месте, зачем они шастают из города в город, торчат в кофейнях, зачем разговаривают, шепчутся, зачем выходят из дому? Будь его власть, он бы все это упразднил, но, поскольку такой власти у него нет, ему остается всегда быть начеку, держать под подозрением все живое. Нет в мире человека, более отягощенного заботами и обязанностями; Авдагу мучат угрызения совести из-за того, что он не в состоянии все предвидеть и все предотвратить. Он разом бы покончил со всем злом, если бы мог всех людей упрятать за решетку. К сожалению, его не понимают.
Но какой смысл объяснять это мне? И поэтому он сказал:
– Снова увидишь Рамиза, запомни, что он будет говорить.
– Я его не увижу.
– Говорю, если увидишь. Он наверняка разыщет тебя. Вы два сапога пара, только в тебе страх сидит.
– Раз ты знаешь, что он говорит и кого он станет искать, зачем тебе нужен я? Джемал Зафрания приказал?
– Кто приказал, не твоего ума дело.
– Скажи, пожалуйста, Авдага, а если бы тебе приказали меня арестовать, ты арестовал бы меня, зная, что я ни в чем не виновен?
– Невиновных не бывает.
– И приказали бы убить, ты бы тоже не ослушался… Почему, Авдага?
– А почему я должен ослушаться?
– Аллахеманет, Авдага!
– Я спрашивал тебя о Рамизе. Почему ты не ответил?
– И я тебя спрашиваю, почему? Ты меня спрашиваешь, почему? Так и разговариваем, друг другу на удивленье. Аллахеманет, Авдага. Да поможет аллах и мне, и тебе!
– Богом клянусь, тебе помощь больше понадобится,– сказал он задумчиво.
Промокли мы до костей, пока вели этот смешной разговор.








