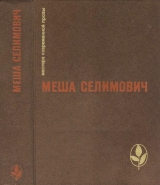
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Меша Селимович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 49 страниц)
– Не казни молчанием. Плюнь в лицо или прости. Мне нелегко.
– Не могу ни того, ни другого.
– Зачем ты говорил о дружбе? Ты все знал уже тогда.
– Я думал, что ты поступил так случайно или из страха.
– Не отпускай меня так.
Он не просил униженно, но требовал. Это напоминало мужество отчаяния. А потом он умолк, обескураженный моей холодностью, и направился к двери. Остановился и повернулся ко мне.
– Я хочу, чтоб ты знал, как ты измучил меня, толкуя о дружбе. Я знал, что это не может быть правдой, и хотел, чтоб это стало ею. Я хотел, чтоб случилось чудо. Но чуда нет. Теперь мне легче.
Голос его звучал теперь звонко.
– Уходи, Юсуф.
– Могу я поцеловать тебе руку?
– Прошу тебя, уходи. Я хочу остаться один.
– Хорошо, я ухожу.
Я подошел к окну и смотрел на заходящее солнце, не зная, на что гляжу, я не слыхал, как он вышел, как затворилась дверь. Снова он был тихим и приниженным и, казалось, довольным, что все завершилось именно так. Я выпустил крысу из мышеловки, не ощущая ни великодушия, ни презрения.
Взгляд мой блуждал по горам, окружавшим город, по окнам домов, в которых отражалось заходящее солнце.
Вот так. Что теперь? Ничего. Сумерки, ночь, рассвет, день, сумерки, ночь. Ничего.
Я понимал, что не очень это интересные мысли, но мне было безразлично. С какой-то смутной усмешкой, словно со стороны, наблюдал я за собой: вышло бы лучше, если б поиски продолжались, продолжались непрестанно, передо мной была бы цель.
И тут в комнату вбежал хафиз Мухаммед, точнее, ворвался, взволнованный и перепуганный. Почти вне себя. У меня мелькнула мысль, что сейчас у него начнется приступ кашля, как бывало всегда, когда он волновался, и мне придется самому решать тайну его тревоги. К счастью, он отложил это на другое время и, заикаясь, сообщил, что молла Юсуф повесился в своей комнате и что Мустафа вынул его из петли.
Мы спустились.
Молла Юсуф лежал на постели, лицо его было иссиня-багровым, глаза закрыты, дыхание почти оборвалось.
Мустафа стоял перед ним на коленях и, разжимая стиснутые губы ложкой и толстыми пальцами левой руки, поил его водой. Головой он сделал нам знак уйти. Послушавшись его, мы вышли в сад.
– Несчастный юноша,– вздыхал хафиз Мухаммед.
– Он остался жив.
– Слава всевышнему, слава всевышнему. Но почему он это сделал? Из-за любви?
– Нет, не из-за любви.
– Он только что вышел от тебя. О чем вы говорили?
– Он предал моего брата, Харуна. Он дружил с ним и предал его. Он признался.
– Почему он предал твоего брата?
– Он был осведомителем у кадия.
– О господи боже!
Благородный старик, источник благородства которого заключался в отсутствии жизненного опыта, вероятно, легче перенес бы мою пощечину, чем ту подлость, которой я обогатил его знание жизни.
Он бессильно опустился на скамью и тихо заплакал.
Возможно, это лучше всего. Возможно, это самое разумное из всего, что можно сделать.
11Широкая земля стала тесна им, сердца их преисполнились одиночеством и ощутили печаль.
Моя тревога возросла, простираясь в прошлое: я думал о том, как давно я окружен, как давно чужие глаза подстерегают каждый мой шаг, выжидая, когда один из них окажется неверным. А я ничего не подозревал, я ходил как во сне, убежденный в том, что все мое касается только меня и моей совести. Мой духовный сын наблюдал за мною, по чужому приказу, а я, подобно глупцу, был убежден, будто обладаю свободой. Годами, оказывается, я пленник бог знает чьих и бог знает скольких глаз. Я чувствовал себя униженным, отстраненным, утратившим даже тот простор, который до несчастья считал своим. Меня лишили его, не стоило больше возвращаться к этому даже в воспоминаниях. Беда пришла много раньше, чем я осознал ее. Какие только люди не спускали с меня глаз, не подслушивали моих разговоров, сколько платных или добровольных соглядатаев следило за мной, помнило о моих поступках, призывая меня в свидетели против самого себя. Количество их стало устрашающим. Я шел по жизни без страха и подозрения, как слепец по краю пропасти, теперь же ровная дорога казалась мне пропастью.
Городок словно превратился в одно огромное ухо, в один глаз, которые улавливали любой мой вздох и шаг. Исчезла моя простота и уверенность в отношениях с людьми. Если я улыбался, то это считали лестью; если я разговаривал о пустяках, меня обвиняли в скрытности; если говорил о боге и его справедливости, меня считали глупцом.
Я не знал, что делать со своим «другом» моллой Юсуфом. С горечью произносил я это слово «друг», но, думаю, было бы куда хуже, если б мы в самом деле оказались друзьями. А так я ничего не терял. Знаю, я польстил бы себе, если б мог посетовать: смотрите-ка, как поступил со мной друг. Но я не хотел этого. Если я обвинил бы только одного этого человека, то все свелось бы к взаимным расчетам между ним и мною, поскольку, оскорбленный предательством друга, я позабыл бы об остальных. Теперь же, не выделяя его из толпы, я увеличивал значение и его вины, и своей потери. Я поступал так бессознательно, со смутным желанием сделать более всеобъемлющими и мою боль, и мою удовлетворенность. Я говорю – боль, но не ощущаю ее. Я говорю – удовлетворенность, но не испытываю ее. Люди стали моими должниками, но я ничего от них не требую.
Молла Юсуф встречал меня со страхом в потемневших глазах, я же устало улыбался, обуглившись изнутри. Изредка, но лишь изредка, мне казалось, что я удушил бы его во сне или когда он сидит, погруженный в задумчивость. Иногда я хотел удалить его от себя, отослать в другую текию, в другой город. Но не предпринимал ничего.
Хасан и хафиз Мухаммед были тронуты моим великодушием и прощением, а мне, к моему удивлению, доставляло удовольствие их признание того, что не было правдой. Ибо я не забыл и не простил.
Это вернуло мне Хасана, я вновь ощущал трудно объяснимое удовольствие от его дружбы, она была внутренним озарением без причины, почти без смысла, но я принимал ее как дар и хотел, чтоб она длилась вечно, непрерывно.
– Ты поступил разумно, оставив его в покое,– говорил Хасан, имея в виду не столько мою доброту, сколько пользу для меня: в похвале Хасана порой звучало предостережение.– Если ты прогонишь его, на его место придет другой. Этот менее опасен, раз ты знаешь, что он собой представляет.
– Мне больше никто не опасен. Я оставлю его в покое, пусть живет как знает. У меня нет сил ненавидеть. Я даже жалею его.
– Я тоже. Непонятно, как может человек жить, думая только о своей беде, думать о своей и готовить чужую. Он точно знает, что его ждет в аду.
– Почему ты ничего не сказал мне, зная обо всем?
– Я ничему не смог бы помешать. Все уже произошло. Я предоставил тебе самому искать, чтоб свыкнуться с этой мыслью. Бог знает, что бы ты мог выкинуть, внезапно узнав.
– Я готов был пойти на многое, узнав виновника. Но я бессилен что-либо предпринять.
– Ты много делаешь,– серьезно возразил он.
– Я не делаю ничего. Я позволяю времени уходить, я потерял опору, я лишен радости от того, что я делаю.
– Нельзя так. Займись чем-нибудь, не поддавайся.
– Как?
– Уезжай куда-нибудь. Куда хочешь. Домой, в Йоховац. Перемени обстановку, людей, небо. Сейчас сенокос. Засучи рукава, возьми косу, взмокни от пота, выложись до конца.
– Печаль теперь царит в моем доме.
– Тогда поедем со мной. Я собираюсь в дорогу, к Саве. Будем ночевать в блошиных ханах или под сенью буков, объедем пол-Боснии, если хочешь, заглянем в Австрию.
– Ты уверен, что путешествие всем столь же приятно, как тебе? И что оно целительно? – засмеялся я.
Я коснулся его больного места, и струна зазвенела.
– Время от времени каждого человека стоит насильно отправлять путешествовать,– вспыхнул Хасан.– Более того, нельзя оставаться на одном месте дольше, чем нужно. Человек не дерево, и привязанность к одному месту – его беда, она лишает его мужества, уверенности в себе. Осев на одном месте, человек примиряется со всем, даже с самым скверным, и пугает сам себя грядущей неизвестностью. Перемена места кажется ему уходом, потерей чего-то, кто-то другой займет его место, а ему придется начинать заново. Окапывание {5} – истинное начало старения, ибо человек молод до тех пор, пока не боится начинать заново. Оставаясь на месте, он или мучается, или мучает других. Уезжая, он сохраняет свою свободу, поскольку готов переменить обстановку, навязанный ему образ жизни. Куда и как уехать? Не улыбайся, я знаю, что нам некуда деться. Но иногда мы можем создать видимость свободы. Мы, дескать, уходим, дескать, меняемся. И вновь возвращаемся, смирившиеся, найдя обманчивое утешение.
Я всегда с трудом улавливал момент, когда в его словах начинала звучать насмешка. То ли он опасался утверждать что-либо, то ли попросту не верил ни в одно из своих утверждений?
– Поэтому ты все время ездишь? Чтоб сохранить видимость свободы? Означает ли это, что свобода вовсе не существует?
– И да и нет. Я двигаюсь по кругу, уезжаю и возвращаюсь. Свободный и связанный.
– Стоит ли тогда мне ехать? Ведь, судя по всему, безразлично, уезжать или оставаться на месте. Если я связан, значит, я не свободен. А если возвращение является целью, к чему тогда уезжать?
– Вся суть и заключается в возвращении. Тосковать в одной точке земного шара, покидать ее и снова в нее возвращаться. Без точки, с которой ты связан пуповиной, нельзя полюбить иной мир,– иначе тебе неоткуда будет уезжать, иначе ты окажешься нигде. А быть нигде нельзя, раз ты владеешь только одной этой точкой. Плохо, если ты не думаешь о ней, не тоскуешь, не любишь ее. Нужно думать, тосковать, любить. Итак, готовься в дорогу. Покидай текию, хафиза Мухаммеда, освобождайся от них, пусть и они освободятся от тебя, готовься к тому, чтоб на белом коне, с покрытой ранами задницей встать у ворот другого царства.
– Не очень соблазнительно.
– Раны есть раны, дервиш.
– Место уж больно неудобное.
– Как любое другое. Нельзя ехать верхом, сидя на голове, кое-кому это покажется странным. Это будет походить на бунт. Значит, договорились?
– Да. Я никуда не еду.
– Вот беда! Ты напоминаешь мне капризную девицу, с которой никогда не знаешь, как поступить. Ну, бородатая капризуля, видно, ты твердо надумал оставаться в нерешительности. Но если передумаешь, если тебе надоест бороться со своим черным демоном – одной-единственной мыслью, разыщи меня, ты знаешь, где меня можно найти.
Мне не хотелось никуда уезжать. Довольно давно я было собрался уйти, побродить по неведомым тропам. Но то была пустая мечта, бессильное стремление к освобождению, жажда невозможного. С тех пор она больше не появлялась. Город удерживал меня силой поразившего несчастья. Оно, как копьем, пригвоздило меня. У меня осталось мало мыслей, мало движений, мало дорог. Я сидел в саду на солнышке или у себя в комнате, склонившись над книгой, гулял над рекой, понимая, что делаю это по привычке, машинально, без удовольствия. Но все чаще и чаще я ловил себя на том, что мне приятно сидеть на солнцепеке с книгой в руке, над бегущей водой. Это стало будничным, доставляло удовольствие и приносило покой. Мне казалось, будто я по-настоящему забываюсь, душа исцелялась тишиной. А потом вдруг внезапно, без видимых причин, без уловимых ассоциаций меня пронзала молния, подобно приступу мучительной, потаенной болезни, подобно судороге. Что это? – спрашивал я себя, делая вид, будто удивлен, боясь признаться самому себе в этом ненужном мятеже и отвлекая себя мелочами, что находились под рукой или не касались сути.
Я чего-то ожидал.
То были смутные и переменчивые настроения, какие бывают у человека, который не здоров, но и не болен и которого внезапные признаки болезни поражают сильнее, чем если бы она длилась годами.
Из этого мучительного состояния меня вывела ненависть. Она прижилась и ожила, вспыхнув в один прекрасный день, в один миг ярким пламенем. Она разгорелась, говорю я, ибо до тех пор мерцала притаившись, она лизнула меня, изнемогая от собственной мощи, обжигая жаром сердце. Она жила во мне наверняка очень давно, я носил ее, как искру, как змею, как нарыв, который вдруг прорвался, а я сам не знал, где она таилась до той поры, почему молчала и пряталась, почему внезапно вырвалась в тот момент, который ничем не был благоприятнее всех других, ушедших. Она вызревала в тиши, как любое чувство, и появилась на свет сильной и могучей, долго питаемой ожиданием.
И, диво дивное, приятно было сознавать, как неожиданно она явилась, а я ведь чувствовал ее в себе все время, притворяясь, будто теперь не узнаю ее. Я боялся ее мощи, а теперь благодаря ей я стал сильнее, выставив ее впереди себя, как щит, как оружие, как факел, опьяненный ею, как любовью. Я полагал, будто знаю, что такое ненависть, но все, что до сих пор я считал ненавистью, оказалось лишь жалким ее подобием. Нахлынувшее на меня чувство жило во мне, как мрачная, устрашающая сила.
Медленно, не торопясь, расскажу я, как это произошло. Произошло в самом деле словно землетрясение.
12Не считайте мертвыми тех, кто погиб на стезе Всевышнего.
Мы шли к золотых дел мастеру хаджи Синануддину Юсуфу, я и Хасан, он повсюду водил меня с собой, тогда я уже знал, что мы друзья и что мне приятно быть возле него. Я не испытывал больше потребности в покровительстве, но испытывал потребность в человеческой близости, без какого бы то ни было иного умысла.
В квартале ювелиров нам попался Али-ходжа, в старой потрепанной одежде, в стоптанных туфлях, в некрасивом чулахе на голове. Я не любил встречаться с ним, мне он был неприятен со своим напускным безумием: посмотрите-ка на меня, что думаю, то и говорю. Получалось это у него как-то грубо.
– Ты согласен на разговор, который не принесет тебе пользы? – не глядя на меня, спросил Али-ходжа Хасана.
– Согласен. О чем будем говорить?
– Ни о чем.
– Значит, о людях.
– Все ты знаешь. Потому что ничто тебя не касается. Сегодня утром я сватался к твоей сестре.
– У кого ты просил мою сестру?
– У ее отца, у кадия.
– Кадий ей не отец.
– Тогда тетка.
– Ладно, а что ты сказал этой тетке?
– Я сказал: отдай мне ее в жены, жалко, понапрасну гибнет ее юность и красота. Она и так засиделась возле тебя. Я и приданое возьму, наверняка ведь все чужое, по крайней мере на тысячу лет приму на себя твой адский огонь, тебе полегче станет. Брось, сказал он, шагай своей дорогой. Я шагаю своей дорогой, ответил я, а вот почему ты не позволяешь ей идти своей? Неужели ты так ненавидишь ее? Я думал, что хоть к ней, одной-единственной во всем мире, ты не питаешь злобы. А ты, куда ты идешь?
– К хаджи Синануддину Юсуфу, ювелиру.
– Ступай. Я с тобой не пойду. Я не знаю, каков он.
– Не знаешь, каков хаджи Синануддин?
– Не знаю. Он занят только арестантами, каждую пятницу носит им еду, из-за них он и разорится, все спустит на них.
– Разве это плохо?
– А что бы он делал, если б не было узников? Стал бы несчастным. Помогать арестантам – его страсть, как у иного охота или выпивка. А может ли быть страстью человеческое несчастье? Наверное, может, я не думал об этом.
– Разве это плохая привычка – делать доброе дело?
– Разве доброе дело может стать привычкой? Оно рождается, подобно любви. И когда свершаешь доброе дело, нужно таить его в себе, чтоб оно осталось навеки. Как делаешь ты.
– Что я делаю?
– Носишь хаджи Синануддину подарки для узников, но скрываешь это. Так вышло у тебя, и стыдно тебе обнаружить любовь. Поэтому ты идешь один.
– Я не один. Разве ты не узнаешь шейха Нуруддина?
– Как мне не узнать шейха Нуруддина? Где он?
– Здесь, со мною.
– С тобой? Не вижу. Почему он не скажет ни слова, чтоб хоть услышать его голос?
– Ты не желаешь видеть меня, не знаю отчего. Ты сердишься?
– Вот видишь, нету его,– сказал Али-ходжа, делая вид, будто разыскивает меня.– Ни голоса его, ни образа. Нету шейха Нуруддина.
И он ушел, не прощаясь.
Хасан смущенно улыбнулся.
– Грубый он.
– Грубый и злой.
– Странный человек.
– Почему он не желал меня видеть?
– Он разумно говорил. Ему удобно притворяться безумцем, чтоб спасти себя.
Нет, это не было безумием. Он что-то хотел сказать, на что-то намекал. Нету шейха Нуруддина, сказал он. Может быть, потому, что я больше не тот, каким был? Может быть, оттого, что я не вернул удара? Не сделал того, что следовало сделать? И вот я не существую.
– Что ты думаешь о нем? – спросил я Хасана, не желая показывать, как я задет, хотя своим вопросом невольно выдавал себя. Хасан хотел утешить меня, но получилось это у него как-то неловко. Он тратил много слов, говорил слишком серьезно.
– Не знаю. Он справедлив и искренен. Только нет у него чувства меры. Это стало его страстью, как он говорит. И пороком. Он не защищает справедливость, он использует ее для нападения; она стала для него оружием, а не целью. Может, он и не подозревает, что стал языком многих, кто молчит, испытывает удовольствие, решаясь делать то, чего они не смеют, принося к ним их собственное невысказанное слово? Они рады ему, ибо он – их собственная, в искаженном виде явленная потребность говорить, его бы не было, если б они сами посмели эту свою потребность удовлетворить. Он прост и неизбежен, потому что у него есть корни, он необязателен и преувеличен, потому что он один. Поэтому он так груб, поэтому лишен чувства меры. Он убедил себя в том, будто стал совестью города, и бедностью оплачивает это удовольствие. Может быть, иногда он приносит свежее дуновение, подобно ветру, но я не верю, что он в ладах с искренностью или справедливостью. Эти вещи ему кажутся странными. Видимо, он жестоко мстит, получая удовлетворение, и в этом ничего нет от благородной потребности, которую стремятся выразить люди. Он сам стал своим врагом, превратившись в полную противоположность всему, чего, может быть, искренне желал. Возможно, этот человек – предостережение, но никак не указующий перст. Ибо, если бы мы все думали и поступали, как он, если бы говорили откровенно и грубо о недостатках другого, если бы мы вцеплялись в волосы каждому, кто нам не по душе, если бы мы требовали от людей, чтоб они жили так, как мы считаем нужным, мир превратился бы в еще более страшный дом для умалишенных, чем он есть. Жестокость во имя справедливости ужасна, она связывает по рукам и ногам, убивает лицемерием. Я предпочитаю жестокость, основанную на силе, по крайней мере ее можно ненавидеть. А так мы уходим в сторону, сохраняя по крайней мере надежду.
Я не думал, верно ли то, что он говорил, и искренен ли он. Я знал, что он на моей стороне, что он защищает меня от нападения: он почувствовал, что мучает меня. И ничем он так не успокоил бы меня: ни насмешкой, ни резкостью, ни полным отрицанием,– как этим потоком слов, будто специально предназначенных для моих ушей. Это убеждало, ибо не было мелочно, оставляло за мною право завершить мысль, защититься. Злобный комедиант! – с гневом думал я. Бешеный пес! Встал над миром и плюет в каждого, в правого и в виноватого, в грешника и в жертву. Что он знает обо мне, чтобы судить!
Но гнев мой улетучился быстро. Вскоре я позабыл об Али-ходже, а приятное тепло от слов Хасана продолжало согревать меня. Я больше не думал о смысле сказанного, я знал, что это красиво и доставляет мне удовольствие. Хасан вновь протянул руку, защитил меня. А это много важнее глупого каприза спятившего Али-ходжи.
И пока Хасан рассказывал хаджи Синануддину Юсуфу о нашей встрече, я размышлял о том, какой мой друг добрый и внимательный человек, какое счастье, что он встретился мне на пути. Они смеялись, хаджи Синануддин – тихо, одними ясными глазами и уголками губ, Хасан – громко, обнажая перламутр ровных зубов, беседовали, не пытаясь быть ни слишком умными, ни слишком серьезными, не сдерживая себя, болтали, как дети, как друзья, которым доставляет удовольствие общество друг друга.
Хасан преувеличивал, искажая слова Али-ходжи. Будто тот не захотел прийти, потому что боится хаджи Синануддина. Забота об узниках доставляет удовольствие хаджи Синануддину, как охота, как кости, как любовь. Мир без заключенных погубил бы его. Как бы тогда проявлялось его благородство? Он не мог бы жить без них, и, если б они исчезли, он был бы несчастлив и растерян. Он отправился бы к властям просить, чтоб они не губили его, чтоб арестовали кого угодно! Горе мне без заключенных! А если б не нашлось ни души, он предложил бы арестовать своих друзей, чтоб иметь возможность проявить о них заботу. Так лучше всего можно доказать свою любовь.
– И ты б, наверное, тоже доставил мне такое удовольствие,– смеялся старик, принимая шутку Хасана, его совершенно не волновало, что в действительности сказал о нем Али-ходжа. И тут же отпарировал:
– А что он о тебе сказал? Что ты одинаково не способен ни к добру, ни к злу? Так он, видно, подумал?
– Плох, если не видит личной корысти, хорош, если не надо ни за что отвечать. Нечто вроде грешного ангела, порочной девицы, честного жулика.
– Испорченный и благородный, смиренный и робкий, рассудительный и упрямый. Всякий. И никакой.
– Не очень ты высокого мнения обо мне.
– Нет,– произнес старик озаренно,– не очень. И взгляд его говорил: люблю тебя.
Тихо и приятно было в этой чистой лавке, свежестью пахло от вымытых, еще влажных половиц, в каменную раму распахнутых дверей струилось мягкое тепло летнего дня, слышался дробный перестук молоточков ювелиров, словно в детской игре, словно во сне. Под сводчатым каменным потолком притаился зеленоватый полумрак, отбрасываемый тенью развесистого дерева, подобно тихому отсвету глубокого водоема. Я чувствовал себя хорошо, приятно, уверенно. Пока Хасан рассказывал об Али-ходже, я знал, что он ничего не скажет обо мне, я не боялся ни предательства, ни неосторожности. В присутствии этих двух людей спокойствие опустилось на меня, как цветочная пыльца, как летняя роса. Они были двумя тенистыми деревьями, двумя чистыми источниками. Внушил ли я себе это, или же мои воспоминания превращались в запах, но мне казалось, будто я в самом деле вдыхаю свежесть и мягкий аромат, струившийся в воздухе: не помню, не то хвои, не то лесных трав, весеннего ветерка, утра байрама, чего-то дорогого и чистого.
Давно не доводилось мне наслаждаться столь безмятежным покоем, каким одарили меня эти два человека.
Их подобная лунному свету чистота, их дружба без пафоса и пышных слов, их удовлетворение всем тем, что они знают друг о друге, заставили и меня улыбаться, разбудив во мне уснувшую желанную доброту, подобную той, какая заливает нас, когда мы смотрим на детей. Я словно и сам стал прозрачным, легким, исчез след того злонравного бремени, которое долго угнетало меня.
– Давай-ка женим тебя, чтоб ты успокоился,– с ласковой укоризной говорил старик Хасану, наверняка уже не в первый раз.– Давай, разбойник!
– Рано мне, хаджи. Мне же нет еще и пятидесяти. Да и многие дороги ждут меня.
– Неужели тебе не надоело, бродяга! Сыновья с нами, пока мы сильны, и покидают нас, когда они нужны нам.
– Оставь сыновей, пусть идут своей дорогой.
– Оставляю, бродяга! Неужели мне и пожалеть нельзя?
Тут я перестал улыбаться. Я знал, что сын хаджи живет в Стамбуле. Может быть, это из-за него он стал заботиться о заключенных, чтоб заглушить печаль, ибо годами не видел его. Может быть, потому он привязался к Хасану, что тот напоминал ему сына.
– Ну вот,– обратился Хасан ко мне, шутливо укоряя старика,– жалеет, что его сын получил образование, а не стал ковать чужое золото в этой лавке, что живет в Стамбуле, а не в этом протухшем городе, что посылает ему полные уважения письма, а не требует денег на кости и на блудниц. Скажи ему, шейх Нуруддин, чтоб не брал греха на душу.
От моей растроганности не осталось и следа. То, что хаджи Синануддин сейчас ответит ему, или мог ответить, как сомнительно счастье в чужом краю, важнее всего любовь и тепло между теми, кто готов отдать тебе свою кровь, могло и мне напомнить об отце и брате. Могло, но не напомнило. То, что Хасан обратился ко мне впервые в течение всего разговора, без нужды, просто из учтивости, чтоб я не скучал, напомнило мне, что я здесь лишний, что им хватает друг друга.
Только что я был уверен, что Хасан не упомянет об обиде, которую нанес мне Али-ходжа, знал, что он пощадит меня. Теперь же я подумал, что в их разговоре просто не было для меня места. Меня отрезвило его запоздалое внимание, оно все испортило.
Трудно было расстаться с благодатным покоем, которым я был наполнен, с добрыми воспоминаниями, которые хотелось удержать, но я никак не мог подавить свои сомнения. Слова Али-ходжи о себе и о хаджи Синануддине он передал, сделав их даже тяжелее, чем они были на самом деле. Обо мне же умолчал. Только ли из учтивости?
Почему он не вспомнил их? Отчего хотел меня пощадить, если в самом деле считал того безумцем? Нет, не думает он, что тот безумец, оттого и умолчал. Он понял, почему Али-ходжа не пожелал меня видеть. Для Али-ходжи и для всего городка я больше не существую. Ни образа, ни голоса его, сказал он. Нет его, нет шейха Нуруддина, скончалось его человеческое достоинство. А то, что осталось, лишь пустая чешуя от существовавшего некогда человека.
Если же он думал иначе, неужели он мог так шутить, как и со всем прочим? Или он хотел пощадить мои нервы? Если так, то я в выигрыше, хотя мне и больно.
И пока я пытался освободиться от сжимавшего мое сердце обруча, не слыша, о чем говорят эти люди, я вдруг увидел, как по улице прошел человек, из-за которого течение моих мыслей мгновенно изменилось. Я позабыл и о презрении Али-ходжи, и о необъяснимом умолчании Хасана. Мимо лавки прошел Исхак, беглец! Все было его: и походка, и уверенная манера держаться, и спокойный шаг, и бесстрашие!
Сказав какие-то слова, чтоб оправдать свое внезапное исчезновение, я выбежал на улицу.
Но Исхака не было. Я поспешил в соседнюю улицу, ища его. Откуда он здесь взялся? Посреди бела дня, в своей одежде, никуда не торопясь, как он осмелился, чего он ищет?
У меня перед глазами стояло его лицо, каким я увидел его из полутьмы лавки, сверкающее и ясное, как в ту ночь, в саду текии, это он, у меня почти не было сомнений, я вспоминал его черты теперь, после всего: это он, Исхак. Не думая о том, почему мне это нужно, почему мне важно его видеть, я искал его; как жалко, что люди не оставляют запаха, подобно хорькам, как жалко, что человеческий взгляд не проходит сквозь стены, когда желание становится безумным, я хотел окликнуть его по имени, но у него нет имени, почему ты появился, Исхак, не знаю, хорошо это или плохо, но это необходимо, ведь он тогда сказал: я приду однажды, и вот он пришел, вот оно, это однажды, и все снова ожило во мне, и боль, и страдание,– как прежде, я думал, что оно умерло, обратилось в прах, я думал, что оно погрузилось на самое дно души, недостижимое, но вот нет же. Исхак, где ты? Мысль ли ты, семя ли ты или цветок моей тревоги? Я видел его в ту ночь в саду, и сейчас я его увидел, только что, на улице. Это не призрак. Но я не могу догнать его.
Потерпев неудачу, я вернулся обратно в лавку.
Хасан посмотрел на меня и ничего не спросил.
– Показалось, будто знакомый прошел.
К счастью, они не обратили внимания на мою растерянность, наверняка успели покончить со всеми своими заботами, пока я искал Исхака, и теперь вели разговор иной, другим тоном, другими словами. Мне безразлично, дружба их стала тягостна для меня. Она казалась несозревшей. Или просто красивой ложью. То, что сейчас происходит во мне, гораздо серьезнее и важнее.
Снова отключил я окружающий мир, и тотчас заросла тропа, что вела меня к людям, я думал об Али-ходже, об Исхаке, о себе, встревоженный и омраченный.
Их разговор не касался меня, я слушал его, не понимая.
– Не хочу,– говорил Хасан, отвергая что-то.– Нет у меня ни времени, ни охоты.
– Я думал, ты храбрый.
– Разве я говорил, что я храбрый? Не стоит дразнить меня. Я не хочу в это вмешиваться. И лучше было б и тебе не влезать.
– Робкий, упрямый, никакой,– тихо заключил старик.
В его голосе не было больше любви.
Вот так лучше, малодушно думал я, бессознательно оправдывая свое уединение. Так лучше, без сладких слов, без пустых улыбок, без обмана. Все хорошо, пока нам ничего не нужно, а друзей искушать опасно. Человек остается верен сам себе.
И пока, оговаривая других, я утолял свою тревогу, без радости и без злорадства, в лавке стало темнеть, голубые тени превратились в черные.
Я обернулся: в каменной раме дверей стоял муселим.
– Заходи,– пригласил его хаджи Синануддин, не поднимаясь с места.
Хасан встал, спокойно, без суеты, и указал ему, где сесть.
Я отодвинулся в сторону, хотя в том не было необходимости, невольно выказав свою растерянность. Впервые после смерти Харуна я видел его вблизи. Я не знал, какой будет наша встреча, не знал этого и сейчас, пока смотрел на него встревоженный, переводя взгляд с Хасана на хаджи Синануддина, на свои руки, смятенный и напуганный, не перед ним, но перед собой, потому что не знал, что произойдет, наброшусь ли я на него в самую худую минуту и самым худым образом или же страх заставит покорно улыбнуться вопреки тому, что я чувствовал, за что буду презирать себя всю жизнь. Я терял присутствие духа, чувствовал, как у меня сосет под ложечкой и кровь мучительно приливает к сердцу. Я взял табакерку, которую протянул мне Хасан (неужели он уловил мою тревогу?), и, с трудом открыв крышку, начал собирать тонкие желтые волокна, просыпая их дрожащими пальцами на колени. Хасан взял табакерку, наполнил чубук и протянул его мне, я курил, втягивая обжигающий дым впервые в жизни, сжав обе руки, я ждал, что муселим посмотрит на меня, скажет что-нибудь, а пот заливал мне глаза.
Нет, он не сядет, объяснил муселим хаджи Синануддину, он забрел случайно, проходя мимо, и вспомнил, что надо кое о чем поговорить.
(Прилив крови слабел, дышалось легче, я искоса поглядывал на муселима, он помрачнел, стал еще безобразнее, чем тогда, хотя, ей-богу, не знаю, приходило ли мне вообще когда-нибудь в голову, какой он мрачный и безобразный.)
Это не его дело, но ему сказали, будто хаджи Синануддин не хочет платить сефери-имдадие, «военный взнос», определенный указом султана, а из-за него и другие медлят, а если видные люди, подобные ему, хаджи Синануддину, не исполняют свой долг, чего можно ожидать от остальных, бездельников и захребетников, которым нет дела ни до страны, ни до веры и которые готовы пустить все к черту, только бы их денежки остались нетронутыми в сундуке. Он надеется, что хаджи Синануддин случайно запамятовал, что он забыл или упустил из виду, он сделает это сразу же во избежание ненужной ссоры, которая никому не принесет пользы.
– Это произошло не случайно,– ответил хаджи Синануддин спокойно, без страха и вызова, терпеливо дождавшись, пока муселим выскажет все, что хотел.– Не случайно, и я не позабыл, не упустил из виду, просто я не хочу платить то, что не является законным. Бунт в Посавине – это не война. Зачем тогда платить «военный взнос»? А султанский указ, на который муселим ссылается, к этому случаю не относится, следует подождать ответа Порты на петицию, отправленную уважаемыми людьми, так все думают, и никто ни за кем не идет, если же султан прикажет платить, то заплатят.








