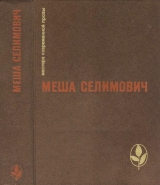
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Меша Селимович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 49 страниц)
Слова мои стерлись, мой рассказ всем надоел, один вид мой наводил скуку. Я превратился в просителя, то есть в последнего человека на земле. Ниже его никого нет.
Постепенно, поначалу сопротивляясь этому ощущению, я обнаружил вокруг себя стену, невидимую и непробиваемую. Она окружала меня как крепость, из которой не было выхода, к которой невозможно было подступиться; я непрестанно бился головой о твердый камень – и уже был весь в крови, весь в синяках, весь в шишках, но продолжал свое единоборство. Мне все время мерещилось, что какой-то выход есть. Должна же быть щелка, неужели стена везде, куда ни ткнешься. Да и не мог я примириться с тем, что меня заживо замуровали, словно тень, которую никто не видит, а она видит всех. Зови, кричи – все впустую, никто ничего не слышит. Еще немного – и начнут проходить сквозь меня, словно я воздух, брести по мне, словно я вода.
Я почувствовал страх. Как же это со мной разделались? Ранить не ранили, убить не убили, и не мертвый я, а меня нет. «Побойтесь бога, люди, неужто не видите меня? – говорю я.– Неужто не слышите?» Но слепо скользят по моему лицу глаза, голос мой не задевает их слуха.
Нет меня!
А может быть, все это мне приснилось? Разум отказывается понять несуразность моего положения. Я жив, я хожу, я знаю, чего хочу, я не согласен, что меня нет. Вы могли меня избить, могли посадить, могли убить – разве мало людей убивали беспричинно? Почему же вы из меня сделали пугало, почему лишили возможности бороться?
Я хочу быть человеком, боритесь со мной по-человечески!
Тщетно.
Пустота вокруг меня становилась все шире, мой безрассудный бунт – все тише.
6. Странное лето
Лето пришло знойное и тяжкое.
Солнце, как бы растапливаясь, в ярости изрыгало пламя, огненные искры падали на землю.
Взбесилась и печь в пекарне под нами, и наша каморка превратилась в ад.
В полдень казалось, что вот-вот вспыхнет и небо, и земля и все кругом превратится в огненную пустыню без конца и края.
Ночью мы спали на узком деревянном балконе, нависшем над двором, походившем на постоялый. В зыбкой тьме двигались тени наших таинственных соседей, лошади били копытами в конюшнях.
Незнакомые люди приходили и уходили по своим неведомым делам, оставляя после себя чувство тревожного ожидания.
– Не бойся, спи,– успокаивал я проснувшуюся Тияну.
– Я не боюсь,– шептала она, но ее глаза следили за безликими ночными тенями.
Однажды утром мы увидели, как гусеницы сжирают сникшую от палящего солнца листву дикой яблони, единственного дерева в нашем дворе. За день они оплели паутиной покалеченные ветви, но соседская ребятня палками и камнями сбила эти украшения с мертвого дерева.
В окрестных садах гусеницы так расплодились, что заткали своей паутиной стволы абрикосов и слив и даже пожухлую траву на засохшей земле. Будто деревья снова зацвели или выпал снег. Через несколько дней паутина покрыла дворы, улицы, окна, домашнюю утварь. Неоглядная армия гусениц приступом брала город.
Люди бросали дома и, нагрузившись скарбом, бежали как от пожара или наводнения. Останавливались на первом чистом месте и, вздыхая, смотрели на испепеленные сады и отнятые гусеницами дома.
И какие только напасти не сваливаются на головы людей!
Гусеницы плодятся с молниеносной быстротой, точно жаждут как можно скорее захватить мир. Прямо на глазах появляются гроздья ничтожных червяков; с невероятной прожорливостью, не зная устали, они грызут, жуют, уничтожают; тонкой сетью оплели стволы деревьев, накрыли дома, затянули землю, вынудив людей уйти на голые камни и умирать там от голода и страха.
Одно горе с нами, людьми, до чего же все-таки мы беспомощны, малодушно думал я, таясь от Тияны, а через дня два я уже не понимал собственного страха: гусеницы погибли, почти все сразу, как по уговору. Остались только шкурки, на солнце превратившиеся в пыль, и глубокое изумление.
Люди вернулись в дома, с гадливостью сбрасывая пряди паутины.
Но тут вокруг Сараева занялись лесные пожары.
Махмуд Неретляк позвал меня за город поглядеть с горы на происходящее. К тому у него были еще две веские причины: поразмять ноги – последнее время его мучили судороги в икрах, да и новое дело он себе придумал – писать заговоры крестьянам Подграба, где не было ходжи.
– Напугались люди,– объяснял он свои соображения,– от всего хотят оборониться. А я знаю заговоры против страхов, против сглаза, против болезней. Им не во вред, а мне на пользу.
Шли мы медленно, часто и подолгу отдыхали – больные ноги Махмуда давали себя знать, хоть он и говорил, что ему легче, когда он ходит, да и спит после ходьбы лучше. Мне было все равно, молодостью и здоровьем я не обделен, ходить привык, недаром день-деньской обивал пороги в поисках несуществующего места – куда приятнее устать просто от прогулки, а не от хождения по мукам в городе; может, хоть ненадолго забуду про свои беды.
Останавливались мы возле родников, под тенистыми деревьями да и в любом другом месте, чуть только у Махмуда начинали сдавать ноги.
Но если ноги и изменяли ему, то язык – никогда. Говорил он не умолкая, продолжая начатое, стоило нам опуститься на землю и перевести дух, говорил обо всем на свете: о людях, с которыми ему довелось встретиться, о Тияне, обо мне, о своей жене, говорил, вознаграждая себя за многолетнее молчание на чужбине и здесь, пока он был один как перст и пока вот не нашел приятеля и слушателя.
Рассказы его небезынтересны – многое ему пришлось пережить, и слова у него весомые, что дается только опытом и страданиями, но все его истории состоят из каких-то не связанных между собой, перепутанных обрывков, каждый из которых имеет собственное течение и собственный исток. Из своей памяти он извлекает не цепь воспоминаний, а лишь отдельные их звенья, осколки безнадежно разрушенной мозаики, которую он и не пытается составить заново. Не доискивается он и до смысла происходящего, не старается докопаться до истины, свести концы с концами, ему достаточно голого факта – разве что-либо еще имеет значение?
Удивительно, что с наибольшей полнотой и связностью он рассказывал о жене. Он не раз возвращался к ней на нескольких привалах, не припутывая к рассказу о ней ничего прочего. Впервые он говорил мне о своей жене. Поначалу я смеялся – так все казалось необычно, но чем дальше, тем все большее удивление вызывало во мне это совершенно незаурядное проявление любви.
Она сейчас уродина, рассказывал он, а в молодости была еще страшнее, только что совсем другая. Раньше за огромными зубами не разглядишь лица, теперь лишь пара обломков торчит между подбородком и толстыми обвислыми щеками, и потому кажется, что она всегда смеется. Лошадиные зубы не дают ей выглядеть сердитой, даже когда она изрыгает проклятья. Она не любит их показывать, знает, что красотой они не отличаются, и по большей части молчит. Но так бывает до тех пор, пока это совпадает с его желанием. А когда он соскучится по ее невольному смеху, он должен ее разозлить, чтоб ее прорвало. И тогда она с лихвой вознаграждает себя за молчание, не заботясь о своей красоте, и он наслаждается ее сочной речью, над которой непрестанно смеются три верхних зуба – загляденье, и только. Речи ее особым умом не блещут, и это хорошо, за себя не стыдно. И все же, надо отдать ей должное, она умнее его, это случается сплошь и рядом, только он не боится в этом признаться, а другие боятся. Как бы там ни было, женщины лучше и умнее мужчин. Не при них будь сказано, мужчины глупы, суетны, самодовольны и, между нами говоря, немногого стоят. Удивительно, как еще нас женщины терпят! По себе знает: что бы он ни натворил, жена всегда встречает его так, словно он из мечети возвращается. Да, они большего стоят, чем мы. Вот, пожалуйста, я человек умный, но Тияна, не в обиду мне будь сказано, умнее и вообще на десять голов выше меня. Конечно, его жена не моя жена, потому что мне выпало счастье, которого я не заслуживаю, но и у него жена хорошая. Не такая уж чистюля – а в чем и где ей быть чистюлей? Не очень бережлива – а что ей беречь-то? Всегда ворчит – так он уходит из дому, и пусть себе ворчит! Ведь она ворчит и когда он уходит, и когда остается, поэтому он поступает как ему заблагорассудится. И что бы с ним ни приключилось, он знает, она дома и ждет его и что снова пойдет жизнь, какую им судил бог. Нет, он в самом деле не сменил бы свою жену ни на какую другую на свете.
Вывод довольно неожиданный, а может быть, и не такой уж неожиданный, если учесть, что вытекал он в равной мере из признания ее скромных достоинств и его собственных несовершенств.
Это простоватое, но благодушное приятие жизни со всеми ее радостями и бедами пришлось мне по душе.
Может быть, мудрость в том и состоит, чтобы не требовать многого ни от себя, ни от других?
Хорошо это или плохо – знать подлинную цену и себе и другим? Плохо, когда эта цена небольшая, но хорошо, когда выше ты и не заносишься.
– В мире живут несовершенные люди,– сказал я.
– Что ты говоришь?
– Стихи сочиняю.
– Как это стихи сочиняются? Можно послушать?
В мире живут несовершенные люди.
Все прочее – вранье.
Или смерть.
Совершенные люди – в могиле.
Но они ведь уже не люди.
– Это обо мне?
– Обо всех.
– Господи, интересно-то как! И я знаю, что люди – создания несовершенные, но, когда я про это говорю, вроде бы ничего и не сказал. А в стихах получается грустно. И красиво. «Совершенные люди – в могиле. Но они ведь уже не люди». В живых же – в ком чуточку больше зла, в ком чуточку больше добра, иной раз перевесит одно, иной раз – другое. Но зло перевешивает чаще.
– Смотри! – крикнул я, показывая на дым и пламя.– Все горит!
– Вижу.
Дым и тяжелый запах гари чувствовались и раньше, но только сейчас мы увидели горящие до самого горизонта леса. Издалека, с противоположной стороны долины, слышался треск и шум огня, сердитые языки пламени выбивались из огромной завесы дыма, затянувшего лес и небо.
– Грустно,– говорит Махмуд.
Почему грустно? Страшно, пожалуй, но не грустно.
Я гляжу как зачарованный на это неистовство огня без всякого смысла, на эту стихию без души, на это уничтожение без ненависти, меня потрясает легкость, с какой пламя пожирает все на своем пути, движимое лишь избытком сил. Чувства жалости во мне нет, видно, оттого, что гибнут не люди.
А может, и у людей так же? Разгул силы, губительной и беспощадной, убивающей походя, по законам войны, все едино какой – с оружием или без оружия.
Пожар столь же бессмыслен и губителен, как и ненависть.
И вот мысль моя опустилась на землю, как усталая птица.
– Грустно,– говорю и я, представляя себе мертвый черный лес, который останется после того, как ярость огня иссякнет.
Как остались мои товарищи в хотинских лесах, как остаются все невинные люди, погибающие в пламени, зажженном не ими.
Почувствовав внезапную усталость, я сажусь возле Махмуда, которого ноги уже давно заставили сесть.
Вдруг я заметил, что он смотрит не на пожар. Следуя за его взглядом, удивленным, испуганным, озадаченным, я увидел на опушке леса вооруженного всадника. Тот молча наблюдал за нами.
– Кто это? – спросил я Махмуда.
Он не ответил, продолжая неотрывно глядеть на всадника.
Я встал, решив подойти к незнакомцу.
Он неторопливо вытащил короткое ружье из-за пояса и оперся локтем на луку седла, не поворачивая дула ружья в нашу сторону.
Я остановился.
– Любуетесь? – спросил всадник, махнув рукой на пылающие леса.
Махмуд жалко и испуганно улыбнулся.
– Да вот люди рассказывали, приятель и говорит, пойдем поглядим.
– Есть на что.
Говорит незнакомец спокойно, почти тихо, вид у него рассеянный, словно до нас ему нет никакого дела, но смотрит по-прежнему в упор.
И я во все глаза разглядываю, не скрывая своего восхищения великолепием его оружия и красотой коня.
– Арабский? – спрашиваю.
На мой приязненный вопрос он не отвечает – его тяжелый взгляд неподвижен.
– И карабкались сюда только для того, чтобы увидеть это лихо? – по-прежнему спокойно спрашивает он.– Неужто не перевелись на свете такие дурни?!
– Знаешь что, приятель,– рассердился я,– не хватает еще на это спрашивать разрешения. А глумиться над людьми тебе легко, недаром ружье в руках.
– Я ни над кем не глумлюсь. Мне все равно, зачем вы сюда пришли.
– Мы в Подграб собрались. Писать заговоры крестьянам,– заискивающе объяснил Махмуд.
– Так вот, туда вы сегодня не пойдете. Возвращайтесь в город и передайте сердару Авдаге, чтоб он не посылал за мной соглядатаев.
– Какие соглядатаи, господи помилуй и спаси! – возопил Махмуд.
– Такие, как вы.
– А от кого передать? – спросил я.
– От Бечира Тоски.
– Ты Бечир Тоска?
– Я. Слыхал обо мне?
– Слыхал.
– Дурное иль хорошее?
– Хорошее, Бечир-ага,– подобострастно заулыбался Махмуд, показывая желтые зубы.
Да, несчастный Махмуд хватил-таки лишку, и поняли это мы все трое.
– Видишь,– сказал Тоска Махмуду, и на сей раз не рассердившись.– Твой приятель честнее, правда, и глупее. Он хоть промолчал. А ты, брат, врешь. Ну, ступайте и не оборачивайтесь.
Мы не стали ждать повторного приказа, которым он освобождал нас от своего присутствия. Махмуд напрочь позабыл про судороги в ногах, вскочил как мальчишка, и мы быстро зашагали обратно, стремясь поскорее уйти от Тоски и его оружия.
Махмуд начал пыхтеть и спотыкаться на неровной дороге. Тоска уже был далеко, а мы все еще чувствовали на себе его тяжелый взгляд.
Страх пронял меня внезапно, как только я отошел от него.
Тоска, свирепый гайдук, который никого на свете не боялся и ни к кому не знал пощады! А нас отпустил подобру-поздорову.
Махмуд ловил ртом воздух, пытаясь унять хрип в груди, а меня разобрал смех. Махмуд смотрел на меня с удивлением и больше знаками, чем словами, спрашивал, что со мной, чего я смеюсь.
– Ты только подумай,– сквозь смех проговорил я,– какие же мы с тобой бедолаги! Даже сам Тоска сжалился над нами. Не решился и голоса повысить, чтоб мы со страху в штаны не наложили. Смотрит человек на нас и только что не плачет от жалости. А ты туда же: слышали о тебе, как же, хорошее слышали!
Тут засмеялся и Махмуд:
– А что же мне было ему говорить? Дурное о тебе слышал? Я еще в своем уме.
– Да я понимаю. Но все равно смешно.
– Смешно, конечно. Хоть и не очень.
– А что мы скажем в городе? Засмеют ведь.
– Что скажем? Ничего. Засмеют – это пустяки, можно пережить. Не подумали бы чего другое. Кто поверит, что мы случайно встретили Тоску и он отпустил нас, не сказав худого слова?
– Мне самому это кажется невероятным.
– Вот и молчи. Никого мы не видели и никому ничего рассказывать не будем. Самое умное – молчать. Такое сейчас время.
Я согласился с ним, что это и впрямь самое умное.
Однако одно дело – знать, что самое умное, а другое дело – поступать по-умному.
Махмуд знал, что самое умное – молчать, и тут же все рассказал сердару Авдаге.
Авдага велел привести меня.
Я мог от удивления осенять себя крестным знамением, мог выискивать сколько угодно разумных доводов, мог злиться, но все это нисколько не помогало мне понять Махмуда. Видимо, он всегда делает прямо противоположное тому, что думает. Или не способен не говорить о том, что знает. Не способен промолчать даже тогда, когда молчание избавляет от неприятностей.
Махмуд ничего не в состоянии был объяснить.
– Сам не знаю, как получилось,– испуганно твердил он.
– И что он сказал, когда ты ему все выложил?
– Сказал, чтоб шел домой.
Зачем сердар Авдага зовет меня?
Об Авдаге я знал немного. Мало знали о нем и люди, которых я спрашивал. Или не хотели говорить. Пожимали плечами, отмахивались. Его окружала тайна, которую суеверно опасались поминать. Имя и тайна, его окружавшая,– это и был Авдага. Но главное – это его таинственное имя!
Неминуемо попадешь в беду, если водишь дружбу с таким горемыкой, как Махмуд, жаловался я Тияне, пытаясь свалить свою неведомую вину на другого. Но она не поддержала мое намерение. Я знал, что она думает: слонялся без дела, никто тебя не гнал туда, сам дождаться не мог, когда Махмуд позовет, а я сидела дома одна-одинешенька. Не сваливай с больной головы на здоровую, сам виноват!
Так длинный язык Махмуда навлек на меня кучу неприятностей – встречу с сердаром Авдагой, объяснение с собственной женой и еще бог знает какие беды, если злой рок возьмет меня в оборот. Легче всего мне было отыграться на ни в чем не повинной Тияне – я бы уж нашел повод, а потом замолчал бы обиженно, сгорая от сочувствия к себе: даже у самых близких не находишь понимания! Но, к счастью, Тияна предотвратила бурю и ссору, улыбнулась, и моя злость улетучилась. Ее улыбка умнее нас обоих.
– Ну,– сказала она,– чего ты нос повесил? Авдага услышал от Махмуда, теперь хочет услышать от тебя. Ему нужен гайдук, а не два бездельника, которые лезут в горы любоваться пожаром!
Шутливая поддержка Тияны согревала мне душу до самого дома Авдаги, а у Авдаги я опять почувствовал на сердце холод, и этим холодом веяло не столько от сердца, сколько от тайны, его окружавшей.
Все вроде бы обычно – полупустая комната, побеленные стены, пол, закапанный воском, свечи в дешевеньких подсвечниках, окна без занавесок, самая необходимая мебель грубой работы. Да и в Авдаге нет ничего необычного – тихий, вежливый, ни тебе грозных взглядов, которые я себе воображал, ни брани, даже что-то неуверенное есть в его облике: худой, лицо беспокойное, глаза бегают, смотрит в сторону или прямо перед собой. И все равно я не могу отделаться от чувства тревоги. Вокруг него почти ощутимо витает то главное, что составляет его суть, неведомое мне, непостижимое, но неизменное. Только оно и важно, все остальное второстепенно и имеет значение не больше, чем одежда, которую он носит.
О Бечире Тоске он расспрашивал недолго – все уже знал от Махмуда Неретляка. Сказал лишь, что нам повезло (дуракам всегда везет!), ведь Тоске легко было заподозрить в нас соглядатаев. И препираться с ним не следовало – могли жизнью заплатить.
– Я не препирался. Сказал, чтоб он не глумился над нами, и все.
– Теперь уже неважно. Возблагодари бога, что остался жив, и поставь свечу потолще.
От одной мысли, что позвал он меня наверняка по другой причине и что сейчас я услышу главное, мороз продрал меня до костей. Но тут случилось невероятное, как в наивных детских сказках или еще похлеще,– волк залился соловьем! Он заговорил о стихах, которые я сочинил в горах.
Боже мой, ну и язык у Махмуда!
Авдага сказал, что Махмуд всего стихотворения не запомнил, знал только начало, а остальное так перепутал, что и самому смешно стало. Как свалявшаяся кудель. «В мире живут несовершенные люди». А дальше?
Едва придя в себя от изумления, я ответил, что стихи плохие. Топорные, недоделанные. Стихи не должны звучать как обычная речь. Наверное, лучше было бы сказать: «Несовершенные люди – вот что такое мир». Стихи еще должны дозреть.
– Неважно,– говорит сердар.– Я хочу послушать.
Я прочел стихи, несмотря на душивший меня смех. Что ему стихи? Еще удивительнее то, что слушал он с благоговением, с искренней признательностью на озаренном лице.
– Будь добр, еще раз.
Он беззвучно шевелил губами, повторяя за мной слово за словом.
– Написать тебе?
– Я плохо разбираю чужую руку. Да и сам плохо пишу.
Скоро он выучил стихи наизусть и принялся их читать сам – медленно, неумело, раз, другой, третий,– с непонятным мне наслаждением. Я спросил его:
– Любишь стихи?
– Эти мне сразу понравились, как только я начало услышал.
И он снова стал перекатывать слова во рту, прислушиваясь к их звучанию, пробуя их на вкус, со сладострастием высасывая из них смысл, как мозг из кости. Эта неожиданная и необычная любовь к поэзии подняла его в моих глазах, особенно потому, разумеется, что его внимание привлекли мои стихи. Если у него они вызвали такое восхищение, значит, стихи и впрямь неплохие. А если он способен почувствовать их красоту, значит, в нем есть какие-то достоинства, которые он открывает не каждому.
Я забыл про окружавшую его тайну.
– И это все, чем ты занимаешься? Складываешь стихи, и только?
– Службу не могу найти.
– Сам этого добивался, чего ж теперь жаловаться? Хочешь болтать что в голову ни придет? Вот и страдай. Может, ты орден ожидал? Не дурень же ты в самом деле?
– Пьян был.
– Что у пьяного на языке, у трезвого на уме. Вот и открыл себя.
– Слова – воздух, кому от них может быть вред?
– Слова – яд, в них начало всякого зла.
– Что ж, будем молчать!
– Зачем молчать? Есть о чем говорить и не обличая. Помогать надо, а не палки в колеса вставлять. Государство, брат, нешуточное дело, тысячи забот и тревог, в своем-то хозяйстве порядка не наведешь, а тут столько народу! Вот и начинают брюзжать, одному это нехорошо, другому – то. Тоже мне, удивили! Кругом все плохо. Чудо чудное, если что хорошее сыщется: столько людей, и каждый в свою сторону тянет. Ты думаешь, тем, кто государством управляет, легко?
– Нелегко.
– Именно. А ты на них накидываешься! Это, конечно, легче. Вот, к примеру, придет к тебе кто-нибудь в дом и скажет: это ты плохо сделал. Как ты поступишь? Рассердишься и выгонишь из своего дома. И будешь прав.
– Это разные вещи. Мои дела никого не касаются.
– Конечно, разные, коли о тебе речь зашла. А что твои дела никого не касаются, неверно – касаются. Тут ты ошибаешься. Раз живешь с людьми, не следует заноситься.
– Что значит заноситься?
– Да вот власти обличаешь. Почему, спрашивается? Каждый тут же подумает: и женился на гяурке.
– Бога побойся, какой же это грех?
– Ее отец был против властей.
– Если и был против, так он за это жизнью заплатил. А я его и в глаза не видел. С женой двух слов о нем не сказал.
– Если не врешь, значит, жена таится от тебя. Отца забыть нелегко.
– Бог мой, умри я вчера, и не знал бы, в чем моя вина!
– Не было бы на тебе вины, если бы ты людей не обижал. Иной раз невредно и на себя взглянуть, в себе покопаться.
– Значит, быть мне виноватым до самой смерти. Не могу же я сделать так, будто покойного тестя вовсе не было. Или я должен любимую жену бросить?
– Кто тебе об этом говорит? Просто человек с изъяном должен думать, что делает. Особенно когда он не один. Зачем другим страдать от твоих глупостей?
– Ты звал меня, чтоб это сказать?
– Нет. Звал я тебя из-за стихов. А это так, между прочим, к слову пришлось, ни тебе, ни мне вреда не принесет. Пока с человеком не увидишься, не поговоришь с глазу на глаз, он кажется совсем другим. Я думал, ты опаснее.
«И я о тебе то же думал»,– чуть было не сорвалось у меня с языка, так тих и проникновенен был его голос.
И правда, что в нем страшного?
На улице меня поджидал Махмуд Неретляк – будто случайно тут оказался. Но я-то знал, что он ждал меня. Смотрит исподлобья – пытается понять по моему лицу, в каком я настроении, и угадать, что было у сердара Авдаги. Я молчал, словно бы озадаченный.
– Зачем он тебя звал? – спросил он с напускным равнодушием.
Я остановился и хмуро взглянул на него:
– Из-за тебя. Спрашивал, о чем ты говорил с этим разбойником.
– Каким разбойником?
– Еще прикидываешься, что не знаешь. Тем самым, из-за которого придется отвечать и тебе, и мне. Бечиром Тоской. А сам говорил, чтоб обо всем молчать. Теперь нас обвинят, что мы лазутчики Бечира Тоски.
Мне хотелось отплатить ему той же монетой, наградить его страхом, который я сам испытал перед дверью Авдаги.
Однако я тут же раскаялся в свой глупой шутке. У Махмуда перехватило дыхание, он побелел.
– Я рассказал ему только то, что было,– произнес он испуганно.
– А зачем было рассказывать?
– Так ведь это Авдага послал меня в село разузнать про Бечира Тоску. Какой же я лазутчик Бечира Тоски, Ахмед?
Вот те на! Я себе дурака валяю, шутки шучу, а тут грязи по колено! Так вот он пожар, вот они амулеты, из-за которых мы пустились в горы!
– Что же ты, Махмуд, мне голову морочил? И я как последний болван тащусь за тобой по твоим грязным делишкам!
– Я хотел тебе сказать, сколько раз собирался, уже и рот открывал, да не смел: неловко, брат, было. А отказаться не мог, он не спрашивает, пойдешь или нет, «ступай!» – и все тут. Ты, говорит, для такого дела самый подходящий, тебя никто не заподозрит.
– Верно, даже я не заподозрил.
– Так как же теперь могут меня объявить лазутчиком Тоски?
– Боишься сердара Авдаги?
– Еще бы не бояться!
– Бил он тебя в прежние времена?
– Авдага никого не бьет.
– А что ж он делает?
– Убивает.
Теперь пришла моя очередь хватать ртом воздух, как рыба, вытащенная из воды.
Махмуд стал умываться у чесмы, охлаждая руки, долго пил воду из ладоней, переводил дух. Да и мне, видит бог, пришлось сунуть голову под струю воды, чтобы прийти в себя.
Так вот в чем заключается тайна Авдаги, то неведомое, из-за чего люди, услышав его имя, молча отмахиваются. А я, тронутый его благородством и пониманием, читал ему свои глупые стихи про то, что все люди одинаковы, все несовершенны и что нет никакой разницы между ним и другими.
Какую же службу сослужили мои стихи? Дали возможность палачу укрыться за ними. Для спасения своей души, замаранной чужой кровью, он даже пошел на то, что взял себе в свидетели и поручители придурковатого поэта Ахмеда Шабо!
А может, за этим кроется и что-то другое, может, мои стихи лишний раз утвердили его во мнении, что люди совершенны лишь в могиле. А пока они живы, они преступники.
О, злосчастные стихи!
Стыд и раскаяние умерили мою злость на Махмуда. Он пошел на гнусное дело по принуждению, я – по доброй воле.
И вот с этого самого сердара Авдаги начала разматываться ниточка размышлений о том, чего люди обычно не додумывают до конца, но чего все, достигнув поры зрелости, не могут выбросить из головы: что такое наша жизнь? В какие передряги мы попадаем? Когда по своей воле, когда по нужде? Что зависит от нас, на что мы способны сами по себе? Я не мастак мудрствовать, предпочитаю жить, а не размышлять о жизни, но, как я ни крутил, все выходило, что большая часть событий происходит независимо от нас, от нашей воли. Случай распоряжается моей жизнью и моей судьбой, чаще всего я бываю поставлен перед свершившимся фактом, попадаю в одно из возможных течений, а в новое меня занесет другой случай. Я не верю, что путь человека предопределен, ибо не верю, что в мире существует какой-то твердый порядок. Не мы устанавливаем ход событий, мы застаем его таким, какой он есть. Мы вовлечены в головокружительную игру, таящую в себе неисчислимые перемены, в данное время и в данных, только нам выпавших обстоятельствах, которых нельзя избежать. Они твои, как река, в которую ты падаешь, и тебе остается или плыть, или утонуть.
Не очень удовлетворило меня это философствование, но другого ответа я не нашел. Так что же, собственно, принадлежит нам во всей этой сумятице? Что-то ведь должно быть моим?
Сердар Авдага мне не был нужен, я не искал с ним встречи, более того, я не знал его. Но вот он прошел мимо меня и стал неотделим от моей жизни. Никто не просил на то моего согласия, и я не мог избежать этого. Случилось, как и все прочее.
Но как смириться с такой несправедливостью?
Мне не по вкусу была колея, в которую я попал, и я изо всех сил пытался выйти на другую дорогу. Каждое утро я уходил из дому с надеждой, что звезды наконец займут благоприятное для меня расположение и я встречу человека, который мне поможет. Нельзя же допустить, что судьба послала мне лишь сердара Авдагу, который мне без всякой надобности.
Но тщетны были мои надежды – загадочный приговор оставался в силе, я по-прежнему был пустым местом, безгласным и безликим. Меня замечали только те люди, которые нуждались в помощи не меньше меня, если не больше. И сердар Авдага меня заметил, хотя в данном случае я предпочел бы быть невидимым и неслышимым.
В полдень я возвращался, как всякий работающий человек, домой, на столе меня ждал какой-никакой обед. Жена встречала, как всегда, с приветливой улыбкой, словно ей и тужить было не о чем. Здорового молодого мужчину кормили больной Махмуд Неретляк и беременная жена!
Махмуд натаскивал в греческом языке купцов, открывших торговлю с Салониками. Я полагал, что это тоже чистый обман, но люди были довольны, видно, им немного и нужно было – на многое Махмуд был не способен. Давая нам деньги или продукты, он, щадя нашу гордость, аккуратно записывал, сколько мы ему должны.
Тияна работала в доме богатого Мухарем-аги Таслиджака, брата сердара Авдаги. (Позже я узнал, что место ей нашел Авдага по просьбе моего бывшего хозяина Моллы Ибрагима. Не знаю, кому больше удивляться.) Тияна помогала жене Мухарем-аги Рабии-ханум одеваться и прихорашиваться, то есть мазаться и краситься – на это уходили часы. Возраст требовал, а богатство позволяло. Тияна уверяла, что это скорее забава, чем служба, и она совершенно не устает. Даже приятно – деньги платят ни за что, и не приходится все утро сидеть дома одной. Да и недалеко – сад Мухарем-аги примыкает к нашему двору, пройти через калитку, и все.
Месяца два Тияна исполняла свою странную службу, а потом вдруг, запинаясь от смущения, рассказала невероятную историю: Рабия-ханум завела любовника! Самое невероятное во всем этом то, что Рабия-ханум забыла, когда была молода – сорок лет как замужем за Мухарем-агой, а в любовниках у нее молодой парень, который вместе со своим отцом Ибрагимом Пакро жил в нашем дворе, в доме с конюшней. Сыну Пакро двадцать пять, Рабии-ханум под шестьдесят. Любовник вполне годился ей во внуки.
Я рассмеялся: женщинам любовь сбрасывает годы.
– С ума сойти можно! – с гадливостью отозвалась Тияна.
– Сбросила ей годы ты и любовь.
– На лицо кладет столько белил и румян, что кожи не видать.
– И хорошо!
– И волосы красит в черный цвет.
– Тебе-то что за дело?
– Только о нем и говорит, совсем стыд забыла. Голову вконец потеряла. Да и он, сопляк, хорош, как он-то может!
– Она стара и для Пакро-отца.
Кто такие эти Пакро, отец и сын, на что они живут, не знала ни одна душа. Правда, то же самое можно сказать о большинстве обитателей нашего двора, в том числе и обо мне. Говорили, что Пакро из Белграда, что там они кого-то ограбили или убили, но, вероятнее всего, это лишь домыслы, так как они ни с кем дружбы не водили и в откровенности не пускались. Достоверно известно было одно: что вернулись они с хотинской войны и служили в незнакомой мне части.
Тияна решила не ходить больше к Рабии-ханум, не в силах была смотреть на этот срам и позор, и я не возражал, во-первых, потому, что всегда соглашаюсь с ее решениями, а во-вторых, потому, что лучше не искушать дьявола и не позволять молодому человеку приятной наружности (неожиданно я убедился, что молодой Пакро писаный красавец!) постоянно видеть молодую красивую женщину возле сгорбленной старухи, истинного гроба повапленного. Если он слеп, он мог прозреть, а если прохиндей, так почему бы ему не возжелать прелестей и той и другой.








