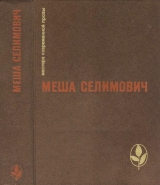
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Меша Селимович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 49 страниц)
Ладно, если он положил глаз на ожерелья ханум, она, конечно, ему ни в чем не откажет, но я разорвал бы его на части за одну ресницу моей жены. Но ему нужны не ресницы.
Когда я поделился своими соображениями с Тияной, она рассердилась не на шутку. И как только такая чушь может прийти мне в голову, неужели я думаю, что стоит мужчине поманить женщину пальцем, и она сразу побежит к нему? До чего же мужчины самонадеянны и испорчены, женщины гораздо порядочнее, и прочее в том же духе, пока я не признал ее правоту, порадовавшись в душе, что мне не о чем тревожиться. Верю тебе, как самому себе, даже больше, чем себе, но сиди дома, так будет лучше! Ведь кто бы подумал, что старуха влюбится в юношу, а вот влюбилась же! В жизни за ней такого не водилось, и все произошло тогда, когда этого меньше всего можно было ожидать.
С живыми людьми чего не бывает!
Через несколько дней сердар Авдага, встретившись со мной на улице, спросил, почему моя жена перестала ходить к Рабии-ханум. И правду ли болтают люди о молодом Пакро и его снохе?
– Нехорошо говорить то, чего сам не знаешь,– сказал я.– А что можно знать и кто может знать? Все это так невероятно, что, если даже и увидишь что-нибудь непотребное, решишь – примерещилось, и только.
– Многое кажется невероятным, а вот случается.
– Не знаю, право.
– Боюсь, беды бы не вышло. Сказали бы вы, что они люди опасные, оскорбляют, грозят, мы бы их посадили или выслали.
– Кто такое скажет?
– Вы с Махмудом.
– Они ни разу на меня не взглянули, ни единого плохого слова я от них не слышал, зачем же возводить на невинных людей напраслину?
– Чтоб беду отвести. Им все равно, где жить.
– А почему ты с братом не поговоришь?
– Поговорю.
– Неужто муж всегда последним узнает?
Но Авдага не поговорил с братом. То ли было неловко, то ли жалко брата стало, то ли понадеялся, что все утрясется само собой, то ли просто опоздал.
Нелепая блажь его снохи обернулась сонмищем бед – наш убогий двор оцепенел от ужаса, люди затаились в своих темных каморках, испуганно вглядываясь в черные окна, за которыми, им чудилось, метались таинственные тени.
Однажды в канун пятницы (позднее, рассказывая об этом, мы всегда добавляли: было это в канун пятницы – верно оттого, что эту ночь положено посвящать молитве да смиренным раздумьям) Рабия-ханум посвятила ночь заботам о муже.
Она впустила в дом своего любовника и его отца, Ибрагима Пакро, провела их в комнату, где безмятежно спал старый Мухарем-ага; отец и сын, дружно работая кинжалами, зарезали его, милосердно порадев о том, чтоб старик умер во сне, ни на мгновенье не приходя в себя, не увидев в свой последний час ни жены, ни злодеев и не испытав ни страха, ни горя, а возможно, и боли. Осталось неизвестным, сделали ли они так ради него, чтоб избавить его от смертных мук, или ради себя, чтоб он не поднял крик и не осложнил дело, или ради ханум, чтоб Мухарем-ага не рассердился на нее, что отправила его на тот свет. Сорок лет прожили в мире и согласии, к чему омрачать конец! Его завернули в покрывало, чтоб не оставлять кровавых следов, затем в попону – получился тюк, взвалили на коня и отвезли в Горицу, имение аги, где и бросили в колодец. Сделав все как следует, коня поставили в стойло, а сами пошли в свою конуру над конюшней и завалились спать, изрядно уморившись – Мухарем-ага был тяжеленек.
Рабия-ханум не сразу легла почивать. Женщина она была чистоплотная и аккуратная, прежде привела в порядок комнату мужа, положила на постель новые подушки, окровавленные наволочки сожгла в кухонной печи, выкупалась, прочла несколько молитв за упокой мужниной души и села у окна ждать рассвета. Душа у нее была чувствительная, и заснуть она не смогла. Ее одолевали разные мысли; месяц, самое большее два, прикидывала она, придется подождать, пока люди позабудут Мухарем-агу, а тогда, тогда… Кто знает, какие прекрасные мечты лелеяла эта отважная женщина, ради любви не пощадившая своего мужа.
Мое дело сторона, но тем не менее мне очень хотелось бы знать, о чем она думала, коротая эту знаменательную ночь. Думала ли она о долгих годах, прожитых с Мухарем-агой, вызывала ли в памяти все дурное, пережитое с ним, ненавидела ли она его раньше, раскаивалась ли, боялась ли, как бы не обнаружилось содеянное, думала ли, что это ее собственный муж и она вольна поступать с ним так, как ей заблагорассудится, или радовалась, что сбросила камень с шеи, вырвалась из тюрьмы, смела последнюю преграду на пути в новую жизнь? Или мечтала об этой новой жизни, обещавшей ей все то, что, казалось, уже давно ушло в прошлое. Снова забирали силу чары любви. И в ее воображении вставал любимый, писаный красавец, ради нее готовый на убийство. За такую любовь, за такое счастье чего не сделаешь, шептала, верно, обезумевшая женщина, судорожно цеплявшаяся за усыхающую жизнь.
На другой день служанке, которая приходила утром, а уходила вечером – ханум не терпела, чтоб чужие люди ночевали в доме,– она сказала, что Мухарем-ага уехал в поместье, в Брезик. То же повторила она и приказчикам, когда те пришли за ключами от лавки, и добавила, чтоб вечером принесли ей всю выручку, снова проявив решительность, деловитость и предусмотрительность.
Еще через день крестьянин из Горицы, по имени Мисирлия, в поисках воды – все родники в округе высохли – заглянул в колодец Мухарем-аги и вначале учуял, а потом и увидел труп Мухарем-аги и как ошалелый побежал в суд, где и рассказал, как нашел то, чего не искал, и что предпочел бы найти воду, а не мертвого Мухарем-агу – и ради Мухарем-аги, добрый был человек, и ради скотины – не знаешь, что с ней и делать, подыхает от жажды.
Весь наш двор сразу понял, кто убийцы, да и у властей не было сомнений. Пакро и Рабию-ханум арестовали, и они тут же признались.
Отец и сын заявили, что зла на Мухарем-агу они не держали, но другим путем нельзя было завладеть его деньгами, а что касается убийства, то тут, как на войне, бросаешься в бой – и либо погибаешь, либо остаешься жив, но на этот раз никому не повезло: ни Мухарем-аге, ни им – как с войны вернулись, ни в чем им удачи нет, вот и сейчас тоже.
Рабия-ханум сохраняла полное спокойствие. «Виноваты судьба и любовь»,– сказала она, не сводя глаз с молодого Пакро. Пожалуй, она, как это часто бывает, и впрямь не понимала своей вины.
Ее раздели донага и отхлестали мокрыми веревками, а потом, полумертвую, повесили. (Ночью я просыпался весь в поту от жутких снов, мне представлялось ее старческое тело и задубевшая увядшая кожа, покрытая кровавыми рубцами.)
Отца и сына удушили – тем и завершился их последний бой.
Странно, что убийцы не пытались скрыться, ведь могли воспользоваться суматохой, поднявшейся, когда сердар Авдага с двумя стражниками неожиданно обнаружили в их конуре неизвестного вооруженного человека. Человек бросился бежать вниз по лестнице, за ним кинулись, а они себе спокойно ждали, пока уляжется вся эта сумятица и их поведут в крепость. О незнакомце они заявили, что знают его по Белграду, что он пришел прошлой ночью и собирался пересидеть у них некоторое время, про убийство они ему ничего не сказали, не желая отдавать себя ему в руки.
Был полдень.
7. Мертвый сын
Был полдень.
Как обычно, я возвращался домой к незаработанному обеду, усталый от тщетных усилий разбить замуровавшую меня стену. Я уже привык искать и не находить, первое зависело от меня, второе – не знаю от кого, себя мне не в чем было упрекнуть, и я не мог злиться на то, что меня не берут. Когда-то в сердцах я грозил ненавистью, но не было ее в моей душе. И сейчас нет. И слава богу.
Будь у меня другой характер, относись я к жизни как к наказанию, я бы озлобился, опустился, спился, превратился в брюзгу, ополчившегося на весь мир.
Не могу. Наперекор всему живу, как живут прочие люди, не отмеченные моим клеймом, радуюсь и огорчаюсь, как все, радуюсь, сталкиваясь с добрыми людьми, хоть иной раз они и поступают дурно, огорчаюсь, встречаясь с людьми злыми, от которых редко увидишь добро, и чувствую себя счастливым, потому что у меня есть любимая жена, она скрашивает мою жизнь и носит моего ребенка. С ребенком нам, правда, станет труднее, но как-нибудь да перебьемся.
Вот одна из загадок нашего мира: столько людей живут неизвестно на что и неизвестно как, а никто еще с голоду не умер! Конечно, не дело встречать нового человека утешением, что с голоду он не умрет, но ведь не всем обязательно предназначена злая доля, всегда можно надеяться на лучшее.
Свои беды я так и не сумел переплавить в мировую скорбь или построить на них глубокомысленную философию. Я родился на свет, как и большинство людей, не для великих дел и совсем о том не жалею.
В меру своих сил я человек честный, зла никому не желаю, людей хотел бы больше любить, чем жалеть, и судьбу молю лишь о том, чтоб меня миновало то, что меня не касается.
Не умолил.
В тот день я возвращался к единственному месту в мире, которое всецело принадлежало мне, в руках у меня была гвоздика – я подобрал ее на улице, смятую и пыльную, ополоснул у чесмы, расправил лепестки, предвкушая, как обрадую Тияну маленьким подарком.
Войдя с палящего солнца в темную подворотню нашего двора, я увидел незнакомца, опрометью скатившегося с лестницы дома, где жили Пакро; вбежав в конюшню, он вывел коня и на скаку вскочил на него. Стражник ринулся было ему наперерез, но тут же отпрянул, и правильно сделал – конь сбил бы его с ног наверняка.
Конь несся в узкую подворотню, всадник, пригнувшись к седлу, вытаскивал из-за пояса пистолет.
Я вжался в стену, благодаря бога за то, что я худой и тонкий и, может быть, уцелею. Но сразу позабыл про конский топот и пистолет, так как со двора вдогонку беглецу затрещали ружья, и мне стало страшно, что в этом сведении счетов пострадавшей стороной буду лишь я, хотя все это меня никоим образом не касается. Пули свистели перед моим носом, пролетая, как невидимые шмели, но не задевая ни меня, ни всадника. И никогда я еще так не радовался чужой неумелости, разумеется не из-за всадника, а из-за себя.
Стражники помчались к воротам, пытаясь наверстать упущенное, но сердар Авдага окликнул их, и они вернулись. Наверное, побоялись, чтоб и Пакро не сбежали.
На моих глазах скрылся неведомый всадник, на моих глазах стражники пошли за убийцами, я понимал, что все кончилось, и все-таки стоял, пригвожденный страхом к щербатой стене.
Мне было стыдно за то, что я так растерялся – от страха кровь в жилах застыла, но об этом я подумал позже, в ту минуту мне было не до стыда. Что вы хотите? Кому охота погибать?
Оторвавшись от стены, защищавшей меня с той стороны, откуда опасности не было, я вошел во двор.
Отец и сын Пакро стояли на лестнице, а стражники поднимались к ним, чтобы свести их вниз, словно те сами не умели ходить.
Почему они не убежали?
Незнакомец убежал. Судьба обошлась с ним круто, она ввергла его в круговорот событий, не имевших к нему отношения и тем не менее грозивших ему погибелью (какая-то вина за ним, наверное, была), но он пренебрег судьбой и разорвал цепь случайностей, уже готовую затянуться у него на шее.
Надо будет на досуге додумать это до конца.
Авдага понуро стоял посреди двора.
– Вот не хотел соврать,– сказал он мне, когда я подошел ближе.– А скольких бед можно было бы избежать!
Неужто на меня хочет взвалить вину?
Говорит хриплым голосом, скорее печально, чем укоряюще.
Что за чушь! Вот уж не подозревал, что и ложью можно пресечь зло!
Ну а не случись беды? Было бы стыдно, что солгал, было бы неловко перед невинными людьми, которым ты за здорово живешь причинил зло.
Сердар Авдага в каждом видит преступника и часто оказывается прав. Я никогда и никого не подозреваю в преступлении и тоже прав. Все предотвратить невозможно. Если всех людей запрятать в тюрьмы, преступлений не было бы. Но и жизни тоже. Я не терплю злодеяний, но предпочитаю жизнь, пусть и не безгрешную, сплошному кладбищу.
Но что ему сказать, когда мне и самому все это ясно не до конца. Да и он, потрясенный смертью брата, новым кровавым подтверждением его дурного мнения о людях, не в состоянии воспринять иного резона, кроме резона ненависти.
И я сказал, искренне ему сочувствуя:
– Жаль, Авдага. Право, очень жаль.
Авдага молча двинулся за стражниками, которые вели убийц.
И тут ко мне подбежал взволнованный Махмуд Неретляк:
– Ты что, не слышишь, зову тебя, зову!
– Что такое?
– Теперь уж все хорошо. Тияна выкинула.
– Что ж тут хорошего, несчастный!
– Конечно, нехорошо, но могло быть хуже.
– А Тияна?
– С ней женщины.
Я помчался домой; когда я входил в подворотню, в руках у меня была гвоздика – думал доставить Тияне маленькую радость, сейчас ее не было, видно, давно выронил, глядя на чужие беды и не подозревая о своей.
Махмуд сбивчиво рассказывал, как пришел ко мне, как у Тияны начались схватки и он побежал звать соседок, и как его выставили из комнаты, и как он увидел меня во дворе и стал звать, а я разинув рот смотрел на то, до чего мне никакого дела нет, и ничего не слышал, а может, это и неважно – пожалуй, и меня, как его, бабы выгнали бы.
– А чего ж ты за мной не пошел?
– Боялся под пули попасть.
Я постучал, соседка приоткрыла дверь и сказала как отрезала:
– Подожди!
Мы ждали: я – глядя на дверь, за которой мучилась Тияна, Махмуд – во двор, в который не решался спуститься, опасаясь стрельбы.
Сейчас, когда все уже улеглось, его охватило волнение, он говорил, перескакивая с одного на другое, без всякой связи, или мне это казалось, потому что у меня самого в голове все перепуталось.
– Вот так-то, Ахмед. Один посеет куколь, а взойдет пшеница, другой бросит в землю чистые семена – и ничего не получит… этих-то повели, словно овечек, и не подумали бежать, господи… а ты не печалься, вы еще молодые, будет ли у вас всегда хлеб, не знаю, а дети будут… да и не хлебом единым жив человек, вот у Мухарем-аги Таслиджака вдоволь его было, да и всего прочего тоже с избытком, жена не дала ему доесть отпущенного богом, а мы, даст бог, свое доедим, пусть и скудное… Эх, господи, помоги и сытым, и голодным… Авдаге-то привалило счастье с несчастьем пополам – брата потерял, зато богатство получил, не знаю, радуется он или горюет – с братом он, почитай, и не говорил вовсе, да и богатство любую боль уймет.
Наконец всемогущие женщины впустили нас в комнату.
Тияна лежала на чистой, заново перестеленной постели, волосы влажные от воды и пота, бледная, глаза ввалились, исхудавшая, измученная, словно после тяжелой болезни.
И пол вымыт, неужто на нем была ее кровь?
«Вы молодые, будут еще дети»,– сказал Махмуд. Нет, не будет больше детей! Она мне дороже, чем эти неведомые опасные творения.
Пальцами я гладил ее прозрачную руку, не решаясь прикоснуться к ней губами. Она с трудом улыбнулась, желая подбодрить меня, и тут же опустила синие веки, точно эта слабая улыбка отняла у нее последние силы.
Она – единственное, что у меня есть, я хотел ей это сказать, но боялся ее потревожить, она потеряла много крови, и сон ей нужней моих дурацких слов, которые даже приблизительно не могут выразить того, что я чувствую. Я забыл войну, несправедливости, унижения, разучился ненавидеть – и это сделала любовь к ней. Все у меня отняли (страстно шептал я самому себе), а ты все возместила. Не встреть я тебя, я бы проклинал жизнь, ничего не имея, впрочем, как и сейчас, но я и не знал бы, что такое счастье. С тобой я не чувствую себя побежденным, не думаю о мести. Я думаю только о тебе, мечтаю только о том, чтоб на твои бледные губы вернулась улыбка и на твои щеки – румянец. Чего я искал в городе, зачем как зачарованный пялился на этих преследуемых безумцев, когда ты корчилась от боли? Конечно, тебе не стало бы легче, если бы я был рядом, но мне было бы тяжелее, и это правильно. Никогда больше не оставлю тебя одну, все, что нас ждет, мы встретим вместе.
Она ничего не слышала. Я шептал ее имя, шептал разные глупые слова – мне хотелось, чтоб сон поскорее вернул ей силы, но я только мешал, врываясь в ее зыбкое забытье.
Я стоял на коленях у постели Тияны, терзаясь от невозможности взять на себя хотя бы часть ее страданий, когда в комнату вошел Махмуд, неся в дрожащей руке стакан лимонада. Кто знает, где он его раздобыл, но я не мог не признать, что его разумная забота оказалась полезнее моей пустой разнеженности.
– Дай ей,– шепнул он, предоставляя мне право проявить внимание за его счет.
Я осторожно приподнял ей голову и поднес стакан к ее губам. Она выпила лимонад мелкими глотками, жадно, словно гасила огонь где-то внутри себя, и благодарно мне улыбнулась.
На Махмуда даже не взглянула.
И снова закрыла глаза.
– Ей сейчас надо еду получше,– сказал Махмуд, когда мы вышли на балкон.
Я кивнул, да, ей надо сейчас хорошо питаться, хоть я и не знаю, как я смогу это сделать.
– И дитя надо схоронить.
Лежало это несостоявшееся дитя, завернутое в окровавленное полотенце, в углу балкона.
Этот кусочек плоти, этого бывшего третьего члена нашей семьи, не пожелавшего родиться на свет живым и здоровым, мы похоронили на Алифаковаце. Похоронную процессию составляли Махмуд и я, ребенка я нес под мышкой – он был привязан к дощечке и завернут в кусок простыни, закопал я его в общий вечный дом, рядом с чьими-то старыми костями.
– Умер, даже не успев родиться,– сказал Махмуд, и это была вся надгробная речь над маленьким безымянным созданием, о котором я уже больше не печалился. Он был моей радостью, пока я ждал его и думал о нем, сейчас я не испытывал к нему никаких чувств.
Вспомнились мне сыновья цирюльника Салиха с Алифаковаца, и я подумал, что так оно, может, и лучше – ждать и не дождаться, чем потерять сына взрослым в неведомых хотинских топях, когда знаешь, кто он и что, когда уже полюбишь его. Тогда горе страшнее.
– Конечно,– подтвердил Махмуд.– Только Салих до сих пор ждет возвращения сыновей.
– Неужели он верит, что они живы?
– Верить можно во что угодно. Ты был у него? Сходил бы.
– Зачем? Что я ему скажу?
– Скажешь, что, когда ты уходил, они были живы и здоровы. Все прочее он сам додумает.
– Надо сходить.
– Доброе дело сделаешь.
Я попросил Махмуда вернуться к Тияне и сменить соседку, что осталась с ней. А я пойду к Молле Ибрагиму попросить денег взаймы.
– Проси больше. У меня тоже ничего нет. Торговцы еще не заплатили.
Я засмеялся. Хорошо, если хоть немного даст, на много надеяться нечего. Да и Махмуд – чудак: дает легко и берет легко, ему не жалко ни своего, ни чужого. Крал у меня и помогал мне, только крал-то по мелочам, смех, а не кража, помогал же всерьез: и Тияну, и меня кормил.
И вот ведь все это знаю, но почему-то не чувствую к нему благодарности, да и он не ждет ее от меня. Может, потому, что живет во мне, хоть и затаенная, мысль о его преступлении и ссылке и даже о том, что он в чем-то ниже меня. Он знал, что другие относятся к нему свысока, но о моем отношении, к счастью, не догадывался. Говоря по совести, я никогда об этом не думал, просто бессознательно принимал его таким, словно его прошлое было неотъемлемой его чертой, как бы родимым пятном, но, когда задумывался, становилось стыдно, что я обманываю его доверие. И снова все забывал.
Я никогда не обижал его, радовался встречам с ним, чувствуя, что этот ребячливый человек в чем-то очень незауряден, но все-таки в душе был несправедлив к нему.
Увидев меня, Молла Ибрагим не удивился, будто знал, что я приду, и считал это в порядке вещей.
– Ты будто знал, что я приду. Не удивился.
– Мы с тобой не ссорились. Почему бы тебе и не прийти?
– Но тебя это не очень радует.
– Ты сегодня не с той ноги встал.
– Когда и с той, мало что меняется.
Я и сам чувствовал, что веду себя непристойно, то ли еще не пережил поруганной дружбы, то ли меня раздражала его доброта: сколько все-таки пакостности в человеке, так и тянет покуражиться над слабым.
Он не рассердился, лишь перевел разговор на другое:
– Как Тияна?
– Плохо.
– Почему? Что случилось?
– Всякое. Отошли куда-нибудь своих помощников, шиплю как гусак.
– Неудобно их прогонять. И потом, нам с тобой нечего скрывать.
– Раз тебе нечего, мне и подавно!
Я представил свое положение насколько мог отчаяннее, да оно и было отчаянным – вот уже месяц, как со мной произошла эта странная история и стал я, благодарение богу, пугалом, белой вороной, хуже разбойника – не знаю только, кому я обязан этим счастьем. То ли властям нужен козел отпущения – все равно кто,– чтобы оправдать свое существование и свою жестокость. И важно не то, что человек совершил, а в чем его обвиняют. Сейчас выбор пал на меня. Ладно. Переживу. Так даже лучше – ни тебе хозяев, ни тебе друзей, ни обязательств, ни благодарности. Да и страх исчез, узнал, как птички божии живут, и могу сказать: чудесно! Мне бы руки ему целовать за то, что прогнал меня со службы, потому что ничего этого я никогда не узнал бы – оставался бы до конца дней своих чьим-нибудь рабом и полагал бы, что иначе и нельзя; как вернулся пришибленным с войны, так никогда бы и не очнулся. Несправедливость, спасибо ей, помогла понять, как прекрасна свободная жизнь, даже со всеми своими тяготами. А еще я увидел, и это дороже всего, какое сокровище у меня жена. Беда, как огонь, превращает в пепел все, кроме золота. Иногда, правда, мелькает мысль: а так уж ли мне повезло – будь у меня злая жена, что вполне могло случиться, было бы на ком душу отвести, на ком отыграться, когда прижмут неудачи. А на Тияне разве выместишь зло? Она, бедняжка, мучится, голодает, латает обноски да еще меня же утешает, словно она виновата. Носила под сердцем ребенка, не доносила, выкинула, кормил я ее плохими вестями и одной любовью, а это сил не прибавляет. Теперь надо накормить ее чем-то посытнее, и ради нее только я и пришел к нему просить денег. Люди, что раньше мне помогали, сами на мели сидят, уж и не знаю, почему и каким образом они не оставляли нас до сих пор. Благородство их выше всяких похвал – ничем я этого не заслужил, но и у него есть предел – люди-то они бедные. Сейчас я в тисках и вынужден просить взаймы у него, делать это мне нелегко, да сейчас не до гордости, речь идет о Тияне, сердце болит смотреть, как она без вины виноватая страдает. А к нему пришел потому, что как-никак друзья были.
– И теперь друзья,– взволнованно вставил он.
– Нет, теперь уже нет, Молла Ибрагим, это ты напрасно. Были друзья, и я думал – на вечные времена, ан вышло по-другому. Жаль, но вина не моя.
– И не моя.
– Значит, судьба. Ничего не попишешь.
Я был зол, подавлен, раздражен и сваливал на его плечи груз своих горестей, хоть и сознавал, что не он повинен в них. Страх в нем все пересиливает, и он, конечно, сам этого стыдится, но ничего с собой поделать не может. Он неплохой человек, и, живи он в других условиях, не таких жестоких и не таких бездушных, он был бы достоин всяческого уважения. Но где эти лучшие времена и наступят ли они когда-нибудь? Не знаю, что-то не верится, одно наверняка знаю – он тоже жертва, как и многие другие.
– Прости,– сказал я мягче.
Он поглядел на меня с благодарностью; с той же легкостью, с какой я взвалил на него обвинение, я снял его, и на его доброй заячьей душе полегчало.
Ему хотелось что-то сказать мне, что-то хорошее, светлое,– это желание я прочел на его потеплевшем лице, но тут же он отказался от своего намерения, побоялся связать себя словом, от которого пользы никому никакой, а ему могли бы быть неприятности.
Я пожалел, что он передумал. От этого его неосторожно вырвавшегося сердечного слова была бы польза и ему и мне; он сбросил бы с души часть темной накипи, меня бы утешило сознание, что, несмотря ни на что, он человек. И я, конечно, скрыл бы это ото всех, чтоб не навредить ему.
Он сделал то, что легче: выдвинул ящик стола, отсчитал деньги и добавил еще – сверх того, что определил раньше.
– Когда верну, не знаю.
– Неважно. Нужно будет, приходи.
– Боюсь, долго еще будет нужно.
– Плохо, что так говоришь. Значит, не станешь ничего делать, чтоб было иначе.
– Разве моя в этом вина, Молла Ибрагим?
– Не вина, так беда.
– В чем вина? В чем беда?
Он шептал так тихо, что мне пришлось подойти к нему вплотную. Он не хотел, чтоб его слышали помощники за перегородкой, но и оставаться со мной наедине тоже не хотел. Не разговор, а пытка.
– Не знаю. Не знаю, потому что не понимаю тебя. Я хорошо помню крестьян из Жупчи и этот твой смех, когда мы ставили портрет султана на окно. Меня и сейчас пот прошибает, как вспомню.
– Уж слишком одно к другому оказалось близко.
– В жизни все близко.
– Знаю, добро и зло. Злодейство и верноподданничество тоже?
– Разве изменишь все плохое?
– Я не думаю менять. Но то, что плохо, вижу.
– Так поэтому надо себя губить? Нет, не понимаю я тебя! Будь ты бунтовщиком, стиснул бы зубы и боролся. Ничего бы ты не добился, но хоть цель была бы, пусть и обманчивая. А ты хочешь правду-матку в глаза резать, а расплачиваться не желаешь, оскорбляешься, обида и злость тебя гложут. Стало быть, ты не бунтовщик. Бунтовщики сами бьют и не удивляются, когда их бьют. Или ты все принимаешь близко к сердцу, и поэтому тебе особенно обидны все эти пакости? Не сказал бы. Нет, не понимаю я тебя. Не знаю, чего ты хочешь, вижу только – губишь себя. Зачем?
– Я был пьян и говорил не думая. Неужто это такой большой грех?
– Погоди, не злись. Я не виню тебя. Просто разговариваем. Ты думаешь, мне было легко?
– Кто тебе велел уволить меня?
– Какое это имеет значение? Болтал, говоришь, не думая. Что ты думаешь, никому не интересно, важно, что ты делаешь. Мысли принадлежат только тебе, дела – всем.
– Какие дела? Я не украл, не ограбил, не убил. Пустые слова – это что, дело?
– Тише! Почему тебе непременно надо, чтоб все тебя слышали? А слово – дело, да еще какое! Если бы ты украл, ограбил, тебя, пожалуй, простили бы. А ты говорил о том, о чем умные люди молчат. Такого не прощают.
– Я сказал правду!
– Тем хуже. Слово – порох, раз – и вспыхнет. Недовольных всегда много, разных, но сами по себе они не загораются. Слово зажигает их.
– А зачем же мы тогда так бережем этот порох? Почему не даем вспыхнуть накопившемуся недовольству?
– Нет, ты не так наивен. Не спьяну ты болтал. Теперь я это вижу. Погибнешь ты, и я даже не узнаю за что.
– Разве честность такая тайна, Молла Ибрагим?
– Не честность тайна, а твои поступки. Я много о тебе думал. Попробую объяснить.
– И понял что-нибудь?
– Говорю, попробую объяснить. На войну ты ушел совсем зеленый, неопытный, честный, как большинство молодых людей. Пришел с войны таким же незрелым, каким и ушел. Только в полной растерянности, потому что не допускал в людях такой жестокости. Но еще больше выбила тебя из колеи жестокость мирной жизни. Ладно, думал ты, война – вещь страшная, но мирная-то жизнь почему такая? И решил ты, что люди этого не видят и твой долг раскрыть им глаза.
– А разве не так?
– Не попади ты на войну, жизнь бы тебя постепенно обкатала, обломала, обтесала и ты незаметно пошел бы по проторенной дорожке и не подозревая, что может быть иначе. Вот тебе мое объяснение: война лишила тебя школы жизни.
– На войне я многому научился. Слишком многому.
– Но не тому, что нужно в мирной жизни. Война суровая, но честная борьба – как у зверей. Мирная жизнь тоже суровая борьба, но бесчестная – как у людей. Разницу улавливаешь?
– Учусь полегоньку.
И тут Молла Ибрагим резко переменил разговор, удивительно, как он отважился и на то, что сказал.
– Жаль мне Тияну. И тебя жаль. Постараюсь тебе помочь.
– Как?
– Не знаю еще. Подумаю.
Так мы нашипелись вдоволь, как гусаки, сохранив при себе то, что другие хотели бы слышать, предоставив безусым писарям за перегородкой упрекать нас в себялюбии и несправедливости. Немногое смогут сказать они тем, кто их будет расспрашивать о нашем разговоре.
Все эти мудрствования не открыли мне ничего нового, кроме того, что Молла Ибрагим думал обо мне больше, чем я полагал. И на том спасибо. Объяснение его любопытно, но что мне оно? Я был на войне, и изменить этого уже нельзя, упустил время учения, не дал жизни обкатать себя, как река гальку, вот и живу теперь другим непонятный, сам себе неведомый.
Кто я, где, на каком шестке мое место, в каком клане? Какой я? Добрый или злой, легкий или тяжелый, что для меня значат люди и жизнь, к чему стремлюсь, чего жду от себя и от других?
Мне кажется, что я самый обыкновенный человек, почему же я не такой, как все?
Я ли отстраняюсь или меня отстраняют?
Людей я люблю, но что мне с ними делать, не знаю.
Как объяснить им, что из моей памяти не выходят мои мертвые товарищи по хотинским лесам? И что они такое – обвинение или рана?
Кто поймет и кого взволнуют мои маленькие радости, которые могут показаться смехотворными и которые я не поменял бы ни на какие другие на свете – ну, скажем, вслушиваться в глухие шаги ночи, зачарованно смотреть на игру лунного света в листве деревьев, сторожить ровное дыхание спящей жены…
Как и кому втолковать, что мне жалко обоих Пакро, жалко Махмуда Неретляка, цирюльника Салиха с Алифаковаца, старых солдат, что просят милостыню перед мечетью, и молодых новобранцев, которые уходят на войну, не зная, что их там ждет.
Что мне делать с этой своей дурацкой жалостью, от которой никому ни вреда, ни пользы и которая не нужна никому, кроме меня? Да, эта жалость ненужная, глупая, бесполезная, но у меня такое чувство, что без нее от мира осталась бы лишь половина или еще того меньше, да и оставшееся потеряло бы всякую цену, и что без нее я был бы уже не я, а кто-то другой, глухой и увечный, чужой и ненавистный сам себе.
Возле синагоги Сиявуз-паши, где жили, как в крепости, сараевские евреи, я встретил Асима Пецитаву. Он носил сюда воду от Беговой мечети. У ворот, через которые он с утра до вечера сновал со своей ношей, злой на весь мир, он опустил на землю два больших ведра, чтобы передохнуть. Выглядел он до смерти уставшим.
Два больших ведра с водой для других – в этом состояла вся его жизнь.
– Тяжело? – бессмысленно спросил я.
Асим недоуменно посмотрел на меня, то ли не поняв, то ли принимая меня за дурачка. Так или иначе, но ответил он, по своему обыкновению, руганью, сочной и щедрой.
– Правильно,– сказал я.– Особенно если тебе от этого легче.
Махмуд Неретляк ждал меня на балконе, он растирал икры – его все чаще донимали судороги. Он сделал мне знак, чтоб я не шумел: Тияна спит.
– Достал? – шепотом спросил он.
– Нет. Ничего не дал.
– Я так и знал. Бог свидетель, я так и знал. Мелкая душонка у Моллы Ибрагима. С просяное зернышко.
– Откуда ты знал, что он не даст?
– Я ведь тоже ходил к нему – от тебя, конечно.
– Когда ты ходил, чертяка?
– Ну вот, когда! Когда надо было, тогда и ходил!








